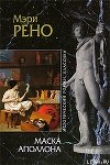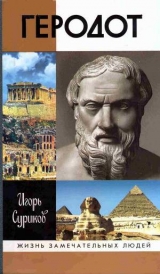
Текст книги "Геродот"
Автор книги: Игорь Суриков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 34 страниц)
Возможно, Гекатей дал эту карту своему земляку Анаксагору в пользование на время поездки. А скорее всего, он подарил ее родному городу, и она стала общественной собственностью. Как бы то ни было, нет сомнений в том, что подготовил ее логограф в ходе работы над одним из своих главных трудов, который назывался «Землеописание». Судя по всему, карта выполняла роль наглядного приложения к нему. Трактат состоял из двух книг и включал описание всех трех известных тогда частей света: в первой книге речь шла о Европе, во второй – об Азии и Ливии (так античные греки называли всю Африку, кроме Египта). Сохранившиеся фрагменты показывают, что это было историко-географическое произведение со значительными элементами этнографического материала. Второй труд Гекатея (он тоже сохранился лишь фрагментарно), состоявший из четырех книг, назывался «Генеалогии». Таким образом, и здесь мы видим интерес к генеалогическим сюжетам, передавшийся логографам по наследству от мифографов: история трактуется Гекатеем именно как цепь родословий, идущих от богов к легендарным героям и далее к «обычным» людям. Постоянно обращался он к различным спорным вопросам старинных мифов, старался провести собственные изыскания и прийти к наиболее убедительным выводам. «Генеалогии» начинаются словами: «Так говорит Гекатей Милетский: я пишу это так, как мне представляется истинным, ибо рассказы эллинов многоразличны и смехотворны, как мне кажется» ( Гекатей. Фр. 1 Jacoby).
Перед нами – самое первое в европейской историографии теоретическое суждение общего характера, дающее чрезвычайно много для понимания особенностей древнегреческого подхода к истории.
Обращают на себя внимание несколько характерных моментов. Во-первых, ярко выражено авторское, индивидуальное начало: уже в самой первой фразе своего труда историк горделиво ставит собственное имя! Это проявление пресловутого «атонального духа», духа состязательности, вообще чрезвычайно сильно во всех сферах древнегреческой культуры, начиная с эпохи архаики. Даже вазописцы – ремесленники самого низкого статуса – часто ставили свои имена на расписанных ими глиняных сосудах. Во-вторых, автор считает своей задачей не столько изложение событий, сколько поиск истины, причем осознает определенную субъективность своего взгляда: «…так, как мне представляется истинным» – и допускает, таким образом, другие точки зрения.
В-третьих, чувствуется критический настрой по отношению к предшественникам-мифографам. Для историка нет ничего очевидного, само собой разумеющегося. Гекатей хочет сам искать и находить. Он стремится посмотреть на вещи по-новому, намеревается писать по собственному разумению, а не так, как отцы и деды, сознательно отказывается от традиции – более того, высмеивает эту традицию и в дальнейшем по ходу своего сочинения не раз критикует ее, предлагая неортодоксальные версии различных событий прошлого.
Вот несколько примеров. Согласно известным сказаниям о Геракле, этот величайший герой по приказу царя Эврисфея посетил подземное царство – Аид, проникнув в него через пещеру на мысе Тенар (на юге Греции), и вывел оттуда чудовищного пса Кербера (Цербера). Гекатей же оспорил этот миф. Он писал: «На Тенаре выросла ужасная змея, а „псом Аида“ ее прозвали потому, что ужаленного ею ждала немедленная смерть от яда, и вот эту-то змею Геракл и отвел к Эврисфею… Думаю я, что змея эта была не такая большая и не огромная, а просто пострашней других змей, и поэтому Эврисфей приказал привести ее, думая, что к ней не подступиться…» ( Гекатей. Фр. 27a-b Jacoby). Другой миф повествовал о том, что герой Египет (в его честь была, по легендам греков, названа страна в долине Нила) прибыл в Аргос с пятьюдесятью сыновьями. Гекатей пишет по этому поводу: «Сам Египет в Аргос не пришел, а только сыновья его, которых, как Гесиод сочинил, было пятьдесят, а как по-моему, то не было и двадцати» ( Гекатей. Фр. 19 Jacoby).
Как видим, для мышления Гекатея (в этом с ним были солидарны многие другие логографы) характерно стремление дать сверхъестественным элементам мифологии разумное объяснение. Отсюда – критическое восприятие мифологической традиции; а именно из такой критики во многом и вырастает историческая мысль. Гекатей и в жизни был рационально мыслящим, мало обремененным пиететом к традиционной религии, раз предложил забрать храмовые сокровища для военных целей.
Однако его рационализм имел свои границы, сплошь и рядом переплетался с унаследованной от предков наивной верой в чудесное. Миф об адском псе Кербере кажется ему несогласным с доводами разума. Но вот другой фрагмент из его труда: «Оресфей, сын Девкалиона, пришел в Этолию на царство, и собака его родила стебель, а он велел его зарыть, и из него выросла лоза, обильная гроздьями…» (Гекатей. Фр.15 Jacoby) – Пес с тремя головами – это невероятно, а собака, родившая стебель, – почему-то вовсе не удивительно.
Одним словом, в картине мира Гекатея чудесное не исчезает совершенно; скорее лишь несколько уменьшается его количество. О том же свидетельствует цитированный выше фрагмент о сыновьях Египта. Отвергнув традиционное их число, называвшееся в мифах – пятьдесят, – логограф предлагает взамен собственную цифру – не более двадцати.
Между прочим, подобного рода пассажи демонстрируют какую-то поразительную нечуткость к мифопоэтической традиции, стремление подогнать ее образы под мерку плоского рационального мышления. Ведь 50 сыновей Египта – это вырванная из контекста мифологема. А если рассматривать ее в общих рамках мифа – грандиозного мифа об аргосском царском доме, охватывавшего целый ряд поколений, – то выясняется: их должно быть ровно 50, не больше и не меньше. Почему? Да потому, что им предстоит насильственно взять в жены 50 своих двоюродных сестер – Данаид. И 49 из пятидесяти девушек в первую брачную ночь убьют своих мужей, за что потом будут нести вечную кару в Аиде, без конца наполняя водой дырявый сосуд. И только одна, Гипермнестра, пощадит своего супруга Линкея, и от их брака произойдет знаменитый род, к которому принадлежали и Персей, и Геракл… В мифе всё взаимосвязано, соединено тонкими, невидимыми на первый взгляд ниточками. И Гекатей действительно их не замечает – или они его не волнуют. Важен только банальный здравый смысл: не могло быть у одного человека пятидесяти сыновей – и всё тут.
Таким образом, Гекатей, как и другие логографы, даже несколько бравируя своим рационализмом, в создаваемых ими произведениях ничтоже сумняшеся вносил изменения в общеизвестные мифы. Причем, похоже, новые версии они придумывали, исходя из собственных представлений о том, что возможно, а что невероятно. Если это и рационализм, то мало схожий с тем, который считается научным. Рациональное отношение к мифу выливается в его произвольное исправление и вторичное мифотворчество. Историк думает, что достоверно реконструирует прошлое – а на самом деле он его конструирует, причем с помощью вездесущего мифа. Фактически логографы выступали как некие «новые мифотворцы», ставили мифы «собственного изготовления» на место старых. Кстати, точно такими же мифотворцами были не только первые историки, но и первые философы. Судя по всему, это было неизбежно на столь раннем этапе развития европейской мысли. Да и разве не утратили бы труды тех и других значительную долю своей прелести, если бы логика в них не перемешивалась с мифом? Не будем забывать о том, что история в Древней Греции находилась под покровительством одной из девяти муз – Клио, – а стало быть, воспринималась скорее не как строгая наука, а как искусство, наподобие эпоса, лирической поэзии или драмы. А историки, получается, в каком-то смысле были жрецами и пророками Клио.
Гекатей – при всем его рационализме и критицизме – не подвергал ни малейшему сомнению существование олимпийских богов. Более того, он был абсолютно уверен в собственном происхождении от небожителей. Чрезвычайно интересно свидетельство Геродота (вне сомнения, позаимствованное из труда самого Гекатея) об одном эпизоде египетской поездки милетского логографа: «Когда однажды историк Гекатей во время пребывания в Фивах перечислил жрецам свою родословную (его родоначальник, шестнадцатый предок, по его словам, был богом), тогда жрецы фиванского Зевса поступили с ним так же, как и со мной, хотя я и не рассказывал им своей родословной. Они привели меня в огромное святилище Зевса и показали ряд колоссальных деревянных статуй… Каждый верховный жрец ставил там в храме еще при жизни себе статую. Так вот, жрецы перечисляли и показывали мне все статуи друг за другом: всегда сын жреца следовал за отцом. Так они проходили по порядку, начиная от статуи скончавшегося последним жреца, пока не показали все статуи. И вот, когда Гекатей сослался на свою родословную и в шестнадцатом колене возводил ее к богу, они противопоставили ему свои родословные расчеты и оспаривали происхождение человека от бога. Противопоставляли же они свои расчеты вот как. Каждая из этих вот колоссальных статуй, говорили они, это – пиромис и сын пиромиса, пока не показали ему одну за другой 345 колоссальных статуй (и всегда пиромис происходил от пиромиса), но не возводили их происхождения ни к богу, ни к герою. „Пиромис“ же по-эллински означает „прекрасный и благородный человек“» (П. 143).
Оказывается, Гекатей не только вел свою родословную от богов, но и педантично подсчитывал ее поколения. С целью доказательства своих «божественных» корней он, очевидно, выстроил целое генеалогическое древо (возможно, оно входило в его труд «Генеалогии»). Как видим, умудренные египетские жрецы только посмеялись над этой наивностью грека, да и для Геродота поведение его милетского предшественника стало предметом некоторой иронии. В то же самое время, когда писал Гекатей, другой иониец, почти его земляк – философ и поэт Ксенофан Колофонский, уже проповедовал идеи, представлявшие собой нечто среднее между пантеизмом и монотеизмом, и подвергал решительному осмеянию антропоморфизм народных верований.
Однако был ли Гекатей столь уж наивен? Думается, дело обстоит несколько сложнее. Великий логограф в своем подходе к родовым преданиям опирался на вековые традиции, сложившиеся в среде греческой аристократии, к которой он и сам принадлежал. Божественное происхождение знати – причем в глазах отнюдь не только ее самой, но и рядовых граждан – было чем-то само собой разумеющимся, фактом, не нуждающимся в доказательствах и не подвергавшимся сомнениям. А в Египте Гекатей встретился с совершенно иной традицией – не аристократической, а жреческо-бюрократической, в которой положение индивида зависело не от «благородства» его происхождения, а исключительно от места на иерархической лестнице, на вершине которой стоял царь; близкими же к богам могли быть только священнослужители, составлявшие особую касту.
В произведениях логографов находим причудливое переплетение юного торжествующего рационализма с базовыми религиозными верованиями, широкий спектр интересов, критицизм по отношению к предшественникам, стремление опереться на собственное понимание истины… Если говорить о стиле изложения этих первых исторических трудов, то он простой и безыскусный, а местами даже деловой.
Не приходится сомневаться в том, что логографы, наряду с поэтами рубежа эпох архаики и классики, выступили в роли непосредственных предшественников Геродота. Почему тогда именно он – «Отец истории», коль скоро он был не первым в своей области изысканий? Насколько он нов и оригинален как представитель античного историописания? Чем его сочинение отличалось от сочинений логографов и имело ли оно с ними какие-нибудь черты сходства? На все эти вопросы нам предстоит ответить.
Но предварительно нужно рассмотреть еще одну – едва ли не принципиальнейшую – особенность раннегреческой исторической мысли, которая проявилась уже у логографов, а затем нашла еще более полное воплощение у Геродота.
От хроники – к исследованию
«Ах, Солон, Солон! Вы, эллины, вечно остаетесь детьми, и нет среди эллинов старца!.. Все вы юны умом, ибо умы ваши не сохраняют в себе никакого предания, искони переходившего из рода в род, и никакого учения, поседевшего от времени» ( Платон. Тимей. 22Ь).
Если верить Платону, так будто бы говорил египетский жрец, беседуя в начале VI века до н. э. с Солоном – прославленным афинским мудрецом, прибывшим в ходе одного из своих путешествий в долину Нила. Конечно, Платон был великим фантазером, творцом грандиозных мифов. Некоторые из этих мифов, кстати, даже по сей день властвуют над человечеством, как, например, миф об Атлантиде {80} . И вряд ли разговор между афинянином и египтянином, который он описывает, когда-либо имел место в действительности. Но дело здесь не в точной и скрупулезной передаче конкретных фактов, а в общем понимании ситуации, и в этой сфере Платон проявил удивительную проницательность, блестяще подметив различие в мировосприятии между греками и жителями Древнего Востока.
Правда, несколько странно читать подобное применительно к цивилизации, в рамках которой, по общепринятому и справедливому мнению, возник сам феномен исторической науки. Однако средства фиксации исторической памяти действительно оказались в античной Греции существенно иными по сравнению с любым традиционным обществом.
Еще задолго до греков или одновременно с ними на обширных просторах Востока – от Египта до Китая – начали появляться произведения, которые при всем их разнообразии явно принадлежат к одному жанру – исторических хроник {81} , фиксировавших деяния царей, войны и союзы с соседними странами, подавление внутренних мятежей, возведение монументальных построек. Очень рано сформировался тот же жанр в Древнем Риме: вначале в достаточно примитивной форме (фасты, анналы), затем – в более развитой. Впоследствии хроники получили широчайшее распространение в Византии, Западной Европе; к ним можно причислить и русские летописи.
А вот греческой исторической мысли подобный «хронографический» подход долго оставался чужд {82} , хотя обычай ежегодных записей грекам был знаком. В большинстве греческих полисов в практических (прежде всего календарных) целях составлялись списки следующих один за другим эпонимных магистратов [55]55
Эпонимный магистрат – высшее должное лицо полиса, именем которого в этом полисе обозначался год в архаическую и классическую эпоху.
[Закрыть](например, в Афинах – первых архонтов {83} ). Однако никакой информации собственно исторического характера к их именам, насколько можно судить, не добавлялось. Не случайно первые греческие историки (логографы, Геродот) при составлении своих произведений должны были ввиду отсутствия письменных хроник опираться почти исключительно на данные устной традиции в тех случаях, когда давность описываемых событий не позволяла «снять показания» с непосредственных свидетелей происшедшего {84} . Жанр хроники стал органичным достоянием греческой культуры лишь в результате греко-восточного синтеза эпохи эллинизма {85} .
Теперь поставим вопрос следующим образом: коль скоро уже до греков в мире имелись исторические сочинения, то почему же тогда Геродот – «Отец истории»? Почему мы вообще ищем начало этой научной дисциплины в Элладе? Получается, что на самом деле оно имело место не в мелких и раздробленных городах-государствах Эгеиды, а в могучих державах, лежавших в бассейнах великих рек и на их периферии. Вот оно, настоящее «рождение истории»!
Тем не менее, если исходить не из формы, а из содержания, внутреннего духа, в этом ощущается какая-то глубинная неправомерность; чего-то не хватает древневосточным хроникам, что позволило бы сопоставить их «на равных» с тем же Геродотом. Приведем несколько коротких, но показательных примеров.
Египетская хроника фараона Рамсеса III: «Ливийцы и машауаши осели в Египте. Захватили они города западного побережья от Мемфиса до Кербена. Достигли они Великой реки по обеим ее сторонам, и грабили они города Ксоисского нома в течение очень многих лет, пока они были в Египте. И вот я (текст написан от лица самого Рамсеса. – И. С.) поразил их, истребив разом. Я ниспроверг машауашей, ливийцев, себетов, кикешей, шаитепов, хесов, бекенов, повергнув их в кровь, сделав из них горы трупов. Заставил я их уйти до границы Египта…» {86}
Ассирийская хроника Тиглатпаласара I: «Двадцать восемь раз я переправлялся через Евфрат, преследуя арами, в год по два раза. От Тадмора в стране Амурру и Анату в стране Сухи до Панику в стране Кар-Дунияш я нанес им поражение… Жителей этих территорий взял в плен, их богатства привез в свой город Ашшур» {87} .
Анналы Хеттского царства в Малой Азии: «Прежде царем был Лабарна; затем его сыновья, его братья, его родственники по браку и его родственники по крови объединились. И страна была мала, но, куда бы он ни шел в поход, он силой покорял страны своих врагов. Он разрушал страны и делал их бессильными, и моря стали его границами» {88} .
Хроники царей древнего Израиля, вошедшие в ветхозаветную традицию: «В восемнадцатый год царствования Иеровоама воцарился Авия над Иудою. Три года он царствовал в Иерусалиме; имя матери его Михаия, дочь Уриилова, из Гивы. И была война у Авии с Иеровоамом…» {89}
Для нас сейчас абсолютно не имеет значения, кто такие машауаши и арами, где находились Тадмор или Гива. Важно другое – общий принцип изложения материала. Нельзя избавиться от впечатления, что все процитированные тексты, написанные в разное время и в разных регионах, похожи друг на друга как капли воды. И дело даже не в однообразии их тематики: войны, походы, разрушения… В конце концов, греческие историки тоже уделяли военным перипетиям весьма значительное место. Больше поражает удручающая монотонность повествования, некая одномерность взгляда на мир. Древневосточные хроники можно изучать как ценнейшие исторические источники, извлекать из них обильную информацию, но ими решительно нельзя зачитываться, как многие поколения людей зачитывались Геродотом.
Для хрониста мир, в том числе мир человеческого общества, – нечто навсегда данное, само собой разумеющееся. В нем всё идет своим размеренным шагом: государства сталкиваются, одни гибнут, другие возвышаются, власть переходит от одного владыки к другому… Никакой альтернативы, никакого представления о том, что могло бы быть иначе. Всё сухо, серьезно, монументально, и всё переходит в какую-то «дурную бесконечность».
Хроники сливаются друг с другом и вливаются друг в друга. Хронист, начиная свой труд «от сотворения мира», включает в него произведения своих предшественников. Хроника – в известной мере безличный, не авторский жанр. Зачастую она анонимна, иногда псевдонимна. Некоторые древневосточные хроники составлены от лица царей, хотя понятно, что сочиняли их подчиненные-писцы.
По контрасту вспомним, как начинает свой труд логограф Гекатей: «Так говорит Гекатей Милетский». А вот начало «Истории» Геродота: «Геродот из Галикарнаса собрал и записал эти сведения…» Вот первая фраза труда Фукидида: «Фукидид афинянин описал войну пелопоннесцев с афинянами, как они воевали друг с другом» ( Фукидид. История. I. Г 1)… Эта практика прочно, незыблемо укрепляется во всей античной историографии. Ни один древневосточный хронист не написал бы ничего подобного.
Но дело даже не в именах. Древнегреческая цивилизация породила совершенно особую, ни на что не похожую форму историописания. Эллинский историк классической эпохи отнюдь не сродни своему древневосточному, византийскому или древнерусскому «коллеге». Он – не усердный хронист, скрупулезно заносящий в свою летопись событие за событием, «добру и злу внимая равнодушно» (вот уж равнодушия мы у этих авторов точно не найдем!). Он – исследователь.
Древневосточный хронист описывает – древнегреческий историк ищет. Он хочет сам находить, выступает не в роли пересказчика, а порой в роли самого настоящего следователя: сопоставляет свидетельства, поверяет их логическими аргументами.
Собственно, здесь мы выходим на первоначальный смысл греческого слова «история». Этот термин, вошедший из древнегреческого во все европейские языки, когда-то обозначал попросту «изыскание» и даже что-то вроде «следствия». Впервые в античной и мировой литературе в «Илиаде» Гомера ( Гомер. Илиада. XVIII. 501) упоминается некий «истор» (в буквальном переводе – «знающий, сведущий»). Ученые спорят о том, кто он такой: одни считают, что так назывались свидетели в суде, другие видят здесь третейских судей, разбиравших спорные дела. Как бы то ни было, ясно, что изначально «исторы» вообще имели отношение не к описанию и изучению прошлого, а к сфере права и судопроизводства.
Итак, на первых порах «история» – это просто расследование, причем не обязательно именно событий человеческого прошлого. Вполне мог иметься в виду и материал мира природы. Например, главный зоологический трактат Аристотеля назывался «История животных», а труд его ученика Феофраста по ботанике – «История растений». Впоследствии дань этому словоупотреблению отдал знаменитый римский эрудит I века н. э. Плиний Старший, озаглавивший свою фундаментальную энциклопедию «Естественная история». Иными словами, вначале термин «история» ничего специфически исторического не подразумевал {90} .
Вот и ответ на вопрос, что являлось «родиной» истории – Древний Восток или Эллада. В Восточном регионе мы встречаем довольно богатую традицию историописания, но историческая наука в собственном смысле слова возникает впервые у греков. Наука – это прежде всего исследование, в которое каждый настоящий ученый вносит собственный вклад. В греческом мире именно такую картину мы наблюдаем уже начиная с логографов.
Эти черты, отчетливо проявившиеся уже у самой «колыбели Клио», нашли полное воплощение в дальнейшем развитии эллинской историографии. Она всегда оставалась авторской: среди ее представителей мы не встречаем анонимов и почти не знаем псевдонимов. Имеющиеся исключения обязаны своим существованием особым причинам. Иногда из-за плохой сохранности исторического труда имя его автора утрачено. Самый характерный пример – знаменитый «Оксиринхский историк» начала IV века до н. э. Отрывок его произведения был найден археологами на свитке папируса и сразу же оценен специалистами как работа очень высокого уровня. Автор конечно же подписал свое сочинение, но его имя на папирусе не сохранилось. Очень редко встречаются случаи принятия псевдонимов. Так, афинский историк Ксенофонт издал труд «Анабасис» (о походе отряда греков-наемников в самое сердце Персидской державы, в котором участвовал и сам автор) под чужим именем – некоего сиракузянина Фемистогена. Но сделал он это не из принципиального желания скрыть свое авторство, а из стремления подчеркнуть объективность повествования. Ведь он выступал в трактате в качестве одного из главных героев, и ему неудобно было писать о себе самом в первом лице. Другие же свои многочисленные сочинения Ксенофонт подписывал собственным именем.
Типичнейшими признаками произведений греческой исторической мысли всегда оставались стремление к поиску истины и связанные с этим критика предшественников и активная полемика с современными авторами.
В конце V века до н. э. в греческом мире впервые появился интерес к проблемам хронологии. Ею скрупулезно занимались софист Гиппий Элидский, поздний логограф Гелланик Лесбосский и др. Однако хронологические выкладки в это время использовались историками не для составления хроник, а в других целях – в частности, для уточнения спорных датировок событий.
Таким образом, на древнегреческой почве на рубеже архаической и классической эпох появился абсолютно новый, уникальный, ранее нигде и никогда не встречавшийся тип исторической культуры, ориентированной не на простое изложение событий, а на расследование и изыскание, прежде всего на поиск причин происходившего. Показательно, что оба самых ранних полностью дошедших до нас исторических труда – Геродота и Фукидида – начинаются с рассуждений об истинных причинах соответственно Греко-персидских войн и Пелопоннесской войны {91} . Хронист же, в отличие от историка-исследователя, совершенно не обязан вдаваться в область причин.
Исследовательская историческая культура эллинов, можно сказать, даже в корне противоположна «хронографической» исторической культуре многих других цивилизаций. Причины такого положения дел отчасти становятся ясны, если припомнить, что в числе прямых предшественников древнегреческих историков были поэты и мифографы-генеалоги, но не было хронистов.