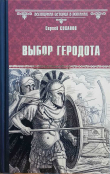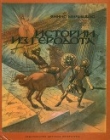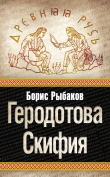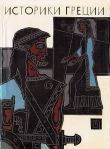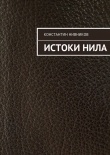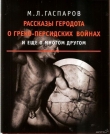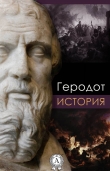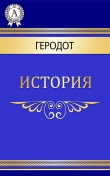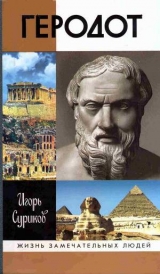
Текст книги "Геродот"
Автор книги: Игорь Суриков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
Замечательный, уникальный рассказ, прекрасно рисующий черты сознания архаических греков! Из него может сложиться полное впечатление, что Клисфен борется с живым человеком и призывает против него на помощь другого человека. А между тем Адраст и Меланипп если когда-нибудь и жили, то за много веков до Клисфена. Но, как видим, ни тиран, ни его современники не сомневались в реальном влиянии на события этих древних героев и в возможности борьбы с ним.
В этом экскурсе Геродот показывает знание топографии Сикиона. Он упоминает пританей – здание, где размещались власти в греческих полисах, – а также рыночную площадь, то есть агору. Говоря о последней, историк специально отмечает, что храм Адраста стоит на ней еще и в его время. Стало быть, храм этот он видел собственными глазами.
Совсем неподалеку к востоку от Сикиона, на перешейке Истм, находился Коринф, лежавший, как мы знаем, на исключительно удобном месте, где пересекались сухопутные и морские пути. Если какой-то город мог быть назван «географическим средоточием» Балканской Греции, то это именно Коринф. Не случайно, если требовалось созвать панэллинский конгресс с участием послов из различных государств Греции, то заседал он чаще всего именно на Истме.
Мы уже высказывали предположение, что впервые Геродот мог побывать в Коринфе еще в юности, направляясь в Дельфы. Во всяком случае, впоследствии «Отец истории» навещал Коринф неоднократно, ведь его практически невозможно было миновать, если путь лежал на Пелопоннес или из Пелопоннеса.
В одном месте геродотовского труда, например, упоминается, что после Саламинского морского сражения победившие эллины решили сделать богам подобающее приношение – несколько захваченных в бою финикийских триер. «Одну послали на Истм, где ее можно видеть еще и поныне», – замечает автор (VIII. 121). Значит, он сам ее видел. На Истме, близ Коринфа, находилось крупное святилище Посейдона, Несомненно, именно ему был посвящен вражеский корабль – в благодарность за то, что бог морей помог грекам одержать верх.
Из сообщений античных писателей ( Дион Хрисостом. Речи. XXXVII. 7; Маркеллин. Жизнь Фукидида. 27) можно заключить, что Геродот проводил в Коринфе свои знаменитые публичные чтения. Сообщаются даже весьма интересные (правда, неизвестно, насколько достоверные) подробности: будто бы историк, не встретив там того приема, какого ожидал, а главное – не получив платы, на которую рассчитывал, переписал некоторые места своего труда – специально чтобы очернить город.
Отношение к Коринфу и коринфянам у Геродота и в самом деле было весьма неоднозначным и противоречивым. С одной стороны, он указывает, что в конце VI века до н. э. коринфяне дважды спасли Афины от спартанского разгрома. Вначале в 507 году, когда Клисфен установил в афинском полисе демократию, а его главный соперник – ставленник Спарты Исагор – был вынужден бежать, лакедемоняне разгневались и послали на Аттику мощное войско Пелопоннесского союза, в котором был и коринфский контингент. Афиняне по военным силам никак не могли равняться с противниками и были, казалось, обречены. Но, «когда оба войска должны были уже сойтись для битвы, сначала коринфяне сообразили, что поступают несправедливо, одумались и возвратились домой… И вот когда остальные союзники в Элевсине увидели, что… коринфяне покинули боевые ряды, то и сами также возвратились домой» (V. 75–76).
Через несколько лет после этого бесславного похода у спартанского царя Клеомена I, по-прежнему хотевшего подчинить непокорный город своей воле, созрел план: восстановить у власти афинского тирана Гиппия, которого он же и сверг в 510 году до н. э. Однако новым замыслам спартанцев воспротивились коринфяне. Их представитель Сокл на заседании конгресса Пелопоннесского союза произнес яркую, вдохновенную речь, в которой убеждал лакедемонян, известных во всей Элладе как убежденные ненавистники тирании, не пятнать свою репутацию поддержкой тирана.
«Прочие же союзники сначала молчаливо слушали. А когда они услышали откровенную речь Сокла, то один за другим нарушили молчание и присоединились к мнению коринфянина. Они заклинали лакедемонян не затевать недоброго в эллинского городе. Так эти планы расстроились» (V. 93–94).
Однако имеются у «Отца истории» и места противоположного содержания, и прежде всего рассказ о Саламинском морском сражении. Входившие в состав союзного греческого флота коринфяне предстают настоящими трусами: «Что касается Адиманта, коринфского военачальника, то он, по рассказам афинян, с самого начала битвы в смертельном страхе велел поднять паруса и бежал. Коринфяне же, видя бегство корабля военачальника, тоже бежали. Когда беглецы были уже вблизи святилища Афины Скирады на Саламине, навстречу им вышло какое-то парусное судно… Люди, бывшие на нем, сказали: „Адимант! Ты обратился в бегство с твоими кораблями, предательски покинув эллинов. А эллины все-таки одерживают столь полную победу над врагом, о какой они могли только мечтать!“… Тогда Адимант и другие коринфяне повернули свои корабли и возвратились назад к флоту, когда битва уже кончилась. Так гласит афинское предание. Коринфяне же, конечно, возражают против этого, утверждая, что доблестно сражались в битве в числе эллинов. Все прочие эллины подтверждают это» (VIII. 94).
Действительно, из других источников известно, что коринфяне сражались при Саламине вполне достойно, а Адимант был талантливым и мужественным полководцем. Что же заставило великого историка столь грубо исказить истину и представить довольно нелепую версию событий, очернив славного героя, чье имя – Адимант – в переводе означает «Неустрашимый»? Неужели сыграли роль личная обида и неудовлетворенная корысть?
Дело обстояло намного сложнее. В годы лидерства Перикла поступательно ухудшались отношения Афин с Пелопоннесским союзом, а в особенности с Коринфом. Между двумя важнейшими экономическими центрами Греции обострялась конкуренция. Афиняне все активнее действовали в Южной Италии и Сицилии – в регионе, издавна считавшемся зоной интересов коринфян. Собственно, афино-коринфская напряженность стала одной из главных причин Пелопоннесской войны. Геродот еще застал эти события. В описании конгресса Пелопоннесского союза по вопросу о возвращении Гиппия в Афины опальный тиран говорит: «Как раз коринфянам-то еще больше всех придется желать возвращения Писистратидов. Придет день, и они еще натерпятся от афинян» (V. 93).
Вспомним, что галикарнасец работал над своим трудом на протяжении многих лет, начав его еще при Кимоне, когда между афинянами и пелопоннесцами преобладала прочная дружба, и продолжая уже при Перикле, когда межполисные отношения в Греции претерпели серьезнейшие изменения. Видимо, положительные оценки коринфян в «Истории» относятся к раннему, «кимоновскому» периоду работы над сочинением, а отрицательные – к более позднему, «перикловскому».
Но даже в рассказе о Саламине Геродот всё же не встает однозначно на антикоринфскую точку зрения. Излагая псевдоисторический миф о трусости коринфян и Адиманта, он специально оговаривает, что это именно афинское предание, остальные же эллины считают иначе. Собственного мнения на сей счет историк открыто не высказывает. Так часто бывает в его труде: приведя несколько противоречащих друг другу, даже взаимоисключающих версий события, автор предоставляет читателю самому решать, какая из них ближе к истине.
С «коринфской» проблемой в произведении Геродота имеет большое сходство «фиванская». В Фивах, крупнейшем центре Беотии, «Отец истории» тоже, безусловно, бывал. Он прямо пишет об этом: «И мне самому пришлось видеть в святилище Аполлона Исмения в Беотийских Фивах кадмейские письмена, вырезанные на нескольких треножниках» (V. 59). Очевидно, здесь имеются в виду древние греческие надписи, – но, впрочем, сделанные не слоговым письмом, распространенным в бассейне Эгейского моря во II тысячелетии до н. э., а уже алфавитным, ведь Геродот смог их прочесть и переписать, раз приводит тексты. А если бы он столкнулся со знаками слоговой письменности, сомнительно, что он вообще опознал бы в них именно письменные знаки – настолько они выглядели бы для него непривычно.
По поводу пребывания великого историка в Беотии и Фивах Плутарх в сочинении «О злокозненности Геродота» говорит: «Аристофан Беотийский написал, что Геродот требовал от беотийцев денег, но не получил их, что он начал было беседовать с юношами и преподавать им, но беотийские власти запретили ему это вследствие их некультурности и их враждебности к науке. Это утверждение оставалось бы недоказанным, если бы сам Геродот в своем труде не подтверждал как свидетель обвинений Аристофана: в его сочинении одни обвинения против фиванцев представляют собой ложь, другие – клевету, третьи продиктованы ненавистью и враждебностью к фиванцам…» ( Плутарх. Моралии. 864d).
Как видим, ситуация опять касается денег… Если принять на веру слова некоторых античных авторов, Геродот, этакий мстительный корыстолюбец, только и делал, что, разъезжая по греческим городам, повсюду требовал наград и подачек, не получив же их, немедленно чернил эти полисы в своей «Истории».
Но в действительности, конечно, отношение к Фивам, проявившееся в геродотовском труде, объясняется иначе. Оно однозначно более негативное, чем к Коринфу. Для фиванцев у Геродота, похоже, нет иных красок, кроме черной. В Греко-персидских войнах, считает он, жители Фив изначально были тайными сторонниками «варваров», а стоило Ксерксу со своим войском прийти в Элладу, как они не замедлили открыто перейти на его сторону, принеся персам землю и воду – символические знаки покорности (VII. 132).
Правда, впоследствии выясняется, что фиванский отряд в 400 человек входил-таки в состав союзного греческого контингента, сражавшегося с врагом при Фермопилах (VII. 202). Более того, оказывается, что даже тогда, когда поражение эллинов стало неизбежным и Леонид отослал с поля боя силы всех прочих полисов, идя на верную гибель со своими тремястами спартанцами, фиванцы не оставили его.
Геродот объясняет: «Фиванцы остались с неохотой, против своей воли, так как Леонид удерживал их как заложников» (VII. 222). Версия историка такова: «Фиванцам во главе с Леонтиадом пришлось в силу необходимости некоторое время сражаться заодно с эллинами против царского войска. Увидев, что персы берут верх и теснят отряд Леонида к холму, фиванцы отделились от лакедемонян и, простирая руки, пошли навстречу врагу. Фиванцы заявляли – и это была сущая правда, – что они всецело на стороне персов и с самого начала дали царю землю и воду, а в Фермопилы они пришли только по принуждению и невиновны в уроне, нанесенном царю. Такими уверениями фиванцы спасли свою жизнь… Правда, им посчастливилось не всем: когда фиванцы подошли, варвары схватили некоторых из них и умертвили. Большинство же их, и прежде всего начальника Леонтиада, по приказанию Ксеркса заклеймили царским клеймом» (VII. 233).
Очень странный рассказ, более чем подозрительный в смысле истинности, вызывающий целый ряд недоуменных вопросов. Зачем Леонид оставил фиванцев в качестве заложников в такой ситуации, когда нужно было думать не о их охране, а всеми силами обороняться от врага? Почему спартанцы ничего не предприняли, чтобы помешать им сдаться? Зачем тогда вообще было оставлять заложников? Но если фиванцы действительно сдались да еще заверили персов в своей давней приверженности к ним, почему те перебили часть их как врагов, а остальных заклеймили как рабов? Персы так никогда не поступали – они умели быть милостивыми к тем, кто добровольно переходил на их сторону. А самое главное – кто эту историю мог бы подтвердить? Ведь свидетелей с греческой стороны не осталось! Спартанцы – все до единого – сложили головы в неравном бою. Рука об руку с ними сражались 700 воинов из небольшого беотийского города Феспии. Они тоже не отступили, бились до конца и погибли. (Эти герои оказались несправедливо обижены историей: о том, что вместе с тремястами спартанцами подвиг свершили феспийцы, не знает почти никто. А ведь они, в отличие от спартанцев, которым закон запрещал покидать поле битвы, не ушли от Фермопил из-за своей беззаветной преданности делу греческой свободы).
В этих условиях на фиванских бойцов впоследствии можно было наговорить всё что угодно. Любая напраслина сошла бы с рук из-за отсутствия очевидцев. Не случайно так обижается на Геродота Плутарх, родившийся и живший в городке Херонее в Беотии: его глубоко задело крайне недоброжелательное отношение «Отца истории» к землякам-фиванцам.
Другое дело, что объяснение такого отношения чисто личными причинами неприемлемо. Всё опять гораздо сложнее. Несомненно, Геродот и здесь выражает преимущественно афинскую точку зрения. А между Афинами и Фивами в его времена враждебность была неприкрытой. Аттика и Беотия граничили, а как известно, зачастую самый злейший враг – ближайший сосед, поскольку с ним есть что делить.
А Афинам и Фивам было что делить. Фивы, являясь крупнейшим городом Беотии, претендовали на гегемонию над всей областью, а ее малые полисы этому решительно сопротивлялись, временами обращая взоры на Афины в ожидании помощи. Уже в конце VI века до н. э. верным афинским союзником стал городок Платеи {129} , афинянам симпатизировали Феспии. А в 450-х годах до н. э. на афинской стороне была практически вся Беотия – кроме Фив. Правда, такое положение сохранялось недолго: лет через десять фиванцы отстояли свое фактическое владычество над подавляющим большинством беотийцев {130} . Афиняне были этим крайне недовольны. Геродот неоднократно навещал Афины как раз в тот период, и их позиция не могла не повлиять на его труд.
К тому же что бы ни говорили в защиту Фив, всё же их проперсидская позиция в период похода Ксеркса остается фактом. Одно время город был даже главной базой корпуса Мардония. И отнюдь не случайно первым решением, принятым на совете объединенных сил Эллинского союза после изгнания персов из Греции, было решение «тотчас же идти на Фивы и требовать выдачи сторонников персов… В случае же отказа фиванцев было постановлено не снимать осады города, пока не возьмут его. Так они решили и на одиннадцатый день после битвы подошли к Фивам и осадили город, требуя выдачи этих людей. Фиванцы же отказались, и тогда эллины принялись опустошать их землю и штурмовать стену» (IX. 86).
Главные персофилы – лидеры существовавшего в то время в Фивах олигархического режима – были, во избежание полного разгрома, выданы земляками союзным властям и казнены. После этого отношение к Фивам в Греции некоторое время оставалось весьма негативным. Так что Геродот, передавая очерняющие этот полис сведения, может быть, не только выражал собственную проафинскую позицию, но и повторял весьма распространенное среди эллинов мнение.
Историк побывал не только в Балканской Греции, но и на ряде островов Эгейского моря. Собственно, иначе и быть не могло. Много раз в своей жизни пересекал он на кораблях простор Эгеиды – то в одну, то в другую сторону. А острова служили мореходам местами промежуточных стоянок.
Несомненно, Геродот посетил Делос. Нам уже неоднократно доводилось упоминать этот островок в центре Кикладского архипелага – крохотный по размерам, но весьма значимый по своей культурно-исторической роли, ибо он считался священным: там находился прославленный храм Аполлона и Артемиды, чтимый всеми ионийцами.
«Отец истории», рассказывая о Египте и упоминая одно из озер в дельте Нила, говорит, что оно «такой же величины, как так называемое Круглое озеро на Делосе» (II. 170). Следовательно, последнее было хорошо известно как автору, так и его читателям. На Делосе бывали многие греки – как в Дельфах или Олимпии: приезжали поклониться богам, принять участие в пышных празднествах, регулярно проводившихся на острове.
Еще один эгейский остров – Фасос, на самом севере моря, у фракийского побережья – тоже нам знаком: Геродот поплыл туда, когда расследовал вопрос о происхождении почитания Геракла, и обнаружил там храм этого героя-бога.
Фасос был очень богатым по греческим меркам государством, потому что на его территории имелись месторождения золота, исключительно редкого в Греции и Эгеиде. Фасосцы организовали их разработку. Историк пишет: «Мне самому пришлось также видеть эти рудники. Безусловно, самые замечательные из них – это рудники, открытые финикиянами, когда они под предводительством Фасоса поселились на этом острове (он и теперь называется по имени Фасоса, сына Фойника [57]57
Фойник (Финик) – в греческой мифологии герой, родоначальник финикийцев.
[Закрыть]). А эти финикийские рудники на Фасосе лежат между местностями под названием Эниры и Кениры, напротив Самофракии. Огромная гора там изрыта в поисках золота. Таковы эти рудники» (VI. 47).
Неясно, откуда взяты Геродотом сведения о присутствии в глубокой древности на Фасосе финикийцев. Может быть, это чисто легендарная информация: в Греции нередки были предания об основании эллинских городов финикийскими выходцами. Так, Фивы, согласно мифу, вели свою историю от прибывшего из Финикии царевича Кадма. Но не исключено, что к рассказу галикарнасца здесь нужно относиться с большим доверием: если не постоянное поселение финикийцев на Фасосе, то, во всяком случае, их регулярные визиты на остров – конечно, в поисках золота, – судя по всему, в начале I тысячелетия до н. э. действительно имели место.
На острове Закинф, расположенном уже не в Эгейском, а в противоположном ему Ионическом море, к западу от Греции, Геродот тоже побывал и, будучи любителем разных диковинок, описал тамошнюю интересную природную достопримечательность: «…Я сам видел, как на Закинфе из озера и из источника добывали смолу. Есть там также и много озер. Самое большое из них 70 футов в длину и ширину, а глубиной в 2 оргии. В это озеро опускают шест с привязанной на конце миртовой веткой, а затем извлекают из воды смолу на ветке. Смола эта имеет запах асфальта… Затем смолу выливают в яму, выкопанную близ озера. Когда яма наполнится, смолу разливают оттуда по амфорам. Предметы, попадающие в озеро, проходя под землей, появляются затем в море. А море находится в 4 стадиях от озера».
Какими ветрами занесло Геродота на Закинф? К истории Греко-персидских войн этот остров не имел никакого отношения, и специально посещать его в процессе подготовки труда не было никакой необходимости. Возможно, галикарнасец поплыл туда просто из любознательности, чтобы посмотреть редкое явление – источники ископаемой смолы. Впрочем, можно предположить, что историк побывал там проездом. Если огибать Пелопоннес (а этот маршрут был одним из вариантов важнейшего морского пути из Эгеиды на запад и северо-запад), Закинф было не миновать. После него путь разделялся на две ветви: одна уводила к Южной Италии и Сицилии – там Геродот, безусловно, побывал, ведь он участвовал в основании Фурий; другая ветвь шла в Адриатическое море вдоль побережья Эпира – крайней северо-западной области Греции.
Хотя Эпир, как и Закинф, никак не был связан с Греко-персидскими войнами, «Отец истории» его тоже посетил. Да и не мог этого не сделать столь благочестивый человек, чрезвычайно любивший всевозможные храмы, святилища, оракулы… Ведь один из самых известных греческих оракулов находился в горах Эпира, в местечке Додона. Это был оракул Зевса, и о нем Геродот с уважением пишет: «Это прорицалище считается древнейшим в Элладе» (II. 52).
В Додоне он слушал предания местных жрецов и жриц о происхождении оракула: «Две черные голубки улетели из египетских Фив, одна – в Ливию, а другая к ним в Додону. Сев на дуб, голубка человеческим голосом приказала воздвигнуть здесь прорицалище Зевса. Додонцы поняли это как волю божества и исполнили ее» (II. 55). Геродота, понятно, не могла устроить эта храмовая легенда, и он дает мифу рационалистическое толкование: на самом деле это была египетская жрица из Фив, похищенная финикийцами и проданная в рабство в эти северные места. «Здесь, в плену, будучи рабыней, она основала под мощным дубом святилище Зевса… Когда она научилась затем эллинскому языку, то устроила прорицалище… Голубками же, как я думаю, додонцы называли этих женщин потому, что те были из чужой страны и, казалось, щебетали по-птичьи. Когда затем голубка заговорила человеческим голосом, то это значит, что они теперь стали понимать женщину… Когда же они называют голубку черной, то этим указывают на то, что женщина была египтянкой» (II. 56–57).
Непосредственно к северо-востоку от Эпира лежала Македония. От другой северогреческой области, Фессалии, она была отделена горным массивом Олимп, считавшимся обиталищем богов. Можно ли Македонию считать частью Греции, а населявший ее народ эллинами – по этому вопросу с Античности до сего дня нет единого мнения. Македонии предстояло прославиться много позже времен Геродота. Именно оттуда в IV веке до н. э. пришло объединение Греции под гегемонией властного царя Филиппа II, и оттуда же великий сын Филиппа – Александр III Македонский – начал свой грандиозный поход против Персидской державы, завершившийся ее полным подчинением. Но во времена «Отца истории» Македонское царство было периферийным и довольно незначительным участником межгосударственных отношений.
В начале V века до н. э. македонский царь Александр I вынужден был стать персидским вассалом. В составе войска Ксеркса он участвовал во вторжении в Грецию 480–479 годов. Ксеркс нередко использовал Александра в дипломатических целях, для разного рода тайных переговоров, особенно часто посылал его к афинянам.
Александр I часто упоминается на страницах труда Геродота, причем личность его представлена в куда более позитивном свете, чем он, казалось бы, заслуживал. Вспомним, как немилосердно описал «Отец истории» поведение фиванцев. Македонский царь делал то же самое: дал «варварам» землю и воду, участвовал в войне на персидской стороне. Тем не менее Геродот постоянно пытается обелить его, для чего пускает в ход даже не очень похожие на истину рассказы. Так, историк пишет, что при первой попытке Ахеменидов поставить Македонию под свое владычество (около 513 года до н. э.) прибывшие от них послы были перебиты, причем убийство их организовал именно Александр, тогда еще бывший наследником престола (V. 17–21). Если бы это соответствовало действительности, то не сидеть бы потом Александру на троне вассальным персидским царьком и не участвовать бы в походе Ксеркса, а висеть на столбе с содранной кожей. Персы умели награждать тех, кто добровольно подчинялся, но умели и карать, если им оказывали демонстративное неповиновение. Александр выведен у Геродота как тайный поборник дела эллинов, по сути – их агент в персидской ставке, своего рода «античный Штирлиц». Он будто бы регулярно приезжал к греческим командирам или присылал людей, чтобы оповещать силы Эллинского союза о планах врага. Почему-то его хитрости персидскими вождями так и не были разгаданы.
Симпатии галикарнасского историка к Александру – даже вопреки фактам – настолько очевидны, что не вызывает сомнения: Геродот находился в дружественных отношениях с македонской царской династией Аргеадов и передавал сложившуюся в ее среде традицию. То, что он бывал в Македонии, – тоже совершенно ясно. Он говорит об этих местах как очевидец, хорошо их знающий. Например: «От озера Прасиады ведет кратчайший путь в Македонию. К озеру непосредственно примыкает рудник, который впоследствии приносил Александру ежегодный доход – талант серебра. За этим рудником возвышается гора под названием Дисорон, а за ней уже – Македония» (V. 17).
О пребывании Геродота в Македонии есть и независимые свидетельства, правда, в позднем источнике – уже знакомом нам византийском словаре «Суда». «Некоторые же говорят, что он умер в Пелле» (статья «Геродот»). «Гелланик же жил с Геродотом у Аминты, царя македонян, во времена Еврипида и Софокла» (статья «Гелланик»). Как почти всегда в «Суде», сообщения содержат серьезную путаницу. Город Пелла во времена Геродота действительно уже существовал и в «Истории» упоминается: «На узкой прибрежной полосе в Боттиеиде (одной из областей Македонии. – И. С.) лежат города Ихны и Пелла» (VII. 123). Но столицей государства он тогда еще не был, а стал ею только в самом конце V века до н. э., когда Геродота уже не было в живых.
Вторая ошибка более серьезна. Кто такой упоминающийся здесь «Аминта, царь македонян»? При Геродоте такого не было. За время жизни «Отца истории» на македонском престоле правили только два царя: уже знакомый нам Александр I (498–454) и его сын Пердикка II (454–413). Если не с обоими, то, во всяком случае, со вторым Геродот уж точно был знаком, хотя в его труде этот Пердикка ни разу не назван по имени. А вот Аминта в нем фигурирует. Это, по всей вероятности, и ввело в заблуждение автора византийского словаря. Но речь у Геродота идет об Аминте I, отце Александра I. А Аминта I царствовал еще в конце VI века до н. э., а другие носители того же имени – Аминта II и Аминта III – находились у власти значительно позднее, в IV веке до н. э., когда Геродота уже не было в живых.
Тем не менее неточности в конкретных деталях не могут опровергнуть сам факт посещения Геродотом Македонии – либо в конце правления Александра I, либо при его сыне. Дружественное отношение историка к македонским правителям налицо. Скорее всего, он бывал в их стране, собирая материал для своего исследования. Македония имела самое непосредственное отношение к теме Греко-персидских войн: она была под владычеством Ахеменидов, через нее проходили войска Ксеркса на Элладу. В ней жили люди, которые, несомненно, могли много интересного рассказать Геродоту о былых войнах и походах.