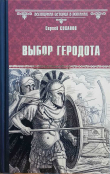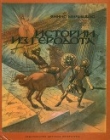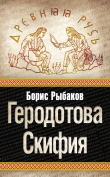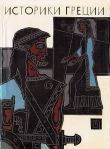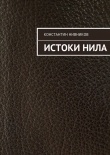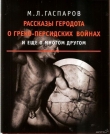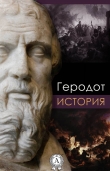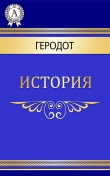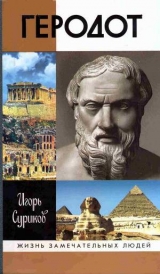
Текст книги "Геродот"
Автор книги: Игорь Суриков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 34 страниц)
Зависть питает гончар к гончару и к плотнику плотник;
Нищему нищий, певцу же певец соревнуют усердно.
Зависть в нашем понимании – чувство не слишком достойное. Но то, о чем пишет Гесиод, было завистью творческой, плодотворной, заставлявшей греческих мастеров делать свое дело как можно лучше, блеснуть качеством – ведь только так можно превзойти остальных.
Итак, с тем, что все люди разные, в Греции никто не спорил. Однако права у всех граждан должны быть одинаковыми, перед законом они должны быть равны. В греческих полисах сложился настоящий «культ закона», закон воистину ставился во главу угла. Как писал философ Гераклит Эфесский, «за закон народ должен биться, как за городскую стену» ( Гераклит. Фр. В44 Diels – Kranz).
Читателю, наверное, уже стало ясно: полисы могли быть лишь очень небольшими по территории и населению. Даже самые крупные из них, такие как Спарта или Афины, можно условно сопоставить разве что с карликовыми государствами современной Европы типа Лихтенштейна, Монако, Люксембурга.
Так, Спарта – крупнейший по территории полис греческого мира – имела в период своего наибольшего расширения площадь 8400 квадратных километров, куда входили область изначального обитания спартанцев – Лаконика – и завоеванная ими позже Мессения. Население этого полиса составляло около 200–300 тысяч человек, из них полноправными гражданами были не более девяти тысяч. Афинский полис на высшей точке процветания, в середине V века до н. э., охватывал собой область Аттику площадью 2500 квадратных километров. Населения там было больше, чем в Спарте: по разным подсчетам, от 250 до 350 тысяч человек, из них полноправных граждан – в пределах 45 тысяч [3]3
Все данные очень приблизительны. В греческих полисах чрезвычайно редко проводились переписи населения, да и учитывались обычно только граждане; женщины, дети, рабы в круг внимания переписчиков не входили. К тому же до нашего времени данные переписей дошли лишь очень фрагментарно.
[Закрыть].
Но Спарта и Афины были скорее исключениями, «полисами-гигантами». У «нормальных» же полисов территория по большей части не превышала 100–200 квадратных километров, а население – пяти тысяч человек, из которых гражданами являлись не более тысячи. Были и совсем маленькие полисы с территорией в 30–40 квадратных километров, на которой жили несколько сотен человек. Таким образом, типичный полис был крошечным государством, состоявшим из города (скорее городка) и ближайших окрестностей. Его можно было полностью обойти из конца в конец за несколько часов или, поднявшись на холм, увидеть всё государство целиком. Все граждане должны были знать друг друга в лицо. Это было неизбежно и необходимо: только при таких условиях коллектив граждан мог реально осуществлять власть, присутствуя на народных собраниях. (Понятно, что в современных государствах с их большими размерами никакие народные собрания просто не могут иметь места).
В Афинах, разумеется, было не так – на улицах можно было встретить сколько угодно незнакомых людей. Но Афины, повторим, были редким исключением, своего рода «греческим Нью-Йорком», и у попавшего в них жителя маленьких Платей или Флиунта наверняка сразу же начинала идти кругом голова.
«Миниатюрность» полиса была обусловлена рядом причин экономического, политического и культурного характера. Важную роль здесь играла так называемая стенохория – земельный голод, недостаток пригодных для возделывания земель. В большинстве греческих областей полисы располагались буквально вплотную друг к другу, и расширяться им было просто некуда: ни один из них не мог расти больше, чем позволяли соседи. Малые размеры гражданского коллектива порождались необходимостью сохранять и поддерживать этот коллектив как реальное единство. В чрезмерно разросшемся полисе народное собрание переставало быть подлинным воплощением общины граждан. Так, в Афинах из 45 тысяч граждан регулярно посещали народное собрание около шести тысяч. Это, конечно, искажение принципа полисного народоправства, хотя не такое уж и сильное: когда в собрании решался действительно жизненно важный вопрос, на заседание приходило гораздо больше людей – даже те, кто в менее серьезных случаях проявлял аполитичность.
Кроме того, мировоззрению античных эллинов была в высшей степени свойственна пластическая идея меры и формы. Ко всему безмерному, беспредельному грек испытывал инстинктивное отвращение, отождествляя его с неоформленным, хаотичным. «Ничего слишком», «Лучшее – мера» – такие афоризмы часто раздавались из уст эллинских мудрецов. Именно чувство меры породило едва ли не все крупнейшие достижения древнегреческой культуры: и доведенные до совершенства пропорции статуй, и отточенную ритмику поэтических произведений, и самодостаточные космогонические системы философов… На политическом уровне то же чувство меры жило в концепции полиса. Он был, помимо прочего, еще и произведением искусства: грек любовался им, как художественным изделием своего ума и рук. Огромные древневосточные державы, безостановочно расползавшиеся вширь и не знавшие предела, должны были представляться ему чем-то чуждым и даже чудовищным.
Вот что пишет о мере применительно к государству один из величайших философов в древнегреческой истории, завершивший и обобщивший классическую традицию, – Аристотель: «Опыт подсказывает, как трудно, чтобы не сказать невозможно, слишком многонаселенному государству управляться хорошими законами; по крайней мере мы видим, что все те государства, чье устройство слывет прекрасным, не допускают излишнего увеличения своего народонаселения… Для величины государства, как и всего прочего – животных, растений, орудий, – существует определенная мера… Так, например, судно в одну пядь не будет вообще судном, равно как и судно в два стадия [4]4
Стадий – мера длины, составляющая около 180 метров.
[Закрыть]» ( Аристотель. Политика. VII. 1326а26 и след.).
Греческий полис как бы сам обозначал себе пределы, ставил в какой-то момент точку в собственном расширении. Для каждого конкретного полиса эти границы роста, разумеется, были неодинаковыми. Для Афин они совпали с пределами Аттики. Спарта пошла дальше: для нее точкой, поставленной в расширении полисной хоры, стало покорение вдобавок к Лаконике еще и Мессении. Собственно, Спарта, насколько можно судить, уже переросла меру; отсюда и все трудности, которые в дальнейшем испытывало это государство, и все перипетии странной судьбы; на некоторых из них нам еще предстоит остановиться.
Для подавляющего большинства полисов предел роста наступал едва ли не сразу после их возникновения. Приходилось переходить с экстенсивного пути развития на интенсивный – выживать не за счет присоединения новых территорий, а за счет оптимального использования имеющихся ресурсов – как материальных, так и духовных, человеческих. А это в цивилизационном плане конечно же было благом.
Подчеркнем снова: каким бы миниатюрным ни был полис, он обязательно имел все атрибуты независимого государства: органы власти, войско, финансы. И за эту свободу и независимость полис держался всеми силами, отстаивая ее от любых покушений со стороны соседей.
Запад – Восток: контакты и конфликты
Наш экскурс об античном полисе мог показаться читателю скучноватым и затянувшимся, однако он был совершенно необходим. Не получив четкого представления об этом феномене, мы многое не сможем понять – и Древнюю Грецию в целом, и время Геродота, и само творчество великого историка.
До сих пор говорилось об эллинах. Теперь же речь пойдет о варварах, которые, как мы видели, играют не меньшую роль в труде «Отца истории».
«Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда…» – чеканные строки Редьярда Киплинга памятны, наверное, каждому. Все понимают, что противопоставление Запада и Востока проводится поэтом не в географическом, а в цивилизационном смысле. Перед нами – концепция, которая настолько определяла собой всю мировую историю на протяжении многих веков, что стала в результате одним из наиболее устойчивых архетипов картины мира, во всяком случае, европейского человека. Представление о «Западе» и «Востоке», находящихся в перманентной вражде, зачастую само уже кажется извечным. Однако же у него есть конкретные время и место возникновения: V век до н. э., Греция.
Для грека классической эпохи все люди четко делились на «эллинов» и «варваров». Под последними понимались все остальные этносы мира, будь то финикийцы и египтяне, обладавшие высокой культурой (намного более древней, чем культура самих греков!), или же скифы или фракийцы, которые еще даже не успели создать собственной государственности. Впрочем, чаще прочих под варварами подразумевались все-таки народы Востока, что вполне естественно, поскольку контакты именно с этим регионом были у греческого мира особенно ранними и активными.
Слово «варвар» ( barbaros) появляется в древнегреческом языке довольно рано. У Гомера – самого раннего античного автора – этого термина нет, но встречается производное от него прилагательное barbarophonos– «говорящий по-варварски» (Гомер. Илиада. II. 867). Интересно, что употреблено оно применительно к карийцам – народу, обитавшему на юго-западе Малой Азии. Как мы увидим ниже, именно среди карийцев (точнее, в смешанной греко-карийской среде) появился на свет Геродот, там прошли его детство и юность, ведь родина историка, город Галикарнас, была греческой колонией, находившейся как раз на территории Карий.
Собственно существительное «варвар» начинает интенсивно использоваться в Греции несколько позже – авторами рубежа VI–V веков до н. э., старшими современниками Геродота: историком Гекатеем Милетским, философом Гераклитом Эфесским, поэтом Симонидом Кеосским. Но употребляется оно без каких-либо пояснений, как само собой разумеющееся: варвар – это любой не эллин.
Деление всех людей на «эллинов» и «варваров» сыграло огромную роль в складывании этнического самосознания античных греков. Однако не следует считать, что сразу же с возникновением слова «варвар» немедленно выкристаллизовалась в законченном виде идея двух противоположных (и вечно противоборствующих) «культурных миров». Следует разделять два явления: представление об «эллинах» и «варварах» – далеко не то же самое, что противопоставление «эллинов» и «варваров», причем противопоставление тотальное и, самое главное, эмоционально окрашенное (эллин заведомо лучше, чем варвар). Именно это последнее в конечном счете утвердилось у греков:
Грек цари, а варвар гнися! Неприлично гнуться грекам
Перед варваром на троне.
(Еврипид. Ифигения в Авлиде. 1400–1401)
Еще несколько лет спустя те же мысли авторитетно и более «наукообразно» озвучивает великий Аристотель: «У варваров… отсутствует элемент, предназначенный по природе своей к властвованию… Варвар и раб по природе своей понятия тождественные» ( Аристотель. Политика. I. 1252Ь5 и след.).
С этого момента слово «варвар», которое изначально было вполне нейтральным, начинает приобретать ярко выраженную эмоциональную отрицательную окраску, становится близким к ругательству; это значение оно продолжает сохранять и по сей день: мы называем варваром невежественного, грубого, жестокого человека.
У очень многих, если не у всех этнических коллективов на каком-то этапе их истории (как правило, весьма раннем) возникает понимание того, что окружающие этносы – именно «другие», «иные», «чужие», чаще всего обусловленное языковыми различиями. Создается впечатление, что мир делится на тех, кто говорит на «правильном» (понятном в данном коллективе) языке, и остальных, кто на нем не говорит. Так, в среде ранних славян все иноземцы фигурировали как «немцы», то есть «немые» (обозначение этим словом жителей Германии – плод уже последующей, более близкой к нам эпохи). Так же обстоит дело и с «варварами». Это слово, как однозначно признается всеми, имеет звукоподражательную этимологию: изначально для грека barbaros– тот, кто «бормочет» что-то вроде «бар-бар-бар»: так воспринималась чуждая речь.
Данные представления еще не предполагают ксенофобии, идеи неоспоримого превосходства «своих» над «чужими». Здесь всего лишь констатация наличия «своих» и «чужих», проявление обычной диалектики мифологического мышления, которое вообще оперирует преимущественно сопоставлениями двух противоположных начал: «земля – небо», «мужчина – женщина», «сырое – вареное» и т. п.). До появления идеи тотального конфликта двух миров пока еще очень далеко.
В какой-то момент греки просто «открыли для себя варваров» {4} , осознали, что кроме них самих в мире существуют еще и «иные». В полном масштабе это произошло в ходе Великой греческой колонизации архаической эпохи (VIII–VI веков до н. э.), грандиозного переселенческого движения. Эллины, гонимые нуждой со своей родины, где скудные природные ресурсы не позволяли прокормить разросшееся население, отплывали на кораблях в далекие экспедиции, обосновывались на новых местах и в конце концов покрыли своими городами побережья Средиземного и Черного морей. Греческие колонисты просто не могли не сталкиваться с туземным населением. Однако встреча с «иными» – это стимул не только к конфликтам, но и в не меньшей степени к контактам. Самый естественный вопрос, возникающий при подобного рода встречах, – не «Как мы можем им навредить?», а «Что мы можем от них получить?».
В архаическую эпоху мы еще не находим принципиальной враждебности между «эллинским» и «варварским» мирами. Греция в эти времена еще не отделяет себя от грандиозного мира Древнего Востока, на западной периферии которого она находится {5} . Соответственно, «Восток» и «Запад», «Европа» и «Азия» если и противопоставляются друг другу, то исключительно как географические, а не цивилизационные понятия. Более того, оппозиция «Европа – Азия» еще совпадает не с привычной нам оппозицией «Запад-Восток», а скорее уж с оппозицией «Север – Юг». Да и всё еще взаимозаменяемо в этой формирующейся, мобильной ментальной вселенной: героиня греческой мифологии Европа, давшая имя соответствующей части света, по своему происхождению самая натуральная азиатка – дочь финикийского царя Агенора, похищенная Зевсом и перевезенная им на Крит.
Развивая эту мифологическую метафору, подчеркнем, что в архаическую эпоху цивилизационного «похищения Европы» еще не произошло. Греки, особенно аристократы, охотно вступают в дружественные и матримониальные связи с аристократами и царями «варварских» стран. Афинские евпатриды Солон и Алкмеон совершали поездки ко двору царей Лидии (государства на западе Малой Азии). Другой знатный афинянин – Мильтиад, будущий победитель персов при Марафоне, – взял в жены дочь фракийского царя и был в дружбе с владыкой Лидии Крезом. Подобных примеров множество. Различия между миром греческих полисов и миром восточных монархий – политические, социальные, культурно-ментальные, – разумеется, осознавались, но не воспринимались как повод для конфликта. Принималось как аксиома, что обычаи у людей могут быть разными.
Здесь нельзя не вспомнить одну историю, рассказанную Геродотом: «Царь Дарий во время своего правления велел призвать эллинов, бывших при нем, и спросил, за какую цену согласны они съесть своих покойных родителей. А те отвечали, что ни за что на свете не сделают этого. Тогда Дарий призвал индийцев, так называемых каллатиев, которые едят тела покойных родителей, и спросил их через толмача, за какую цену они согласятся сжечь на костре своих покойных родителей. А те громко вскричали и просили царя не кощунствовать. Таковы обычаи народов, и, мне кажется, прав Пиндар, когда говорит, что обычай – царь всего» ( Геродот. История. III. 38).
В пестром, разнообразном, сложном, необъятном мире приходилось жить грекам архаической эпохи. И они с жадным любопытством впитывали всё новое, бросались, как в водоворот, в жизнь Востока, которая предоставляла им богатые возможности. Среди греческих воинов вошло в моду вербоваться наемниками в армии «варварских» правителей, которые щедро платили за подобного рода услуги.
Особенно много таких наемников-греков находилось в Египте, на службе у фараонов. На левой ноге колоссальной статуи Рамсеса II в Абу-Симбеле, на юге Египта, по сей день сохраняются надписи на древнегреческом языке: имена Архонт, Пелек, Гелесибий, Телеф, Пифон {6} … Загадка разгадывается просто: эллинские воины, участвовавшие в 591 году до н. э. в походе фараона Псамметиха II к южным границам его страны, были поражены грандиозностью увиденного и «увековечили» свое присутствие (вот в какую глубокую древность уходит обычай оставлять «автографы» на достопримечательностях!).
Но не только в качестве солдат отправлялись греки в чужие земли. Их ждали там и как торговцев, и как врачей. Появились и эллины-путешественники, если можно так выразиться, «туристы». Для общения с ними во многих странах Востока даже начали готовить переводчиков, ведь сами гордые сыны Эллады никак не желали изучать иностранные языки.
В эпоху Геродота, в V веке до н. э., когда имело место истинное, а не мифологическое «похищение Европы», всё резко изменилось. Начало процессу положили, безусловно, Греко-персидские войны.
Исконная территория обитания персов – народа индоевропейского происхождения, как и греки, – находилась в юго-восточной части Ирана. Персы по-настоящему громко заявили о себе во второй половине VI века до н. э. При царе Кире (558–529) и его преемниках Персия после ряда успешных завоеваний превратилась в могущественное государство, простиравшееся от Северо-Западной Индии до Египта. Такой империи еще не бывало в истории человечества: необъятной была ее территория, многомиллионным и многонациональным – население, неисчерпаемыми – природные ресурсы, огромным – экономический и военный потенциал.
Новая мировая держава постоянно разрасталась, стремясь подчинить себе все окрестные земли. В 546 году до н. э. персы покорили Лидию, давно уже находившуюся в тесных контактах с греческими полисами. Последний лидийский царь Крез, чье имя ассоциируется с огромным богатством, то ли погиб в огне пожара при взятии его столицы, то ли попал к Киру в плен, а Лидия была превращена в очередную провинцию государства Ахеменидов, управлявшуюся персидским сатрапом-наместником. Тем самым власть Персии распространилась до восточных берегов Эгейского моря.
На этом побережье находилось много греческих городов – Милет, Эфес и другие, в том числе и будущая родина Геродота – Галикарнас. Все эти полисы тоже были вынуждены подчиниться врагу. Одни сдались без боя, другие попытались оказать сопротивление, но силы были слишком неравны. Уже тогда сказалась обычная для полисного мира политическая раздробленность. Однажды на собрании представителей малоазийских греков прозвучало предложение объединиться в федеративное государство. По утверждению Геродота (I. 170), совет этот дал не кто иной, как Фалес Милетский – один из «семи мудрецов», основатель античной философии, выдающийся математик и астроном, одним словом, фигура огромного масштаба в истории интеллектуальной культуры. Впрочем, возможно, Геродот здесь что-то напутал, поскольку к 546 году до н. э. Фалеса вроде бы уже не было в живых. Но не исключено, что он выступил со своей инициативой раньше.
Из чьих бы уст ни прозвучало предложение о политическом объединении, оно не вызвало никакого энтузиазма и принято не было. Каждый греческий полис превыше всего ценил собственную независимость, держался за нее изо всех сил. Но теперь, по иронии судьбы, из-за подобной любви к свободе приходилось терять свободу. Греки Малой Азии не смогли организовать объединенный отпор врагу и были покорены поодиночке.
Прошло еще несколько десятилетий. На персидский престол взошел Дарий I (522–486) – пожалуй, самый выдающийся государственный деятель в истории державы Ахеменидов. При нем она достигла наибольших размеров, именно тогда персы сделали первый шаг в Европу. В 514 году до н. э. Дарий, переправившись с сильным войском через Черноморские проливы [5]5
Так принято называть проливы Геллеспонт (ныне Дарданеллы) и Боспор Фракийский (ныне Босфор), а также лежащую между ними Пропонтиду (ныне Мраморное море), соединяющие Черное море с Эгейским.
[Закрыть], двинулся в поход на скифов, обитавших в степях Северного Причерноморья. Скифская кампания оказалась безрезультатной. Однако персы обосновались на северном побережье Эгейского моря, превратили в свою провинцию Фракию и поставили в вассальную зависимость Македонию. Персидское владычество теперь распространилось на регионы, находившиеся в непосредственном соприкосновении с Грецией. Македония была отделена от самой северной греческой области, Фессалии, только горным массивом Олимп. Становилось ясно: именно Эллада должна стать следующей жертвой экспансии Ахеменидов.
Неизбежное военное столкновение греков и персов вылилось в длительную, растянувшуюся на полвека серию Греко-персидских войн (500–449). Чудовищно несоизмеримыми казались силы сторон, которым предстояло сойтись в решающей схватке: громадной мощи Персидской империи должны были противостоять разрозненные, не создавшие единого государства, находившиеся в постоянной борьбе друг с другом полисы Греции, зачастую ослабленные внутренними конфликтами.
Между этими полисами не было единомыслия по отношению к персидской угрозе. Некоторые, в том числе весьма крупные и значительные города-государства (Аргос, Фивы), были склонны подчиниться «великому царю» либо сохранять нейтралитет. Своеобразной была позиция такого авторитетного общегреческого религиозного центра, как Дельфийский оракул, к мнению которого прислушивались в любом полисе: дельфийское жречество не то чтобы проповедовало откровенно персофильские взгляды, но было в принципе не прочь заручиться благосклонностью Дария. Во всяком случае, Дельфы на первом этапе войн выступали против сопротивления, считая его бесполезным и заведомо обреченным на неудачу.
Греция представлялась восточным владыкам легкой добычей, а война наверняка виделась непродолжительной и победоносной. Однако события приняли совершенно иной оборот. Вооруженный конфликт оказался в высшей степени затяжным, вылился в целую цепь военных столкновений, отделенных друг от друга мирными передышками.
В лице Персидской державы на Элладу как бы двинулся весь Восток, весь «варварский» мир, объединенный под скипетром Ахеменидов. Разумеется, в таком свете дело представлялось только самим грекам. Цари Персии и ведать не ведали, что, пытаясь завоевать маленький народ за Эгейским морем, они вступают в глобальный межцивилизационный конфликт, дают первотолчок «столкновению цивилизаций». Для персов шла речь лишь о расширении их великой империи: как раньше они подчинили лидийцев и вавилонян, египтян и фракийцев, так намеревались покорить и греков.
Будучи последователями зороастризма, Ахемениды декларировали свою приверженность началам справедливости и добра, претендовали на роль представителей «сил света»; под этим лозунгом ими и совершались агрессивные войны. Поэтому персам необходим был повод для нападения на Грецию. Но в подобных ситуациях его, как правило, долго ждать не приходится.
В 500 году до н. э. против персидского владычества восстали греческие полисы Малой Азии. Разумеется, Дарий, выслав огромный флот и войско, за несколько лет подавил сопротивление своих «взбунтовавшихся подданных». При этом выяснилось, что ионийским грекам помогали греки метрополии. Присылка военных контингентов из Афин и союзной с ними Эретрии (на острове Эвбея) стала для персов желанным поводом для вторжения в саму Грецию.
Два обстоятельства вносили в ситуацию довольно пикантные нюансы. Еще в 510 году до н. э. изгнанный из Афин тиран Гиппий отправился в пределы Персидской державы и в конечном счете оказался при дворе Дария, всячески побуждая всесильного владыку к походу против своих бывших сограждан, вызываясь быть советником и проводником.
Второе обстоятельство заключалось в серьезном дипломатическом промахе афинян. В 506 году до н. э., опасаясь нападения со стороны Спарты, они «отправили посольство в Сарды заключить союз с персами… Когда посольство прибыло в Сарды и изложило свое поручение, то Артафрен [6]6
Геродот называет сатрапа Артафреном на греческий манер. Более распространенное в современной научной литературе написание Артаферн ближе к собственно персидскому.
[Закрыть], сын Гистаспа, сатрап Сард, спросил: „Что это за народ, где обитает и почему ищет союза с персами?“ Получив разъяснение послов, сатрап дал им такой краткий ответ: „Если афиняне дадут царю землю и воду, то он заключит союз, если же нет, то пусть уходят“. Послы же, желая заключить союз, согласились, приняв это на свою ответственность. Впрочем, по возвращении на родину они подверглись суровому осуждению за эти самостоятельные действия» (V. 73).

Видимо, слабо разбираясь в тонкостях персидской ритуальной дипломатии, афинские послы не очень представляли себе, что означает требование «дать землю и воду» и какими последствиями оно чревато. А ведь для персов такая церемония означала принятие в подданство. Потому-то и настаивал на этом Артаферн, брат царя Дария. Афиняне желали получить сильного союзника – а получили повелителя. Послы явно не разобрались в обстановке, за что их и осудили на родине. Но даже если заключенный ими договор и был дезавуирован народным собранием, то для персидских властей это уже не имело ровно никакого значения: для них Афины отныне являлись частью их владений.
И вот теперь этот подчиненный город ведет себя в высшей степени странно: не желает повиноваться, более того – высылает военную помощь мятежным малоазийским грекам! Персы приказали афинянам возвратить к власти тирана Гиппия – те ответили решительным отказом. В Афины прибыли персидские послы с ультимативными требованиями – их сбросили в пропасть, что было серьезнейшим нарушением дипломатической этики, да и просто элементарных норм обращения с чужеземцами: послы во все времена считались неприкосновенными.
Теперь уже Дарий никак не мог не отомстить «непокорным подданным». В 490 году до н. э. от берегов Малой Азии двинулась через Эгейское море на Грецию карательная экспедиция. На кораблях находилось приблизительно двадцатитысячное войско, небольшое по персидским масштабам: царь счел, что этих сил достаточно для победы. Возглавлял поход молодой племянник Дария Артаферн (сын сатрапа Артаферна), но фактическое руководство находилось в руках опытного военачальника Датиса. Вместе с ними плыл и Гиппий.
Прибыв к Эвбее, первым делом персы расправились с Эретрией: город был взят и полностью разрушен, а жители – поголовно (кроме спасшихся бегством) увезены в Персию в рабство. Затем каратели высадились на территории афинского полиса – на северо-востоке Аттики, близ местечка Марафон (в 42 километрах от Афин). Навстречу им выступило ополчение афинян, которым командовал полководец Мильтиад. До того он был тираном на полуострове Херсонес Фракийский под ахеменидским владычеством и хорошо изучил военную организацию и тактику персов.
Афинян было не более десяти тысяч, но при Марафоне они одержали блестящую победу над двукратно превосходящими силами противника. Греческая фаланга с честью выдержала проверку на прочность, показала себя самым эффективным для того времени способом построения войск. Поразительно, что со стороны греков в сражении погибли лишь 192 бойца (имена их были сохранены в памяти благодарных потомков), тогда как потери персов составили более шести тысяч. Развеяв миф о непобедимости персов, битва при Марафоне в огромной степени подняла боевой дух афинян и впоследствии стала символом величия Афин. До наших дней на Марафонском поле сохраняется могильный холм – памятник павшим в битве афинским воинам.
Для греков Марафон был, бесспорно, великой победой. Но для Ахеменидов он отнюдь не был великим поражением, которое заставило бы их отказаться от захватнических планов в отношении Эллады. Напротив, персы теперь жаждали реванша. Дарий воспринял разгром персидского отряда как личную обиду и начал готовить новый поход на греков. На этот раз речь шла уже о полномасштабной армии вторжения, которая должна была подавить противника своей численностью, пройтись по непокорной стране огнем и мечом. К счастью для Греции, подобная акция не могла быть осуществлена немедленно; требовалось немалое время, чтобы собрать воинские контингента из различных частей огромной Персидской державы.
Дарий же через несколько лет скончался, а вступивший на престол его сын Ксеркс (486–465) должен был затратить довольно значительное время на упрочение своей власти и подавление мятежей, вспыхнувших в окраинных областях Персии, как обычно случалось при переходе власти от одного царя к другому. Греки получили десятилетие мирной передышки. Было чрезвычайно важно правильно использовать эти годы: предугадать основные направления и характер грядущего удара и достойно подготовиться к нему.
В Афинах основным предметом разногласий стал способ отражения врага. Многие афиняне под влиянием победы при Марафоне возлагали упования на сухопутные вооруженные силы, прежде всего на гоплитскую фалангу. Именно на этих позициях стоял Мильтиад. Впрочем, дни славы марафонского победителя были сочтены: афинским гражданам показалось, что он слишком кичится своим военным успехом. Мильтиад оказался в опале, даже попал под суд и был приговорен к крупному штрафу, а вскоре после этого умер от старой раны, полученной в одном из походов. Его политическим преемником стал Аристид, славившийся своей безупречной справедливостью и неподкупностью.
Главным сторонником иной точки зрения выступал молодой, но исключительно талантливый и популярный политик Фемистокл. Он лучше, чем кто-либо другой, сознавал: сколько ни укрепляй сухопутное войско, оно все равно окажется бессильным перед колоссальной армадой, чьего вторжения в Элладу ожидали с году на год. Спасение могли принести только действия на море. Фемистокл призывал создать в Афинах по-настоящему мощный, многочисленный и боеспособный флот. В конце концов именно это мнение возобладало.
Подготовка к отражению удара персов велась не только на внутреннем афинском, но и на общегреческом уровне. С востока приходили все более тревожные вести: Ксеркс, укрепив свое положение на троне, приступил к выполнению завета отца – стал собирать воинские контингента со всех концов своей обширной державы для грандиозного похода на Балканскую Грецию. Угроза гибели нависала над всей Элладой, и многие полисы начали наконец осознавать необходимость совместных действий. Правда, в ряде греческих городов продолжали преобладать «пораженческие» настроения, однако, к счастью, не они определяли теперь общую позицию эллинов.
Самым сильным в военном отношении полисом по праву считалась Спарта, и было очень важно заручиться ее участием. Сложность заключалась в том, что ее граждане воевать умели, но не любили – берегли силы. Наконец, медлительных и консервативных спартанцев удалось подвигнуть на участие в решительной борьбе с персидским нашествием. В 481 году до н. э. на конгрессе в Коринфе был создан Эллинский союз для отражения вражеской агрессии. В него вошли около тридцати полисов – из нескольких сотен, разбросанных по греческому миру. Возглавила союз, естественно, Спарта; второе по значимости место занимали Афины. Были созданы союзные вооруженные силы, утверждено единое командование во главе со спартанскими царями.