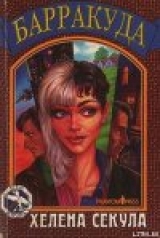
Текст книги "Барракуда"
Автор книги: Хелена Секула
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
– Пустите меня к вашему барину к Станнингтону.
– Damn! Да с тобой его адвокат говорит, а я тебе перетолковываю! И никто с тобой не станет говорить, баба!
– Будь что будет! На все Божья воля, – смирилась мать.
– Работу дадут. Каждый месяц грошики удерживать будут, что ты выманила. Как заплатите долги, можете копить на дорогу назад. Не хотите – не надо. Но помните, ничего от молодого барина не получите! И молитесь за него, другой бы вас в казематы за вранье посадил.
– Будем молиться, господин хороший…
– Еще в долги даем грошики, чтобы было за что хату снять. Но их тоже отдашь, ясно, баба?
– Поняла, господин хороший.
– Так подпиши бумажку. – Голос eго стал мягче, он сунул мне в руку кусочек шоколада, матери подтолкнул долговую расписку.
По ней мать обязалась выплатить до последнего цента сумму, потраченную на нее миссис Анной Станнингтон. Так распорядился ее сын.
Ничтожный проступок моей матери кончился назидательной проповедью с упоминанием имени Божьего и мистера Станнингтона. Странным ломаным языком ее прочитал нам мужчина в шляпе, похожей на казанок. Так я в первый раз восприняла шляпу-котелок, которую носил Стив – доверенное лицо Пендрагона Станнингтона.
Но потраченный капитал должен приносить доход. Для Станнингтона не имела значения сумма, при его миллионах наш долг выглядел пылинкой. Капитал должен приносить доход, неважно, цент это или миллион.
Привычка к точности, какой-то внутренний механизм велел ему внести в расписку проценты за пользование теми грошами, что потратила на наш переезд его мать.
Для нас это означало два года жесточайшей нищеты.
* * *
Когда сжалившийся океан перестал нас швырять, когда, исхудалая от морской болезни, держась за материну юбку, запуганной деревенщиной я выползла на палубу, меня опьянил соленый бриз, придавила безграничная гладь океана с пропадающим за кормой следом винта. Перед глазами возникла огромная фреска. Нью-Йорк.
Вознесенные к небу громады каменных глыб, шестигранников, игл, куполов, небоскребов. И все залито ярким солнцем на фоне незапятнанного ультрамарина, почти лишенное перспективы – как макет. Море сливалось с небом.
Какой маленькой я себя почувствовала…
Мы приближались к устью Гудзона, и город приобретал перспективу, рос, разрастался, пока не заполонил весь горизонт. Он был страшен, он захватывал, он был всемогущ. А я все уменьшалась и уменьшалась, пока не стала с булавочную головку. Я не знала, видит ли меня кто-нибудь, кроме матери.
Долго еще преследовало меня это чувство, когда, втиснутая в эмигрантское гетто, я оказалась среди замученных и затравленных нищих людей. Некоторые все-таки вырывались с Нижней Ист-Сайдской улицы, оставались прибывшие с первой волной послевоенной эмиграции, словно война лишила их пробивной силы, сделала калеками.
Так запал мне в душу Город. Воплощение гигантомании, завораживающий великан с неврастенической архитектурой, нечеловечески равнодушный. Он выжег свое клеймо на моей судьбе. С молотка вот-вот пойдет как раз «Город в сумерках»…
Большая шпалера, выдержанная в пастельных тонах бледного беж и песочных оттенках. Это старый Нью-Йорк. Первые небоскребы Луи Салливана, две одинаковые башни Уорлд трейд сентер и один из самых современных небоскребов, здание Сингера с цилиндрической надстройкой. И башня Вулворта – уступами, как воспоминание о готических монастырях, и Эмпайр стейт билдинг, и Крайслер, накрытый остроконечной луковкой в золотых чешуйках.
Эта луковка на моем гобелене выполнена в самых насыщенных песочных тонах, с шафраново-золотистыми отблесками. Это сок из лепестков крокуса дает такой цвет. А сюда я еще вплела медную тончайшую проволоку…
Но Они этого не видят.
Для Них это еще одна вариация на тему Города в конце дня, выражение увлеченности художницы современной цивилизацией. Художница сублимирует, осваивает и сплетает свои ощущения в эпическую повесть, тканную овечьей шерстью.
* * *
Весной в Городе сносно. Зелень в Центральном парке такая сочная, а воздух еще не пропитан влажной духотой. Лето здесь тяжелое, как в тропиках, – высасывает все силы вместе с липким потом, заливающим тело. Как мучительно выходить из помещений с кондиционерами во влажную жару улиц! Комнатенка на чердаке без всякого кондиционера напоминает котел в прачечной.
Но в тот день над деловыми зданиями Парк-авеню веселый бриз разносил океанскую соль, а над садами на крышах небоскребов светило ласковое солнце.
Я закончила чистить километры полов, положенных на мою долю. Линолеум, метлахская плитка, ковролин, пластик и лак, гнутые металлические трубки стульев. Второй этаж, отдел рядовых чиновников.
Дерево, паркет, плюшевые портьеры и ковры из настоящей шерсти появляются только на верхних этажах, по мере возрастания ранга. Растут и заработки уборщиц.
Я уходила, когда чиновный люд начинал свой день. Поступив на работу, я записалась на курсы художественного ткачества. В рассрочку платила за обучение.
Я поздоровалась с портье и остановилась: он что-то говорил мне. Наверное, шутил, потому что я смеялась. И шутил-то он, может, не смешно, но тогда я легко смеялась, с удовольствием наблюдая за впечатлением, которое удавалось производить на мужчин.
Недавнее и интересное открытие.
Я нравилась: серые глаза, голубеющие, если одеться в синее, а волосы – как сноп пшеничной соломы. Такой оттенок стараются получить изготовители всяких красок и ополаскивателей. Волосы у меня были как с рекламы американской мечты, зубы здоровые, белые и ровные. Лицо не тронутo косметикой…
Такой он меня увидел. Молодая, простая девушка, не вхожая в его круги, не известная никому из знакомых.
– Добрый день, мистер Станнингтон, – поздоровался портье, с ловкостью фокусника пряча в рукав зажженную папироску.
Человек ответил на приветствие, его карие глаза задержались на моей льняной гриве, тяжелой ровной волной падающей на плечи. Волосы забраны голубой лентой в «конский хвост». Взгляд прошелся по полотняному синему платью, коснулся губ, ног в бежевых сандалиях.
Мне уже знакомы были такие зовущие взгляды. Они особенно льстили. Этот большой человек, который некогда не снизошел до того, чтобы лично накричать на мою мать, никогда ее не видел и не удосужился о ней спросить с тех пор, как Стив дал ей работу уборщицы в этом здании, – он теперь заметил меня и так смотрел.
Он повернулся, без единого слова прошел мимо к лифту для генеральных директоров компаний. Элегантный, спортивный, с очень загорелым лицом и чуть седеющими висками. Мужчина неопределенного возраста. На Парк-авеню мужчины после сорока стараются сохранить себя всеми силами: гормональное лечение, травы, санатории, пластическая хирургия и косметика…
Любой ценой удержать молодость. Старость здесь – бестактность.
* * *
– Гобелен, выполненный техникой haute-Iissе!
Аукционист объясняет раппорт узора, обращает внимание на мягкость рисунка, на натуральные красители.
Неспешно переходя от гобелена к гобелену, Они смакуют колорит, единственную в своем роде упругую шероховатость, свойственную натуральному волокну, упиваются ручной, кропотливой работой. Это едва ли не главный повод, ради которого сюда пришел весь Нью-Йорк.
Конечно, это преувеличение. На самом деле Нью-Йорк – не единый административный организм, он состоит из нескольких городов. В каждом из них можно прожить всю жизнь и не узнать ничего другого, даже не выйти за пределы своего города.
Есть сербский и итальянский Нью-Йорк, венгерский и китайский, еврейский и хорватский; Нью-Йорк, раскинувшийся на восточном Манхэттене, где живут богачи. Это они наполняют сегодня выставочные залы Музея современного искусства, жители районов, где им гарантированно good neighbourhood – хорошее окружение.
В таком районе не сдадут квартиру цветным или белым, которые по разным причинам не отвечают здешним требованиям. Одно исключение, два – а там, глядишь, разбегутся прежние жильцы! И придется владельцам домов списать эти изысканные особняки в убытки.
Такие вот скомпрометированные дома неумолимо заполняют потом бедные югославы, поляки, нищие итальянцы, а за итальянцами всегда тянутся нищие евреи, хуже того – нищие негры.
Потом волна прибоя вынесет на доступный берег желтых узкоглазых людей цвета шафрана, разведенного молоком шоколада или слоновой кости.
Так и будут они кишеть и множиться в переполненных комнатах в неустанней кутерьме, в погоне за куском лучшей доли, любить, жениться, плодить детей, ненавидеть и презирать ближних – потому что они другие и такие же бедные, – болеть, надрываться в непосильном труде, копить, учиться, колоться наркотиками, молиться и убивать.
Melting pot – переплавляющее горнило, в котором, как утверждают социологи, смешиваются и американизируются все народы.
Так было четверть века назад на Нижней Ист-Сайдской улице, дальше Сороковой Восточной на Манхэттене. Теперь я не встретила там ни одного знакомого человека, не увидела знакомых домов. На их месте сейчас элегантные виллы. Редкие постройки, множество садов и клумб. Розы, гортензии, рододендроны, туберозы.
Асфальтированные проезды, без тротуаров для пешеходов. Какие пешеходы в районе, где годовая арендная плата равна доходам американца среднего класса за несколько лет? На покупку такого дома не одному поколению пришлось бы работать всю жизнь. На здешнюю недвижимость особого спроса нет. Всюду висят таблички «Сдается», «Продается»…
Город на грани краха, его терзает отрицательный баланс: нет денег на транспорт, на коммунальные услуги, на полицию, чтобы обеспечить людям защиту. Все больше богатых селится вблизи метрополии или мигрирует вглубь континента.
– Не выходи в город по вечерам одна, всегда бери машину или такси и всегда носи при себе мелкие деньги, когда ходишь пешком. Если кто-нибудь станет требовать денег, отдавай беспрекословно, – учил меня Гермес, когда я только что приехала. Отсутствие пяти долларов может стоить жизни: удар ножом или бритвой…
Гермес опекал меня.
– Гая, ты куда? – остановил он меня, когда я хотела на минуту выскользнуть из зала, где мы устроили пресс-конференцию для журналистов накануне вернисажа. Паблисити здесь – это все!
Когда-то, обреченная на одиночество, я очень тосковала по толпе, завидовала, что у других есть друзья, знакомые. С годами одиночество стало моей второй натурой. Конечно, есть люди, которых я очень люблю, но вот какой парадокс: после непродолжительного общения они начинают меня раздражать, а побыв с ними подольше, я прихожу в отчаяние даже от их безмолвного присутствия.
Я удрала от шума в тишину маленькой комнатушки декораторов, отделенной от выставочных залов перегородкой. Мурлыкал кондиционер, пахло пылью и краской. Родные запахи. Вокруг царил хорошо знакомый беспорядок, спутник всех искусств.
Стремянки, куски ненужных декораций, рулоны гофрированной бумаги, полотна, папье-маше, гора макулатуры.
И вдруг из кучи старых газет в меня выстрелила моя прежняя жизнь, призрак прошлого на обрывке брошенной газеты.
«УБИЙСТВО ДОКТОРА ОРЛАНО ХЭРРОКСА» – вопил крупный шрифт заголовка на странице без начала и конца, под фотографией мужчины с оторванной половиной лица.
Искалеченное лицо и черные буквы фамилии вызволили из памяти прошлое, похороненное так глубоко, словно и не было его. Они прорвали защитное беспамятство, задушили мукой и болью, перечеркнули двадцать последних лет.
* * *
Мое дитя родилось и покинуло мир в тот таинственный предутренний час, когда пульс жизни бьется слабее всего, когда чаще всего умирают больные старики и новорожденные.
– Девочка. Нам не удалось сохранить ей жизнь, – сообщил мне доктор Орлано Хэррокс.
В руках он держал крохотный жалобный полотняный сверточек.
Я поняла, что он говорит, но сквозь мягкий туман анестезии ни физическая, ни душевная боль до меня не доходили.
* * *
– Структурная композиция, выход в пространство… – Аукционист представляет одну из работ, выполненных техникой аппликации из мелких элементов. – Разнородность узора создает плоскости и выпуклости, придает фактуре глубину и делает ковер похожим на барельеф…
Послушать аукциониста – чего там только нет, господи помилуй! И сарматские ковры, и бухарские попоны, и вообще магнатская культура. Волосы дыбом встают…
– Он занудит публику насмерть, – беспокоюсь я.
– Люди любят патину веков, – самоуверенно отвечает Гермес.
Оратор выкарабкивается из византийского влияния, персидских и турецких орнаментов в польском дворянском костюме и прочего, подчеркивает значение традиций…
Традиции.
Земля, которая меня породила, не создала ни народного костюма, ни великой архитектуры, но из поколения в поколение там ткали в каждом доме; Творение собственных рук одевало, прикрывало спину коня, устилало дом и украшало.
Наверное, я носила это ремесло в крови, как наследственную болезнь или благотворную бактерию. А в самых ранних своих попытках я старательно и неуклюже копировала мать.
– У нас всякая баба домоткань делала. Это уж так повелось, как рекрутчина, не приведи Бог. Но великая ковровница раз на сто лет родится. По округе быстро про нее слух расходился, и уж она никогда лиха не знала. С чужих сторон люди к ней шерсть везли, и ковров от такой ткахи по многу лет ждали, бывало.
Так мечтала моя мать о сытой жизни для меня, нарезая кукурузный хлеб, к которому не могла привыкнуть. Мечтала о единственной великой карьере, которую она понимала и знала.
Обреченная на улицу нью-йоркской нищеты, двойная эмигрантка – из страны и из своей среды, – она была для всех тем более чужой деревенщиной. Она спасалась от отверженности, как спасается раненый зверь, инстинктом находя нужную травку: цеплялась за то, что было ей ближе всего, за то, что знала и любила.
Она убегала в ткачество от презрения, равнодушия, расизма окружения, пряталась от ностальгии. Не зная ученого слова, она говорила, что земля родная у нее болит.
На рассвете она предпринимала далекие и страшные путешествия в богатые районы, где до прибытия мусорщиков перетряхивала черные пластиковые мешки с отходами. Оттуда она выкапывала красочные тряпки, стирала их, резала на полоски и свивала в клубки, чтобы потом нанизать на ткацкий станок и соткать из них половички, накидки на диваны или дорожки.
Но деньги к ней не шли.
Да и где взять ткацкий станок на Манхэттене? Она не знала. За помощью пошла к соседу, который в океане чужого и враждебного мира был родным существом. Он разговаривал на понятном языке, кудри цвета поседевшей ночи прикрывал черной ермолкой из вытертого бархата, чтил субботы, а в пятничные вечера его одинокая тень раскачивалась на стене в такт пламени свечей, воткнутых в шестираменный подсвечник.
Печальный пророк наших каменных трущоб, окутанный дымом кипящих клеев и грунтовок, бродящий в облаках золотистых стружек, которые текли из-под рубанка.
Родной, потому что похожий на портных, сапожников, скорняков, которые сидели на рыночной площади родимого села, в войну стертого с лица земли.
Столяр.
Он остругал и просверлил деревянные рейки, сделал самый простенький ткацкий станок: раму. Мать знала такую раму с детства. В ее родных местах она была единственной игрушкой девочек, кроме собственноручно сшитой из тряпок куклы. Непреднамеренная дидактика: учить будущих ткачих.
– Да куда тебе платить, нечем же, – буркнул столяр, когда мать развязывала узелок с медяками. – Вот соткешь мне половик, у нас тоже такие делали.
Он был откуда-то из-под Гродно, приехал в Нью-Йорк после первой мировой войны, Тут провел всю жизнь. Похоронил жену. Вырастил единственного сына.
Моя мать нанизывала основу из толстых джутовых нитей (она выпрашивала в порту остатки старых канатов) и ночами плела тряпочные половики. Словно заклятье заставляло ее сидеть ночами над убогим станочком.
Так она защищалась. Иллюзия привычной и понятной жизни, дыхание леса, дикой речки в рамке камыша и дягиля, в объятиях черных ив, а не бетонных коллекторов. Там было другое время, другое пространство, другое солнце.
Выточенным из дерева толстым крючком (в ее краях его звали кулемой) она вязала половички, накидки, тряпичные паласы, обезумевшие от красок. Расцветали и опадали шерстяные цветы, пенились травы, вставали дремучие леса и паслись животные. Как в раю: дикие и домашние вместе.
Нет, великой ткачихой она не была. Мне, единственному ребенку, уцелевшему от резни, она пророчила славу, когда учила первым стежкам.
– Может, ты, дочка, получила этот дар, потому как ровница тебя прилюбила, к тебе так и льнет…
Сейчас, в Музее современного искусства, я стояла как бы и от ее имени: в брошюре упомянули и мать, мою первую учительницу. Поздно пришла эта слава, мать уже разучилась радоваться, печалиться, переживать.
Моя мать…
Деревенщина-изгой, с лицом потрескавшейся камеи, с разбитой душой, искалеченная войной и двенадцатью годами в Нью-Йорке. Задавленная миром, который никогда не понимала и где потеряла инстинкт. Наивная и хитрая, великодушная и мелочная, щедрая и алчная.
Растоптал ее Город. Не защитил станочек.
В нью-йоркских трущобах простой мир моей матери окончательно рассыпался, а его место занял шаблон массовой культуры. Ведь ниже Сороковой Восточной улицы самым большим позором была нищета.
Там восхищались теми, кто сумел оттуда выбраться. Таким завидовали. Душу травила мания успеха. Материального. Выраженного в суммах и вещах. Здесь никто ничему не ужасался, ничему не удивлялся. Люди жили в различных отношениях, жили недостойно, бессмысленно, с искаженной шкалой ценностей.
* * *
Я взяла предложенные деньги. Подписала, как требовалось, отказ от всех моральных и финансовых претензий, отныне и навеки. Чек, как возмещение за своего мертвого ребенка, я получила из рук того самого адвоката, который много лет назад кричал на мою мать через Стива, чей жаргон мы не очень понимали. Теперь адвокат очень вежливо обращался ко мне по-английски, а я прекрасно его понимала.
Мы купили стандартный домик в пригороде, где жили мелкие чиновники. Белый домик с черными ставнями и наличниками, с газончиком и живой изгородью.
Мать начала подражать соседкам.
Она остригла косу, стала завивать волосы, носила яркие цветастые платья, красила ногти кроваво-красным лаком, курила, попивала. Она завела знакомства, не сторонилась мужчин, с удовольствием кланялась знакомым дамам, и они ей отвечали, приглашали иногда на чашку чая или рюмочку ликера.
Мать уже не ткала половиков, а вместо этой страсти осталась пустота. Ее не заполнили ни усердный уход за собой, ни мимолетные связи с мужчинами, такими же потерянными, замороченными миром хищных вещей. Жизнь была погоней за вещами, жизнь для вещей. Эти люди не знали, что делать со свободным временем, и убивали его пьянством и дополнительными заработками.
Мать навещала наш старый район, гордо неся на макушке вавилоны лакированных локонов. Она хвасталась изысканными нарядами, новым статусом человека, которому повезло.
Возвращалась она разочарованной.
Восхищение и зависть долго не продержались. Она уже была не оттуда, и никто по ней не скучал. Эта среда, словно зыбучий песок, заполнила пустоту после нее так плотно, слово мать никогда не существовала, словно и не прожила среди них десять лет.
И снова она везде чужая…
Она опять начинала биографию с нуля. От входа в маленький белый домик с черными наличниками. Но и здесь ее на самом деле не приняли. Она была слишком другая, слишком простая, часто под хмельком. Новообращенная стареющая роковая женщина… И смех и слезы.
В отместку за равнодушие мира, который даже не потрудился ее отвергнуть, а просто не замечал, мать идеализировала людей, природу и животных своей юности, оставленных в той далекой деревушке. Она все больше пила, все больше говорила о том, что надо вернуться.
Но ей легче оказалось снова преодолеть океан, чем последние триста километров, что отделяют Варшаву от Вигайн. Она никогда не ездила туда, хотя сначала все собиралась. И каждый раз появлялись какие-то непреодолимые препятствия. Плохая погода, нет модного платья, дурное самочувствие, мои уроки, мое неудавшееся замужество, моя профессия, затем устройство виллы на Садыбе, садик и грядки. Потом она перестала искать предлоги.
Препятствие таилось в ней самой.
Сознание, что она проиграла, страшное осуждение той жизни, которую вела. И никакого значения не имело то, что люди из нашего родного села разлетелись по свету или умерли, а остальные не знали ничего о перипетиях нашей судьбы. Стыд за свою жизнь и чувство вины за поступки она носила в себе.
И мне не хотелось нарушать устоявшийся ритм жизни, вот я и не ехала туда. Наверное, слишком рано меня с корнями выдернули из самого первого места на земле.
Но я и сама не поняла, почему меня так настойчиво потянуло в родные места, особенно после того, как в газете появилось то самое объявление с моей девичьей фамилией и названном села Вигайны, где я родилась.
Многие годы, не вызывая ностальгии, во мне сохранялся застывший, нежный, пастельный образ моей родимой стороны. Полонины и луга, болота и сумрачный лес, васильковое око озера и буйные травы. Теперь я увидела совсем другую реку, другие лес и луг. Приятный чужой пейзаж. А близким остался тот, прежний.
Я не почувствовала себя на родине, точно так же, как на Нижней Восточной, как в белом домике с черными наличниками, среди азалий и рододендронов.
Может быть, моя родина – в Варшаве, в вилле с садиком? Или в мастерской сценографа? Но на самом деле моя родина – в моих коврах. Только там мне хорошо, туда я убегаю от разочарований и предательства. От неумолимого времени, которое лепит меня, от будничных терзаний.
* * *
Меня все время гложет страх за мать и Ханну, мою дочку. Неразумная старая женщина под опекой четырнадцатилетней девочки.
Ханна замечательно и благотворно влияет на бабку. Именно поэтому Ханна слишком серьезная для своего возраста. И мы зовем ее полным именем – Ханна, а вот бабку привыкли между собой называть Стеня.
Кроме этих двух беззащитных существ, у меня никого нет, вот и пытаюсь издали их опекать – при помощи телефонного кабеля. Каждый раз, когда невидимые связи соединяют наши голоса, мне кажется, что происходит чудо.
– Благодарю, дочка, – церемонно отвечает моя мать. – У нас все в порядке. Я пока сижу у телевизора, а Ханна спит.
– Почему спит? – В одичалом воображений немедленно возникает картина болезни, катастрофы, несчастья. И все куда-то пропадает, кроме страшно далекого и близкого голоса в трубке.
– Так ведь ночь, – шелестит голос матери.
И сердце снова начинает биться, медленно разжимается на горле давящий обруч. Господи, до чего же все просто: у них же сейчас ночь! Я забыла о шести часах разницы во времени между мной и домиком на Садыбе.
Гермес перечисляет знаменитостей, которых привела сюда выставка ковров ручной работы. Работы, которая овечье руно превращает в шерсть, насыщает ее природными красками и ткет из нее нежные композиции.
– Завтра тебя ждет известность в Нью-Йорке, – уверяет Гермес.
Я стою на возвышении, наливаю арманьяк в хрустальные рюмки, потому что я тут за хозяйку – так решил Гермес, – и я наливаю тяжелый янтарный напиток из французских виноградников в граненое стекло из богемских стеклодувных заводов.
Коньяк разносят по залу хорошенькие девушки из известного агентства по обслуживанию презентаций. Им платят по тридцать долларов в час, чтобы они украсили собой вернисаж. Гермес представляет вновь прибывших: политика, литератора, философа…
Истеблишмент!
Меня Гермес решил приодеть, чтобы я, как полагается, украшала его шоу.
– Надо дать тебе достойную оправу – изрек он, останавливаясь перед магазинчиком, в котором он давал оправу всем своим клиенткам.
За хрустальным стеклом на подкладке из фиолетового бархата, словно редкая драгоценность, лежала единственная блузка из кремового шелка, вся покрытая ручной вышивкой такого же цвета. Единственная блузка, возле которой не было ценника.
Перед витриной, похожей на футляр для драгоценностей, я заупрямилась и не позволила затащить себя внутрь. Я хорошо знала манеру таких изысканных магазинчиков. Берегись тех, кто не опускается до прикрепления ценника к тряпке на витрине, – это грабители с большой дороги!
– Слишком дорого! – взбунтовалась я впервые за все время.
Я мужественно выносила веленевую бумагу, арманьяк разлива тысяча девятьсот пятьдесят девятого года, слова не сказала против первоклассных самок, то есть официанток за тридцать долларов в час.
Я не протестовала, хотя вместо арманьяка лучше было бы подать пшеничную водку. Подлинный народный колорит. На земле, откуда я родом, растет не виноградная лоза, а пшеница, и разносить водку могли бы не самые дорогие мордашки Нью-Йорка. Я терпела эти безумства, хотя они пожирали прибыль, но содрать с меня семь шкур в бутике на Мэдисон-авеню не дала. Через мой труп!
– Одежда – это мое личное дело, – встала я на дыбы.
Еще какое личное! В чертовом договоре черным по белому написано, что я сама несу все расходы. И не будет Гермес одевать меня за мои же деньги!
Деньги…
Я приехала сюда со ста пятьюдесятью долларами, которые разрешили вывезти. Гермес сразу открыл мне кредит, которым я очень экономно пользовалась. Больше всего беспокоила мысль, что дохода от продажи не хватит на покрытие всех расходов. Пугали счета за гостиницу, аренду зала, рекламу.
– Не смей диктовать мне, во что одеваться.
– Это оговорено в контракте!
– Вот как? Что-то не заметила, – соврала я.
– Наверное, ты невнимательно его читала. Стоит ли спорить из-за мелочей?
– Стоит! Слишком дорого! – упрямилась я не хуже осла. – То, что я привезла с собой, – не хуже!
Договор и сценарий выставки Гермес прислал в Варшаву. Летя в Нью-Йорк, я хорошо представляла себе, чего он от меня ждет. Даже стилем одежды необходимо подчеркивать, что я творец прекрасных вещей. А по убеждениям Гермеса, даже в области моды Город – олицетворение высшего класса.
А на самом деле мир заполонила дешевка с конвейера, что в Париже, что в Нью-Йорке: ни оригинальности, ни выразительности.
Индивидуальность предмета начинается от цены, недоступной для обычных карманов. Эти вещи делают в маленьких мастерских, и здесь Нью-Йорк не уступит Парижу: такие же улочки скорняков, белошвеек и портных… Чрева пароходов и самолетов выбрасывают их на плиты аэродромов и пирсов: без языка, денег и знакомств они беспомощны, как глубоководные рыбы, вытащенные на мелководье. Они не отваживаются уезжать вглубь континента и оседают здесь, в нью-йоркском Вавилоне, где смешаны все цвета, народы и языки. Их приютят районы земляков, поглотят нищие кварталы.
Для волшебных умелых рук нет языковых и национальных барьеров. Вот они и продают свой талант, фантазию, ремесло. Чеканят серебряные пластинки, плетут ажурные узоры из золотой проволоки, вырезают сады на зернышке риса, преображают медь, дерево, перламутр.
Я помню индийцев, режущих по слоновой кости, итальянцев, слепнущих над сказочной филигранью. Их работу клеймит своим знаком ювелирная фирма, поселившаяся во Флоренции раньше, чем появились Соединенные Штаты.
Я помню старых евреев с пергаментными ликами, беженцев со всей Европы. Они задыхались от бриллиантовой пыли. Их нежные пальцы не уродовали структуру кристалла, хотя они нарезали до ста пятидесяти фасеток на камне меньше семечка. Алмаз создает природа, а бриллиант – ювелир.
– Это очень красиво, – похвалил Гермес мое платье из кремового шелка, украшенное тончайшим кружевом ручной работы на полтона темнее.
Его крючком связала мать. На ажурной сеточке расцвели бесхитростные цветы садов её юности. Башмачки, васильки, болотные лилии. Это были цветы тех времен, когда она не ведала сигарет и выпивки, убийственного презрения и равнодушия, разбитых надежд. В ее руках рождалось творение высочайшей красоты, безошибочного вкуса, с прекрасной композицией.
– Понравились мои вставочки? – спросила она по телефону.
– Очень. Надену это платье в самый торжественный день.
– Очень красиво написали о твоей сценографии. – Мать осторожно выговаривает слово, которое долго ей не давалось.
– О какой именно, мама?
– Ну, к твоему испанцу…
КРУЖЕВА, СЦЕНОГРАФИЯ!!!
Ну конечно, теперь я вспомнила, где встречала человека, убитого в Ориле. Его лицо выплыло из темных закоулков закулисья, куда ведут выщербленные ступеньки – аккурат чтобы сломать шею.
– Осторожнее на третьей ступеньке! – предупреждаем мы новичков. И нет добровольца починить ее. Беспризорная какая-то эта самая третья ступенька, хотя театр поделен между хозяевами, как в джунглях.
Я затаилась в своей клетушке, которую на голубом глазу называют сценографической мастерской, и занималась декорациями к «Дону Карлосу». Фон условный, обозначенный самым схематичным образом. Вся выразительность зависит от цвета и освещения, весь акцент – на костюм.
Роскошь. Феерия красок и света, все должно подчеркивать каждый жест. Что-то вроде art impossible – невозможного искусства.
Я рисую мясистый блеск атласа и глубокую матовость бархата, мысленно расставляю прожекторы и софиты. Свет должен создать иллюзию осязаемой материи. Ну откуда мне взять сафьян, парчу, жемчужное шитье, страусовые перья и кружева, когда мне и гипюра-то не дают!
И тут, грубым диссонансом, – грохот на лестнице. Может, администрация добивается, чтобы кто-нибудь и впрямь свернул там шею?
Стук в дверь.
– Как я этого не люблю! – вырывается у меня вместо приветствия.
В такие моменты я ненавижу гостей. Все коллеги об этом знают, они чувствуют то же самое, но никто из нас не считается с другими: заходим когда хотим и от души мешаем друг другу работать.
Но это не коллега. Вошел старьевщик, поставщик театральных гардеробных. Он тащил огромную сумку, изношенную и брюхатую. Из-под замка торчал кусок ткани.
Один из тех грустных чудаков, что достают ветхие тряпки из волшебных сундуков, чудом переживших крах Российской Империи, две мировые воины, социалистическую Польшу. Фанатики театра, высоко ценимые костюмерами и сценографами, потому что в Варшаве волшебные сундуки редки.
Из скучного старья, принесенного им, я выловила несколько метров роскошных блондов и вполне сносное подражание малинским кружевам, пришитым к истлевшей ветоши, некогда бывшей нарядным платьем.
Он украдкой наблюдал за мной. Тогда мне казалось, что по выражению моего лица он пытается отгадать, сколько я ему заплачу.
И больше я его не видела.
Кем он был? Старьевщиком, который решил подзаработать на пороге старости? Мой телефон он мог тогда же и записать, я ведь не всегда работаю в своей клетушке. Но как попало к нему объявление из газеты, которое не понятно постороннему? И зачем он взял его с собой в свое последнее путешествие, оборвавшееся у порога дачи богатого иностранца? Может, он хотел его продать, как продал мне кружевную оборку, только объявление не стоило и того, что я заплатила за побитое молью фриволите…








