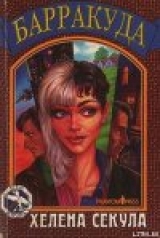
Текст книги "Барракуда"
Автор книги: Хелена Секула
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
Мессер стал полномочным представителем фирмы «Оскерко» в Париже. Остановившись в престижном пансионате, Витек появился у Клапарона, показал ему солидные документы и оговорил условия сотрудничества.
– Я славянофил, – уверял Клапарон, содрав с нас пятнадцать тысяч франков за право пользования своей канцелярией, а потом в «Серебряной башне» сожрал две дюжины устриц и еще шесть разнообразных блюд, включая их знаменитую утку.
И при этом остался таким же тощим. И куда этот скунс всю жратву девает?! Причем лопал на мои денежки, тяжким трудом заработанные у его патронессы. Приходилось только надеяться, что у него печенка откажет.
Вот так мы содрали семь шкур со Станнингтона-старшего, он сам напрашивался. Прошло гладенько, как по маслу. Для него продажность Оскерко сама собой разумелась – привык вести дела с мерзавцами из высшего общества.
Но я недооценила старика.
Я отработала несколько воплощений, даже не приходилось слишком уж эксплуатировать Анну-Мари. Только тогда влезала в ее шкуру, когда она сама уезжала из Парижа. Дружба Этера с манекенщицей сперва очень даже успокоила папеньку, он рассчитывал, что сын, занятый подружкой, забудет про молодого поляка.
Он ошибся.
Этер привязался к моему земляку. Они все реже расставались, я тоже не избежала встречи с Беем Оскерко. Он не мог отвести от меня глаз, и это были глаза мужчины.
Мальчик из приличной семьи, я даже не знаю, заметил бы ты меня на варшавской улице. Обратил бы на меня внимание, если бы я присела за один с тобой столик в каком-нибудь кафе в нашем родном городе, где подают горькую черную жидкость с запахом паленого ячменя и называют ее кофе?
Я иллюзия.
В костюме от Кардена, в роскошной машине, под охраной искусства великого кутюрье, макияжа и лицедейства, приправленная симпатией единственного наследника великого состояния, я кажусь прекрасной и желанной, недоступной, как драгоценность в витрине ювелира.
Мы пили вино в погребке, где настоящая Анна-Мари не появлялась. Хотя дело уже начинало пахнуть керосином: завсегдатаи быстро узнали во мне девушку с обложки.
А Этер, увлеченный этой игрой, невзирая на мои протесты, потащил нас в «Серебряную башню», куда частенько заглядывала настоящая Анна-Мари. Он веселился от души, в отличие от меня. Дурацкая, опасная эскапада. Истинная Анна-Мари была на съемках в Ницце, но в любую минуту мог войти кто-нибудь из ее знакомых. Ничего не произошло, но я с огромным облегчением покинула ресторан. Тогда же я решила навсегда расстаться с маской знаменитой манекенщицы.
– Этер, глупый молокосос, какую же ты мне подложил свинью!
В тот раз я пришла в ярость. Разумеется, я готова была сносить от него многое, но на роль матерящегося попугая или собаки-математика пусть поищет кого-нибудь еще.
У Этера была сильная склонность к выпендрежу, как у всех людей его круга. В конце концов, чем они могли поразить друг друга? Драгоценности, машины, женщины, дома, яхты, самолеты, картины старинных мастеров есть у каждого. Разве что немой служанкой или женщиной-хамелеоном.
– Я не хотел доставить тебе неприятности!
Этому недорослю и в голову не пришло, что он подверг меня опасности ради простого розыгрыша. Публика его круга безразлична ко всему, что не касается ее лично.
* * *
Когда Этеру позарез требовалось улизнуть от папашиного соглядатая, на помощь приходил Мессер. Они были почти одного роста, остальное довершал грим, этим искусством Мессер владел не хуже меня.
– Мы идем в «Люксембург», двойник должен подсмотреть твои манеры и походку, – как-то раз сообщила я Этеру.
– Да пусть просто зайдет ко мне в гости, я охотно с ним познакомлюсь!
– Исключено! – отрезала я.
Мессер не собирался светиться перед клиентом. В нашей профессии лицо надо беречь от чужих глаз. Этер жутко огорчился, когда ему отказали в игрушке.
Мессер в роли молодого Станнингтона появился вечером у подъезда, Этер чуть позже выскользнул из дому, и никто не обратил на него внимания.
Мы с Витеком решили разыграть правдоподобный сценарий, самый безопасный для него и единственный возможный для меня: Этер ухаживает за девушкой с Востока.
Витек целыми днями сиднем сидел в квартире Этера, не показывая носа на улицу, а я пробиралась к нему по вечерам, усыпив Ванессу.
Личина индуски позволяла совершенно изменить внешность. Вдвоем мы выходили из дома, но всегда только вечером. Мессер, загримированный под Этера, я в настоящем сари из золотистого шелка (в ход шли наряды Ванессы и ее драгоценности).
У подъезда нас поджидал кремовый «бьюик», взятый напрокат вместе с шофером.
Мы с Мессером отправлялись в ресторан или куда-нибудь еще, где могли вдоволь мозолить глаза соглядатаям. Так продолжалось четыре дня, пока Этер отсутствовал. А на пятый вечер мы решили наведаться в «Олимпию».
Почему именно на шоу с участием Анны-Мари? Разумеется, не для того, чтобы поглазеть на искусство макияжа, которым я владела не хуже, чем визажист на сцене. Нет, из обычной бабской стервозности: привести свою добычу, чтобы подразнить другую бабу. Пусть добычу и подложную, но ведь со сцены Мессер будет неотличим от Этера. Даже Бей Оскерко купился и помчался в антракте утешать Анну-Мари, о чем потом поведал мне Этер.
В тот вечер для нас с Беем Париж оказался большой деревней. Я не предполагала, что обаяние Анны-Мари в моем издании так подействовало на парня. Мне стало грустно. Почему я нравлюсь людям, только когда притворяюсь кем-то другим?
А потом Париж стал еще меньше. Свора папаши Станнингтона напала на мой след. Все-таки они отрабатывали свои деньги. Когда размножившаяся Анна-Мари одновременно начала показываться во Флориде и Париже, в Ницце и Париже, в Сен-Тропез и Париже, они встали на уши и поймали-таки меня.
Папаша Станнингтон выловил мою особу из водоворота юбок вокруг своего наследника и обнаружил, что сонм женщин сводится к одной-единственной глухонемой служанке его жены. К счастью, я успела предостеречь Мессера и Принца и в мгновение ока они исчезли из города. Бабки у них имелись. Платил Станнингтон-старший. Каждый из нас получил немало денежек за номер «адвокат Оскерко из Варшавы». Попадись мои приятели в руки старикану, он бы их ободрал, как бананы, и мне бы тогда сидеть во французской тюряге. Но в Париже Станнингтон не сомневался в подлинности Оскерко, с которым он заключил сделку в канцелярии Клапарона. Правда, он сообразил, кто на самом деле выдал сыну местопребывание брата-гомункулуса, и взял меня на короткий поводок, потребовав, чтобы я доносами возместила причиненное зло.
Зло! Может, и в самом деле не стоило говорить Этеру о существовании несчастного идиота? Но ведь, рассказывая об Артуре, я почти не знала Этера и его душевное состояние меня мало волновало. Это уже потом я стала носиться с ним как с писаной торбой.
«Кто я?» С четырнадцати лет Этер упрямо искал ответ на этот мучительный вопрос. Тщетные попытки найти мать или хотя бы отгадать, кто она. Ванесса, на которой отец женился задолго до его, Этера, рождения? Нет. Полный абсурд.
А потом последовало открытие: умственно неполноценный брат. Этер принялся собирать сведения о бостонской клинике, где сам он появился на свет и где тайно экспериментировали с человеческими зародышами. Начал взахлеб читать все, что касалось детей из пробирки, но собственная гипотеза вызывала у Этера яростный протест.
Я, конечно же, сторонница старого, испытанного способа делать деток. Но если отбросить предрассудки, то что тут особенного? Разве зачатие так уж важно? Человек существует, думает, чувствует, понимает, может радоваться миру.
Но с Этером я своими мыслями не поделилась. Чужую беду руками разведу, известное дело. Я тоже не хотела бы проклюнуться в пробирке, но ужаса у меня эта мысль не вызывала.
Собственная неполноценность. В умственной отсталости своего брата Этер усматривал результат генетических манипуляций. Еще бы! Человеку всегда легче верить в то, что лекарь напортачил, чем винить застарелый сифон предков. Но и эти свои гипотезы я не обнародовала. Вместо этого сунула нос в учебники, чтобы подтянуть свои знания по генетике.
– Один процент детей рождается с дефектами развития, а почти все остальные люди – носители генетических дефектов.
Как об стенку горох. Какое ему дело до всех! Этера интересовали только собственная персона и ненормальный братец. Снова и снова отправлялся он с визитом к очередному ученому с титулом длиной с Китайскую стену, а в его отсутствие мы на пару с Мессером водили за нос папашкиных топтунов.
Ну и семейка эти Станнингтоны! Один чокнутый носится со своим страхом, не в пробирке ли его заделали, а другой из кожи вон лезет, чтобы первый не узнал правды о себе.
Но тогда я еще ничего не знала о мотивах папеньки Этера. Когда слабое сердце Артура перестало справляться с обслуживанием огромного тела, растущего как на дрожжах, все семейство окончательно спятило.
Станнингтон-старший, доверяя только американской медицине, заставил жену перевезти сына в Штаты. Спьяну Ванесса обвиняла мужа в предумышленном убийстве при помощи новейших достижений медицины, протрезвев же, мчалась в Америку на свидание с любимым чадом. Меня она с собой не брала, в ее отсутствие в доме на улице Ватто правил Чен.
Старый Станнингтон согласился на пересадку сердца, и в бостонской клинике ждали донора. То есть ждали, когда молодой, здоровый и умный человек свернет себе шею, чтобы вырвать у него сердце и пересадить безмозглому существу. И это наполняло меня куда большим ужасом, чем зачатие в пробирке. Но Артур не дождался чужого сердца, его собственное перестало биться, прежде чем нашелся донор. Отпала одна моральная проблема, появилась другая.
– Знаешь, я не чувствую с ним ни малейшей человеческой связи, – исповедовался мне Этер, потрясенный своим открытием.
Он поспешил в Бостон, чтобы искупить неприязнь к брату и чувство вины за собственное здоровье. А еще – чтобы увидеть Ванессу.
Но она по-прежнему отказывалась встречаться с ним.
– Почему она меня ненавидит, чем я перед ней виноват?
Этер лелеял тайную надежду, что я каким-то образом все разнюхаю и ему донесу. В какой-то мере я уже знала, в чем дело, слепив воедино обрывки пьяных монологов Ванессы.
В чем он виноват? Да в том, что появился на свет. Ванесса восприняла рождение Этера как пощечину своей женской сути. Кроме того, на Этера обратилась вся отцовская любовь, несчастному уроду ничего не осталось.
Ванесса согласилась, когда муж решил завести собственного ребенка. Неизвестно, чем она руководствовалась. Возможно, чувством вины за то, что не смогла произвести здорового потомства, возможно, любила мужа и боялась его потерять. Или ею руководила забота об Артуре, который мог стать яблоком раздора между ними? В любом случае Ванесса обещала признать своим ребенка мужа. Каким же унижением была для нее эта сделка! Ее сына поместили в санаторий в Лаго-Маджоре, а она сама, согласно желанию мужа, поселилась под Парижем, симулируя беременность.
Но Ванесса не знала своего сердца.
Она не только не смогла усыновить ребенка, ее не хватило даже на терпимость. При известии о том, что ребенок родился, она возненавидела его, отказалась признать и не хотела больше о нем слышать. Не вышла из нее библейская Сара.
Дороги супругов разошлись, а Артур стал обоюдоострым мечом в руках Ванессы и ее мужа. С течением времени обида Ванессы превратилась в ненависть. И она погрузилась в личный ад.
* * *
Первый антракт в круизе я устроила в Гааге.
Между поездами позвонила Этеру. Номер на Стегнах, один из перечисленных им в открытке, не отвечал. Я позвонила по другому, в деревенский дом в Ориле. Этот номер он сообщил мне в письме год назад.
– Слушаю! – раздался в телефонной трубке голос Этера, на фоне смеха, музыки, звона бокалов.
– Собираюсь тебя навестить. – Я не узнала собственный голос, таким чужим он стал от волнения.
Этер узнал меня, только когда я назвалась и напомнила ему о Париже.
– Где ты?
Он даже обрадовался. Я ответила.
– Садись в самолет и лети сюда! Я встречу тебя на Окенче.
– Буду в Варшаве только послезавтра. – Я все еще не хотела рисковать и лететь самолетом.
– Жаль… Завтра я уезжаю на несколько дней.
– Я думала, что смогу у тебя остановиться. Естественно, мне было где жить, но я бы охотно приняла его приглашение.
– Никаких проблем! Я оставлю тебе ключи в секретариате нашей фирмы. Тебе любой покажет зеленый небоскреб на улице Ставки.
Этер не знал, откуда я на самом деле родом. Я никогда ему не говорила.
– Скажи, что приедет Сюзанна Карте. Так меня зовут.
Я повесила трубку, чтобы не объяснять, куда подевалась Мерседес Амадо, и нырнула в уличную толчею. Субботний вечер, неспешная нарядная толпа. Чужой язык, чужой город, чужие обычаи. Я внезапно почувствовала себя одинокой, брошенной, выведенной за скобки обычной жизни. Мне отчаянно захотелось домой. Давали о себе знать усталость и разочарование короткой памятью Этера.
После семидесяти восьми часов непрерывного бегства через Бельгию, Голландию и Германию я добралась, наконец, до родины.
Варшава.
Чистая, аккуратная, тихая ранним утром, близкая, трогательная и немного другая, провинциальная после буйства западных метрополий.
Ресторан – учет. Газетный киоск – «сейчас вернусь». Не работает – киоскер в отпуске, не работает – продавец болен, не работает – мастер уволился. Прием товара. Ревизия. Ремонт.
«В парк. Жолибож» – опущенный козырек единственного такси на стоянке.
– Я те из жопы гараж сделаю, щенок! – Тип за рулем принял меня за парня.
– Куда прешь, корова! – Водитель автобуса признал во мне девушку.
Я почувствовала себя в родном городе.
А вот и далекая Воля за караимским кладбищем. Давно не виденный дом с насосом и всеми удобствами во дворе. Но сад прекрасен, деревья выросли, в кронах прибавилось ветвей. И моя мать, немолодая уже, потому что я – поздний ребенок, о таких говорят «поскребыш».
Я сирота по собственному желанию и давно не видела братьев-сеструх, которые неплохо в жизни устроились. Они критиковали меня за образ жизни и непонятные источники дохода. Знали бы они, чем я на самом деле занимаюсь, – на порог не пустили бы. Знать-то они не хотели. И жили отдельно от матери.
– Люня! – обняла меня мама.
Только она по-прежнему называла меня этим детским уменьшительным именем. Только она знала правду обо мне. Но матери любят своих детей такими, какие они есть.
Все как раньше. Выскобленный, шафраново-желтый некрашеный пол, тряпочные половики, огромная печка с треснутой кафельной плиткой. В комнате диван (мама именует его оттоманкой) под узорчатым плюшевым покрывалом, бесчисленные вышитые подушки. В центре дивана – кукла, цыганка в юбке с блестками. Этой куклой детям никогда не позволяли играть. Украшение единственной ценной мебели в доме, на которую и садились-то только по праздникам.
– Я тебе яичницу сейчас пожарю!
Мама не спрашивала, откуда я, как никогда не спрашивала отца.
Она разбивала яйца, на сковородке шипел жир, а когда я наелась, принесла оцинкованное корыто, тоже из моего детства, и подбросила угля в печь.
Воду мама черпала из котелка, вмурованного в плиту вместо пятой конфорки. Сколько я себя помню, там всегда кипела вода, если печь была затоплена.
– Спасибо тебе за посылки, а денежки я приберегла для тебя.
Мама была дочерью, сестрой, женой и матерью людей, живущих отнюдь не в согласии с уголовным кодексом. Сама она ни в чем таком никогда не принимала участия. Она работала и выслужила скромную пенсию.
– Все, что я прислала, – это тебе.
– Да мне, детка, мало надо. Может, ты когда-нибудь остепенишься, замуж выйдешь… Что за мода пошла, девушки такие худые! – причитала она, растирая мне спину. – Небось, в этих заграницах ты и ела-то что попало. Ну, ничего! Если посидишь дома подольше, я тебя откормлю. – Так мама хотела вызнать, как долго я пробуду дома.
Неизменность любви мамы и искренняя радость от моего возвращения, вечная жизнь старого дома возвратили мне покой. Засыпая, я чувствовала себя в безопасности. Но это было совсем не так. Со мной остались страсти, гнев и безумие других людей.
АДВОКАТ ОСКЕРКО
– Адвокат Оскерко? – Женский голос с французским акцентом поперхнулся моей фамилией.
В трубке шелестели еле слышимые помехи, словно бился далекий пульс. Такой телефон был у Этера в Ориле. Последнее достижение электроники «Телефункен».
– У меня есть сведения, представляющие огромное значение для старого Станнингтона.
Дама говорила по-французски, но слово «старый» она произнесла по-польски, хотя с таким же кошмарным акцентом, что и мою фамилию.
– Я не веду дела старшего мистера Станнингтона, до сих пор я видел его только раз.
– Ничего страшного. Он серьезно отнесется к поверенному в делах своего сына.
– А к вам?
– Со мной дело обстоит несколько хуже. Он может подумать, что я хочу вытянуть из него деньги.
– А вы этого не хотите?
– Вы всегда столь нелюбезны с клиентами? – старательно выговорила она опять же по-польски.
– Вы не относитесь к числу моих клиентов, к тому же разговариваете со мной анонимно.
– А обязательная вежливость члена коллегии адвокатов?
– Увы, всеобщая вульгаризация не обошла и моей профессии.
– Прошу вас, отнеситесь ко мне серьезно, – попросила незнакомка на фоне все той же характерной пульсации. – Я действую в интересах Этера, а он – ваш клиент.
– Я скептик, мадам. Не верю в бескорыстную заботу о чужом благе, особенно когда ее декларирует на расстоянии некий аноним.
– Давайте не будем философствовать. Вы согласны выполнить мою просьбу? Прошу вас, не отказывайтесь, иначе может случиться беда!
– Что мне передать в Калифорнию? Только постарайтесь говорить конкретно.
Может быть, сведения и в самом деле важные: в голосе женщины звучало почти отчаяние.
– Документы Орлано Хэррокса в Варшаве, у меня. Насколько мне известно, это единственный экземпляр. Я готова передать им бумаги.
– Как с вами связаться?
– Пусть назовут день приезда и гостиницу, где они остановятся. Я сама найду мистера Станнингтона. Я позвоню вам завтра. Счет идет на часы! До следующего звонка, пан адвокат!
* * *
Заказав Лос-Анджелес, я набрал номер Ориля, хотя и не верил, что незнакомка возьмет трубку, даже если она и правда звонила из дома Этера. Действительно, отозвался только автоответчик.
Зато Калифорния ответила.
– Приветствую вас, мистер Оскерко, – сухо сказал Станнингтон-старший.
Я слышал его голос второй раз в жизни и впервые по телефону. И хотя знал о поразительном сходстве отца с сыном, но снова испытал потрясение, когда услышал в трубке голос Этера, с таким же тембром.
Слово в слово я изложил просьбу незнакомки.
– Я буду в Варшаве… – Станнингтон на миг умолк, после чего назвал дату и час прибытия самолета по европейскому времени. – Остановлюсь в «Виктории» или «Бристоле». Надеюсь, вы ничего не скажете Этеру?
– Не скажу.
Неужели речь по-прежнему идет о тайне рождения мальчика или о чем-то еще худшем? Ясно одно: стоило назвать фамилию застреленного более года назад главы бостонской клиники, как Станнингтон-старший бросает все и спешит в другое полушарие.
– Этер в Варшаве?
– Он вылетел в Нью-Йорк.
На том конце провода послышался вздох облегчения.
– До свидания, мистер Оскерко, спасибо.
* * *
Дело оказалось серьезнее, чем я думал. Сейчас и я забеспокоился. Счастье, что не отмахнулся от звонка незнакомки.
Почти наверняка кто-то воспользовался аппаратом в доме Этера. Запасные ключи лежали в моем сейфе. Невзирая на поздний вечер, я решил наведаться в Ориль. Если таинственная незнакомка побывала там, следует поспешить.
Беспрерывно лил дождь. Август, а слякоть почти осенняя, и ветер ледяной. Я заглянул в гостиную – средоточие нашей семейной жизни.
У стены сам с собой беседовал телевизор. Тина, моя жена, перебирала спицами, посматривая в раскрытую книжку. В корзинке с пряжей рядом с клубком шерсти спала наша кошка, удивительно похожая на этот клубок.
– Меня не жди, могу задержаться. – Причину я называть не стал. Пусть Тина думает, что у меня дела в канцелярии на Крулевской.
– Уже поздно, – она ткнула спицей в часы на полке. – Твой сын где-то шляется.
Когда Тина бывала недовольна Беем, он неизменно становился моим сыном.
У дверей переминался Лорд, громадный пес ростом с пони, лохматый, как муфлон. Его крепкие когти молотили по полу, словно дамские каблучки-шпильки.
Я не собирался брать собаку с собой. Тина, оставаясь дома одна, особенно темными вечерами, чувствовала себя не в своей тарелке, с Лордом ей было спокойнее. Мы живем далеко от центра, на южной окраине Варшавы, в конце короткой улицы Райских Птиц. Сразу за нашим домом начинаются Кабацкие леса.
– Лорд, на место!
Пес уныло поплелся в прихожую, но стоило мне открыть дверь, как он попробовал выскочить на улицу одним отчаянным прыжком. Мы прекрасно знали этот его трюк.
Ветер сек лицо ледяным дождем, на крыльце раскачивался фонарь. Цепь ритмично скрипела, свет в прозрачном желтом абажуре плясал, заливая ступени золотистыми волнами.
Внезапно стало темно. Свет погас всюду, и только далеко, в районе Пулавской, виднелись огни уличных фонарей. В машину я садился на ощупь. Автомобиль стоял у дома, в гараж я ставил ее редко, потому что Тине в таких случаях трудно было выводить свой маленький «фиат».
Дорога на Ориль ведет с Вышковского шоссе. В такое время движение очень оживленное. Не успели мы проехать полдороги, как я услышал шорох на заднем сиденье и в тот же миг почувствовал, как в затылок уперлось что-то холодное и твердое.
– Гони, адвокат, в Ориль! – раздался мужской голос.
У меня окаменела спина, руки налились свинцовой тяжестью, сердце на миг замерло, потом учащенно забилось. Ужас мешался с изумлением. Значит, вот так должен произойти мой личный конец света.
В голове взметнулся вихрь мыслей. Незнакомка своим звонком попросту выманила меня из дому… Старый дурак! Не заметить человека в собственной машине… Что стоило глянуть на заднее сиденье? Там всегда валялся старый плед. Когда садился в машину, погас свет… но только на нашей улице… На Пулавской огни горели, я помню… Должно быть, сообщник этого типа с пистолетом покопался в распределительной коробке на углу улицы.
– Я сказал – в Ориль! – Дуло сильнее вдавилось в затылок.
– В деревню или в дачный поселок?
Ясность мыслей постепенно возвращалась.
Наверное, этот тип не понял, куда я еду, его сбила с толку моя окружная дорога.
– В свой час узнаешь, адвокат! – Бандит по-прежнему прятался за спинкой моего сиденья.
А что, если дать газу и резко затормозить? Мерзавец потеряет равновесие и случайно выстрелит. Нет, пока он сидит у меня за спиной, ничего предпринимать нельзя.
– Ты на дорогу смотри, адвокат, на дорогу, а не в зеркальце, не то к ангелочкам прилетим, – вполне резонно заметил тип.
С земли поднимался туман, расплывался, клубился, как папиросный дым. Нос машины тонул в белесой мгле.
– В таком супе и шею сломать недолго, – спокойно отозвался я.
Только бы остановить машину и выманить его наружу.
– Ничего, как-нибудь! – Он снова вдавил мне в шею холодный металл. – И без фокусов, адвокат, не то вмиг жизни решу. Не ерепенься. Дела сделаем, и вернешься себе домой жив-здоров.
– Что за дела?
– На месте тебе скажут. Меня за язык не тяни.
– Кто скажет?
Тип молчал.
– Как вы оказались в моей машине? Погреться залезли?
Буду разыгрывать наивность, ничего другого не остается.
– Погреться! Да я в этой жестянке чуть уши не отморозил, пока тебя дожидался!
С заслуженным старым «ситроеном» я никак не мог распроститься отчасти из привязанности, отчасти из-за нехватки денег на новую машину.
А старая моя кляча могла бы хоть раз выказать лояльность.
«Ну, застучи же мотором, закашляй, покажи этому типу, что ты неисправна, заглохни! – мысленно уговаривал я машину. – С какой стати нам оказывать любезность негодяю, который тычет мне в затылок железякой?»
Железяка могла оказаться как пистолетом, так и ключом от кроличьего вольера.
«Ну, подавись же бензином, заглохни, ты же старая, заезженная, тебе давно на покой надо!»
Но машина бойко мчалась вперед, разрывая вуаль тумана, словно только что вышла из капитального ремонта.
«Если выберусь живым из этой истории, продам тебя, подлая твоя шкура!»
– Ну да, влезли в машину что-нибудь свистнуть, а теперь не знаете, как ноги унести!
Может, выболтает, кто его прислал и что за люди ждут меня в конце дороги.
– Да что тут у тебя тырить! Транзистор? Старые тряпки? Кому это тряпье нужно? На шмотки сбыта нет, разве что экстра-класс, да сегодня и мода-то такая, что кто побогаче, одевается, ровно с помойки. Народ тряпки разлюбил, вкладывает бабки во что получше.
Я обратил внимание на его речь. Кроме жаргонных словечек у типа то и дело проскальзывали архаичные выражения. Так до сих пор еще говорят в деревнях над Бугом.
– Тачка у адвоката хилая. Не верю, что у адвоката на что-нибудь поклевее бабок не нашлось. От налогов бегаем, а? За те годы, что ты тут языком работаешь, из одного Ориля сколько вытянул! Как тут начались разборки насчет земли, за одни консультации на «мерседес» мог бы накопить.
– А что, вас землей обидели?
Я многократно выступал от имени крестьян, оставшихся хозяйствовать на земле. Часто случалось, что их братья и сестры, чтобы получше устроиться в городах, требовали часть отцовского наследства. Для выплаты их долей крестьяне должны были бы продавать землю. Экономическое убийство для сельского хозяйства. Административное право охраняло интересы фермеров.
– А чего тут делить было? Тут как пес на своей земле ложился, хвост на соседский огород торчал. Только адвокатам рай, когда наследники мордобой устраивают.
Я молчал. Этот тип не настолько глуп, чтобы признаваться, что он родом из Ориля. Это камуфляж.
Из тумана вынырнул дорожный указатель. Я свернул, и мы углубились в лес. Через двести метров кончился асфальт, машина подпрыгнула на первых колдобинах, потом последовало нечто похожее на взрыв – и тишина. «Мотор скис», – подумал я, и последнее слово рассыпалось у меня в голове искрами…
* * *
Ветер терзал фонарь – четырехгранную призму, – из фонаря волнами истекал свет. Болезненно поскрипывала цепь в ритме прилива и отлива золотистого блеска. В том же ритме приближались и удалялись голоса.
– Да не шуми так, – буркнул мужской голос. – Чего у тебя ведро так скрипит?
– Ворот покривился, вот и пищит, – извиняющимся тоном отозвался шепелявый женский голос.
Скрежет утих.
– Свежей воды набрать бы надоть.
Никто не отвечает.
– Дык я говорю, свежей водицы надоть, похолоднее.
– И эта холодная.
– Дык как скажете…
Цок-цок-цок – конские копыта. Коня зовут Мерин, так окликнул его мужской голос. Мерин. Только мерин – это же не имя, так называют татарских конников… да нет же, жеребцов. Снова скрип. Сквозь сверлящий звук прорвался голос:
– Да поставь же ты это ведро и перестань вертеться под ногами!
– Вы ж велели холодные мокрессы ему класть, дык я и кладу. Чего вы хочете?
– Чтобы ты села… во-он там… и тихо сидела.
– «Он избавит тебя от сети ловчей, Он спасет от чумы, и дьявольских порчей, и будешь славить Его до конца века по закону-обряду Мелхиседека», – монотонно затянула женщина народное переложение Давидова псалма.
Негромко, но глухой напев и скверная дикция неприятно раздражают слух.
– Замолчи, баба! Молиться можешь, только петь перестань!
– От, значить, и псалмов не позволяют. Дык тогда по четкам молиться буду. По четкам можно?
– Можно. Но тихо!
– С час пройдет, пока он очухается. На кой ты его так шандарахнул, Мерин?
Вроде бы я этот голос уже слышал.
– Damn! Одно вытекает из другого. Зачем ему башку ошеломить, ты мог его без жизни сделать. Я очень не рад такой работе, очень!
– Я думал, он нарочно остановился, чтобы в лес улизнуть. Прости, Стив.
– Надо было полегче оглухивать! – Стив неумолим.
О ком это они? Мне надо привести мысли в порядок. Знакомый тембр – это Мерин, второй голос я где-то слышал, только вот не помню где. Третий – это Стив. Голос совершенно чужой, но само имя почему-то мне знакомо. Зачем Стив потребляет слова в их древнем значении? Словно он родом из прошлого века.
Я старательно пытаюсь постичь значение слов, мучительно выжимаю их сквозь сухие, потрескавшееся губы.
– Бредит, – замечает Стив. – Разбудись, баба, смени ему компресс.
– Счастливый примитив. Работа, молитва, еда, сон. Она даже нас не боится, мы превосходим возможности ее воображения.
Звякнуло стекло, забулькала жидкость. Совсем рядом послышались шаркающие шаги.
– Ой, дай Боженька, чтобы вы уж опамятовались, пан адвокат. – Женское бормотание резануло ухо.
Лба коснулась холодная мокрая тряпка. Всхлипывающий голос что-то лепетал про какую-то Брониславу, о том, что адвокат Оскерко знает Брониславу и людей в Ориле, и ее, владелицу шепелявого голоса, что адвокат может сказать, что сам ее нанял тут за порядком присматривать.
Мне уже не мерещился свет фонаря, а маятник огромных часов больше не разрезал слова на отдельные звуки. В черепе стремительно разрастался пылающий арбуз, во рту стоял мерзкий привкус. Хотелось пить, но сил не хватало даже чтобы протянуть руку.
Холодная влага чуть смягчила пожар в мозгу. Компресс. Его сменила баба. У нее с бандитами нет ничего общего, она перепугана и храбрится. Я не знаю, кто она. Скорее всего, кто-нибудь из легиона родственниц и свойственниц Брониславы.
Медленно прихожу в себя.
Наконец открыл глаза – в голове словно распахнулись ворота.
Я в гостиной в доме Этера. Полутьму разгонял единственный источник света в углу комнаты. Я лежал почти в полной темноте в противоположном углу – на диване у камина. Рядом чернел провал остывшего очага. Калориферы тоже выключены, но я не чувствовал холода. Пальцы нащупали пушистую шерсть. Старый мохеровый плед из моей машины.
– Давай новый компресс, – послышался голос Стива.
Ни его, ни остальных я не видел, одну только бабу.
– Дык я ж свежий ему поклала, – бормотнула она, но поднялась.
Двигалась она тяжело. Шаркая растоптанными шлепанцами, побрела к ведру возле моего ложа. Окунула тряпку, звякнул лед. Руки у бабы неприятно розовые, словно ручонки пластмассовых кукол. Она принялась выкручивать тряпку, и я понял, что это резиновые перчатки.
Сама баба напоминала кучку тряпья.
Небольшого роста, сгорбленная, поверх просторной рубахи с длинными рукавами надета овчинная безрукавка. Длинная, мешковатая юбка, на груди скрещены концы шерстяной шали, на бесформенных ногах черные чулки домашней лзязки.
Баба прошаркала ко мне и положила на виски успокоительный холод. Одна щека у нее опухла, глаз заплыл, слезится. Традиционный наряд горничной – кокетливый фартучек и кружевной чепчик на собранных в пучок седых волосах – выглядит на ней нелепо и смехотворно.
Я ее не знаю.
Зазвонил телефон. Баба потрусила в темноту.








