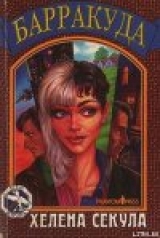
Текст книги "Барракуда"
Автор книги: Хелена Секула
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
– Еще бы! Мы славяне! – тут же встрял Отокар.
Я не долго позволял им идолопоклонствовать, тем более что все требовали объяснить, откуда взялось неслыханное богатство.
– Ты водишь дружбу с бароном Ротшильдом? – вопрошала Исмаиля, изысканно поедая восточное пирожное, истекающее жиром, сахарной глазурью и халвой.
– Нет, всего лишь с нашим личным миллионером. Этер, ужин я закатил за твой счет. Из десяти тысяч франков я истратил двести пятьдесят. Вот сдача. – Я положил перед ним деньги.
– А откуда они у меня? – Он смотрел на банкноты с опаской, как пес на ежа.
– Микеланджело Оверола вернул долг своей маммины.
– Синьора Оверола ничего мне не должна.
– Может, ты забыл, случается…
– Кто, говоришь, принес деньги?
– Микеланджело Оверола, подросток, красивый, как Исмаиля. – Я отвесил прекрасной деве Свена изысканный придворный поклон и описал, как выглядел юный итальяшка.
– Микеланджело Овероле от роду десять месяцев, – сообщил Этер. Синьора Оверола оказалась приходящей уборщицей, которая периодически наводила порядок в квартире Этера.
– Может, это его старший брат?
– У него только четыре сестры и нет никакого брата. Не ломай голову, Бей, ни одна из девочек не могла притвориться взрослым парнем.
Самой старшей – восемь лет. Да будет тебе! А ну говори, откуда ты взял деньги?
– Я ничего не выдумываю. В любом случае деньги принес кто-то, кто точно знает, где ты теперь обитаешь.
– Но я никому не давал вашего адреса! Действительно, Этер вел себя чрезвычайно осторожно. Письма он получал у консьержки дома, где у него была квартира. В основном это были письма от Коры, которая уже вышла замуж и обзавелась собственными детьми, но к воспитаннику сохранила самые теплые чувства. А письма отца он возвращал, не распечатывая, о чем сказал нам только теперь.
– У твоего отца есть адрес Бея, – вставил Отокар.
Всех заинтриговал посланец, одолживший имя у грудничка и отдавший деньги, которых не брал в долг.
– Парень постучал сразу к Свену, а мистер Станнингтон не знает наших трюков, – ответил я.
– Значит, узнал, – промычал Свен. – Да что голову ломать, и так дело ясное. Он заблокировал тебе счет, ты его писем не читаешь, но он не желает, чтобы ты помер с голоду, поэтому использовал итальянского подростка, чтобы дать тебе средства на жратву.
– Это не в стиле моего отца. Он не играл бы в благородного анонима, просто разблокировал бы мой счет и велел меня уведомить. Он любит играть в великодушие.
– А почему парень воспользовался чужим именем?
– Обратите внимание, итальянца прислали, когда Этера не было дома!
– Но непонятно, почему воспользовались именем семьи Оверола.
– А если бы в этот момент пришел Этер?
– Подстроили так, что он не пришел. Кто знал, куда ты идешь?
– Только Анна-Мари. Я встретил ее в «Ротонде».
Нам, разумеется, захотелось узнать, кто такая Анна-Мари.
– Манекенщица из «Вог». – Этер говорил неохотно.
– Может, это она послала тебе деньги?
– Анна-Мари знает, что Микеланджело Овероле десять месяцев, хотя догадывается, насколько плохи мои дела. Она даже предлагала одолжить мне деньги, но я отказался.
– Парня просто очаровала моя сумка. Все рассматривал ее, примерял, прямо вывернул наизнанку!
Только теперь поведение подростка показалось мне подозрительным. Когда он рылся в моей сумке, пытаясь разглядеть, как она выглядит изнутри, когда крутился перед зеркалом, перевесив ее через плечо, и рыскал по нашим комнатам, его поведение не казалось мне неестественным или шпионским. Маленький мошенник вызывал симпатию. Но что он искал? Что хотел найти, если искал вообще?..
– Вряд ли кто-то выложил десять тысяч за возможность обыскать твою сумку. – Свен не верил в коварство подростка.
– Мне тоже так кажется.
Я просмотрел документы, мелочи – все оказалось на месте. Не было лишь отцовских писем. Держал я их в ящике стола. Они пропали бесповоротно.
Среди всего прочего в письмах упоминалось о поисках Ядвиги Суражинской. Но если кто-то забрал нашу переписку, чтобы найти сведения на эту тему, то его ждало жестокое разочарование. Мой отец привык писать крайне лаконично, а с Этером они общались по телефону. Даже текст объявления они обговорили в одной из бесед. Объявление выглядело так:
Лиц, располагающих сведениями о Ядвиге Бортник-Суражинской, родившейся в тысяча девятьсот тридцать девятом году в Вигайнах в Сувальской Земле, просят написать в Бюро объявлений в Варшаве, а/я №… Все расходы будут возмещены, ответившим – вознаграждение.
На объявление, неоднократно повторенное в газетах Варшавы и восточных земель, до сих пор ответила только одна женщина:
Ядвиська из Бортников-Суражинских, в отличие от других прозванных Никодимовыми, родилась на свет в тысяча девятьсот тридцать седьмом, а не в тридцать девятом, как указано в объявлении. Она была убита в возрасте шести лет.
Ядька из Бортников-Суражинских, прозванных Травниками, родилась в тысяча девятьсот тридцать девятом году и вместе с матерью Станиславой пропала после войны при невыясненных обстоятельствах.
И не было больше в Вигайнах Ядвиг, рожденных в то время, – сообщала почтенная Иоанна Суражинская из Смольников, свидетельница смерти Ядвиськи в тысяча девятьсот сорок втором году.
Большинство жителей деревуписи носили одни и те же фамилии, совпадали имена отцов, дедов, братьев. Отсюда взялись нигде не писанные уличные прозвища: Никодимовы, Травники или Смольники.
После второй мировой войны много их разлетелось по свету, но что-то никто не слышал, чтобы из Вигайн кто-нибудь уехал в Америку. Вообще-то сразу после войны одна американка, Анна Станнингтон, искала родных, Никодимовых Суражинских, да только никто войну не пережил.
Только сейчас Этер узнал, что его Гранни после войны интересовалась судьбой своих родных в далекой стране, о чем она никогда не говорила.
* * *
Наша черная полоса понемногу проходила. Мы с Этером получили работу на товарной станции по выгрузке угля.
Столбик ртути опускался все ниже и ниже. Алжирцы, работающие вместе с нами, не выдерживали такой температуры, их оливковые лица синели, железные ящики с тлеющим коксом почти не согревали работающих. Мы редко вставали погреться: платили сдельно, за каждый разгруженный вагон.
– Жилистый ты!
До сих пор я не имел возможности оценить выносливость Этера.
– А ты решил, что я слабак? – Этер поднял на меня покрасневшие от ветра глаза. – Я из крепкого рода и скорее сдохну, чем сдамся на милость Чудовища!
В этом прозвище звучало эхо грубоватой нежности и обиды, Гордиев узел чувств, Этер рубил и сгружал уголь против отца.
Вечером мы валились, как снопы, засыпая над тарелкой, подсунутой друзьями. А через пару недель пришло уведомление из банка, даже два: одно на старый адрес Этера, второе принес в берлогу Свена курьер. Чудовище капитулировало, но дало понять, что знает, где искать сына.
Когда его счет разблокировали, Этер хотел оплачивать все наши расходы и снять квартиру получше. Было очень трудно устоять перед искушением, но мы все-таки отказались.
– Это было бы нехорошо, Этер. Мы все чувствовали бы себя скованно. Если мне будет действительно скверно, я первый приду к тебе занять деньжат. – Отокар высказал то, что было на душе у всех остальных.
– Можешь заплатить за эту квартиру до конца года, – милостиво позволила Исмаиля. – Так будет справедливо, правда, европейцы?
Наступала парижская весна.
За стеклами цветочных магазинов млели туберозы и ниццкие фиалки. В Сорбонну приехал читать лекции по приглашению знаменитый польский писатель. Он прекрасно писал и говорил. Знание предмета и свободный французский язык снискали ему симпатию слушателей.
На его лекции приходили даже те, кто не занимался полонистикой. Приходили просто потому, что были очарованы эрудицией, свободной речью, столь милым сердцу француза остроумием.
Гордый знаменитым земляком, я сам с удовольствием ходил на лекции, не пропустил ни одной и Этер. В Польской библиотеке поблизости от Нотр-Дам он брал книги маститого писателя. Этер уже почти не пользовался словарями и восхищался:
– Что он творит с языком! Язык просто просит, как пес: делай со мной что хочешь, вели ходить на задних лапах или прыгать через обруч, но только не молчать, потому, что без тебя я умираю в словарях, бесцветный и никакой.
На одной из перемен я встретил Этера с девушкой в ржаво-коричневом костюме с воротником и манжетами из рыжей лисы. Приколотый к лацкану цикламен подчеркивал нежное смуглое лицо, чуть раскосые ореховые глаза и светлые волосы, падающие на плечи.
Анна-Мари, топ-модель из «Boг».
– Подождите меня, здесь недалеко есть миленькая забегаловка! – скомандовала она нам, садясь за руль спортивной двухместной машины цвета морской волны.
– Газетная Джоконда, – пробурчал я себе под нос.
Я не мог смириться с расточаемым ею очарованием и с завистью… Да! Я позавидовал Этеру, что у него такая великолепная девушка.
– Что-что? – переспросил Этер.
В лабиринте старых домов «Старина Жак» занимал подвал здания, которое наверняка помнило всех Людовиков. В глубине зала невидимый скрипач играл нежную, тоскующую мелодию.
Вдоль каменных стен тянулись потемневшие дубовые полки, заставленные латунной и медной посудой, на простых неструганых столах мерцали свечи, вставленные в пустые бутылки.
Тихая музыка, воздух, пропитанный запахом растаявшего воска, теплый свет напоминали жаркий летний полдень, кусок медовых сотов. Мы устроились в нише.
В арке входа вспыхнул рыжеватый силуэт.
– Бонжур, Анна-Мари! – улыбнулся бармен.
– Хелло, Анна-Мари! О, Анна-Мари! – зашелестели голоса вокруг.
Девушка шла мимо столиков, к ней тянулись руки завсегдатаев, а она старалась всем ответить.
Пламя свечей бросало блики на ее пшеничные волосы, рисуя вокруг головы светящийся нимб, пронизывало блузку из старинных кружев, заколотую на шее камеей. Она проскользнула по узкому проходу, как ящерица.
Усевшись напротив нас, она бросила рядом пиджак с лисой и улыбнулась одними губами. Глаза орехового цвета не потеплели, в уголках губ затаились тени. На нежном лице Анны-Мари лежала печать обета. Девушка была окружена аурой тревоги, провоцировала на поступок, который мог привлечь ее внимание. Хотя она держалась со мной на равных, я не сомневался: для нее я пустое место.
Я пытался понять и классифицировать ее как явление, эту Анну-Мари. Странное дело, ее лицо показалось мне знакомым… Ну конечно, я ведь наверняка видел ее на обложке журнала «Boг».
«Вот самый роскошный предмет в Париже, – думал я. – Фиглярство и скоморошество, – старался я обесценить обаяние, расточаемое другому. – Мона Лиза за пять франков (столько стоил номер журнала), которая пробует на нас загадочную улыбку, которую подсмотрела у знаменитой Джоконды».
Живой манекен из витрины на Елисейских Полях, роскошная кукла, которую можно раздеть и одеть. Волосы настоящие, ухоженные и подстриженные у самого модного парикмахера, пустоголовая, умеет открывать и закрывать глазки. Умеет говорить около двухсот слов, чтобы казалось, будто она еще и думает.
Я ошибся. Анна-Мари была совершенно другой, а под пшеничного цвета париком пряталась необыкновенно смекалистая голова. Но тогда я не подозревал, что у этой девушки заемная шевелюра и незаурядный ум.
Этер пригласил нас на ужин в «Серебряную башню», кабак дорогой и с традициями, прославленный восемнадцатью способами приготовления утки.
– Этер, там же собирается весь город. Ты же знаешь, как я не люблю толпы. Лучше бы что-нибудь потише. – Анне-Мари явно не понравилось его предложение.
Этер настаивал. Анна-Мари капризностью не отличалась и не пыталась настоять на своем, а вела себя потом так, будто мечтала провести вечер в «Серебряной башне».
* * *
Зазеленели платаны в Тюильри, лопались почки каштанов на Трокадеро, в скверах расцвели ранние цветы, в витринах крупных торговых домов на Елисейских Полях уже воцарилось лето.
Я вспоминал варшавские Лазенки, деревья на Королевском Тракте и бульвар над Вислой чуть ниже Старого Мяста, вековой дуб на дороге в Натолин…
У нас зима сдает свои позиции позже.
За две тысячи километров, в нескольких часах полета, над рекой, которую иностранцы называют сонной Вислой, стоял мой город. Там ждала меня маленькая улочка Райских Птиц.
Я собирался домой.
Минуло два года моего Парижа. Я приехал сюда по окончании юридическою факультета Варшавского университета, ходил на самые интересные лекции и семинары великих ученых, художников и юристов, которых приглашают в Сорбонну со всего мира. Я совершенствовался во французском, английский тоже не забыл.
К Гейдельбергу прадеда, Нюрнбергу деда и Оксфорду отца я добавил свою Сорбонну. Единственное состояние, переходившее из поколения в поколение в нашей семье, – элитарное образование по юриспруденции.
Пора было покончить с затянувшейся юностью, проверить полезность полученных знаний. И уж давно пора отцу перестать содержать здоровенного лося.
Последние дни перед отлетом я проводил в городе: мне хотелось как можно больше насладиться Парижем. Я бегал по знакомым местам.
– Я еду в Оксфорд, – поделился Этер со мной.
Он рвался к своему профессору по клонированию, у которого скачут по углам стада генетически одинаковых жаб.
Наутро на станции метро «Клиньянкур» я увидел, что перроны оклеены репродукциями известных картин. Я сначала решил, что это афиша новой выставки, а расклейщик на конечной остановке залепил перрон всем, что у него осталось. Однако оказалось, что это реклама новой линии косметики фирмы «Коти», а лица на плакатах – модели, загримированные под женщин на картинах знаменитых художников. «Женщина с жемчужиной» Коро, «Маха одетая» Гойи… В портрете Модильяни я узнал Анну-Мари. Плакаты кричали о грандиозном шоу в «Олимпии». Презентация косметики с участием моделей, загримированных под персонажей картин, значилась как отдельный пункт программы. Спонсором шоу был журнал «Bor», а среди манекенщиц стояло имя Анны-Мари, девушки с обложки.
Я видел ее только раз – в старом погребке при свете свечей. Больше Этер не показывал ее нам, даже не упоминал, а когда мы спрашивали про Анну-Мари, смущенно уклонялся от ответа. Мы все поняли, и я перестал о ней думать.
Теперь Анна-Мари смотрела на меня с плакатов, загримированная под узкоглазых женщин Модильяни. Не раздумывая, двинулся я в «Олимпию».
Над городом сгущались лиловые сумерки, только что зажглись вывески и фонари. До начала шоу оставалось немного времени. На стоянке – только для персонала и гостей шоу – стоял двухместный кабриолет цвета морской волны. За стеклом позевывал далматин.
Я остановился в нерешительности, не зная, стоит ли идти на трехчасовую программу, – хотя в ней должны были выступать Азнавур, Дистель и Далида, – только для того, чтобы три минуты любоваться на Анну-Мари, пусть и загримированную под шедевр живописи.
На стоянке притормозил кремовый «бьюик». Мужчина в серебристом костюме подал руку кому-то в глубине машины. Показались ступни в сандалиях из позолоченных ремешков, выскользнуло смуглое плечо в белом палантине.
Из машины вышла Шехерезада, закутанная в сари, переливающееся янтарным блеском. Сквозь тонкую ткань просвечивали контуры тела. Между бровей пылал багряный знак касты. Она не шла, а плыла.
Как Анна-Мари.
Париж привык к множеству рас и национальностей, к разнообразию костюмов, традиций и лиц, но индуска притягивала взгляды. Наверное, не последнюю роль играла крупная бриллиантовая капля лимонного оттенка, пылающая на лбу девушки.
И тут я узнал спутника магарани.
Этер в смокинге из белой парчи, с жемчужиной в галстуке, на лице темные зеркальные очки. Он скользнул по мне совершенно равнодушным взглядом. Он не мог не заметить меня, потому что мы едва не столкнулись.
На кой он врал насчет Оксфорда? Привык врать папаше, вот и нам наплел сорок бочек арестантов. Надел зеркалки и прикидывается магараджей, уверенный, что никто его не узнает! Страус! От кого прячется, интересно, от родителя или от нас?
Бедная Анна-Мари! Наверняка сердце ее лопнет от зависти, когда она увидит Этера с львицей, украшенной такой драгоценностью…
Ставлю старый башмак против ее бриллианта, что эта цацка – знак новой любви ветреного гнилого капиталиста. Видимо, прав батя Станнингтон, перекрывая кран с деньгами, – сынок профукает наследие скупых пресвитериан и работящих поляков.
Мне стало противно.
Когда на глазах зрителей Анна-Мари под действием макияжа «Коти» в ловких руках гримера превращалась в даму с портрета, в ложе рядом я заметил блеск белого смокинга и золотистого сари.
Я направил на них бинокль, однако парочка сидела в тени балкона, и только темные очки Этера матово поблескивали, как бельма, да светился далекой звездой желтый бриллиант.
Демонстрация макияжа почти никого не интересовала: вокруг хлопали сиденья, шелестела фольга от шоколада, звучали разговоры.
Даже аплодисменты предназначались искусству гримера, а не моделям!
Мне стало жаль Анну-Мари. Я решил заглянуть за кулисы и отправился на поиски артистических уборных. В узком и длинном, как кишка, коридоре дорогу мне преградил швейцар.
– Посещать артистов не разрешается, – зевнул он.
Вышибалы во всем мире одни и те же. Надо дать им на лапу или смириться, но тут мимо меня прошел парень с подносом, заставленным остатками еды. Никакой униформы на официанте не было. Я решил взять с него пример. Купив в буфете горячий бутерброд и бокал вина, я отправился с подносом обратно. В коридоре я смело пошел грудью на цербера.
– Мадемуазель Анна-Мари? – вопросил я в нос.
Вышибала двинулся вперед и показал нужную дверь.
Разумеется, он меня узнал. Но в народе, который физиологическую потребность превратил в искусство, уважение к еде крайне велико.
В уборной перед рядами трехстворчатых зеркал сидели полуголые девушки, зеркала умножали и отражали их лица. Вокруг жужжала и крутилась целая толпа. У последнего зеркала в ряду я заметил Анну-Мари.
Я едва узнал ее по золотистой шевелюре, стянутой лентой у лба. Все ее лицо покрывал, как маска, слой белого крема.
– Привет, Анна-Мари! – Я поставил поднос на консоль с косметическим барахлом.
– Привет… – Рука с ватным тампоном удивленно замерла.
Она даже не обернулась, потому что видела в зеркале мое отражение. Ореховые глаза смотрели недоуменно и почти враждебно.
– Я ничего не просила, – сказала она низким, хрипловатым голосом. Он показался мне совершенно чужим и незнакомым.
– Это только предлог для вышибалы у дверей. – Я уже жалел, что пришел.
Какого черта надо было валять дурака перед девушкой, которую видел только раз в жизни? Она меня не узнала.
– Кто заказывал еду? – крикнула Анна-Мари в зал.
– Я могу взять! – прокричали в ответ с другого конца зеркального ряда. – Анна-Мари, пришли его ко мне!
– Подай это Жанетте, – манекенщица показала пальцем на скрытое белой маской крема, очень похожее лицо.
Как последний дурак, я взял поднос и поплелся в указанном направлении. Или она меня действительно не узнала, или стыдилась знакомства.
Этер появился через несколько дней. Я не собирался тыкать ему в нос «Олимпией». Может быть, он и вправду меня не заметил, занятый женщиной из «Тысячи и одной ночи». Но когда он показал мне браслет, купленный якобы в антикварной лавочке Оксфорда для Исмаили, на память, мне стало противно.
– Не трать слов. Я видел тебя в «Олимпий».
– Ну да, в «Олимпии», – пробормотал он машинально и онемел.
– Ты был с индуской в сари, в галстуке у тебя торчала роскошная жемчужина…
Создавалось полное впечатление, что о своем присутствии на выступлении Анны-Мари в «Олимпии» он узнал от меня.
Странная потеря памяти!
– Я заходил в уборную Анны-Мари, – продолжал я мстительно.
– В уборную Анны-Мари? – переспросил он бессмысленно.
– Перестань повторять за мной, как попугай! Я едва не пригласил ее на ужин!
– Что значит «едва»? – Лицо Этера вдруг стало испуганным.
– Она меня не узнала.
– Ты мог доставить ей много неприятностей, правила запрещают посещать манекенщиц в гримерных.
У него явно отлегло от сердца. Мерзавец! С кем я дружил! С бабником, коллекционером побрякушек на красивых женщинах!
– Позвони в Варшаву. Есть новости, – сухо сказал я.
В его отсутствие звонил мой отец. Через пять месяцев после появления в польской прессе объявления о поисках Ядвиги Суражинской отозвался Винцентий Барашко, торговец старым платьем, поставщик театральных костюмерных.
Он сообщил достойные внимания факты.
Станислава Бортник-Суражинская из Травников с дочерью Ядвигой, которую уменьшительно звали Ядькой, используя совпадение персональных данных и очень небольшую разницу в возрасте между ее дочерью и убитой Ядвиськой, выдала себя и ребенка за умерших членов семьи Бортник-Суражинских, прозванных Никодимовыми, и в тысяча девятьсот сорок шестом году при посредничестве американской военной миссии в Берлине выехала в Соединенные Штаты. Они отплыли в Калифорнию британским судном «Редъярд».
Исчезновение женщин из деревни устроил адвокат из Сувалок. Он знал людей в Вигайнах, их одинаковые фамилии и повторяющиеся имена, нигде не записанные уличные прозвища, по которым различали жителей деревушки. Обстоятельства благоприятствовали подмене, поскольку заморская родня не видела никого из здешних Суражинских, прозванных Никодимовыми, на протяжении трех поколений. На этом адвокат заработал сказочную по тем временам сумму – тысячу долларов, но не разбогател, потому что его ограбила банда. Через год он умер.
Когда Винцентия Барашко спросили, откуда в таких подробностях он знает о давнишнем мошенничестве, старьевщик скромно промолчал. Как потом оказалось, а мой отец подозревал это с самого начала, именно он и услышал в свое время по радио объявление Анны Станнингтон, искавшей уцелевших родных. Барашко связался с ней, взял тысячу долларов и отправил к Гранни Ядьку Травник с матерью, действуя от имени ныне покойного адвоката из Сувалок.
– Я все знаю, пан адвокат, – продолжал Барашко, – о дальнейшей судьбе Станиславы и ее дочери Ядвиги, сегодня почти сорокалетней дамы. Я готов открыть их местопребывание, но – и я этого не скрываю – за деньги, за хорошие деньги. На пороге старость, мои финансовые дела очень плохи, и сложилось так, что пенсии я себе не заработал.
– Не думаю, что мой клиент готов обеспечить вам пенсию.
– Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам, – блеснул цитатой Винцентий Барашко. – Я удовлетворюсь одноразовой, но приличной оплатой. Однако дальше предпочитаю разговаривать непосредственно с вашим клиентом или же вовсе не стану вести переговоры, Вы знаете, где меня искать, пан адвокат. К вашим услугам.
Барашко произвел на моего отца самое скверное впечатление, но, судя по всему, он впрямь немало знал о Ядвиге и ее матери. Что вовсе не означало, что ему был известен их нынешний адрес.
Отец собирался взять Барашко измором, но нетерпеливый Этер потребовал немедленно прислать этого типа во Францию.
– Пожалуйста, отправьте этого человека сейчас же, пока о его существовании не узнал мой отец! – умолял Этер.
Мой старик придерживался другого мнения, но уступил, понимая страх Этера перед назойливой и властной заботливостью Станнингтона-старшего, всегда знавшего лучше, что хорошо для его сына, а что нет.
Мой отец рассчитывал на бюрократическую волокиту, которая затянет выдачу паспорта. Пока Барашко управится, Этер потеряет терпение и сам помчится в Варшаву, где его можно будет предостеречь и уберечь от мошенника, который явно намеревается ободрать Этера как липку. Но Этер требовал прислать жулика в Париж. Поездка в Польшу обязательно привлекла бы внимание старшего Станнингтона, который изо всех сил воспрепятствовал бы подобной эскападе.
Мы недооценили оперативность авантюриста.
Через шесть дней после того, как мой отец передал ему парижский адрес лица, заинтересованного в Ядвиге Суражинской, Барашко приземлился в Орли.
– С кем имею честь разговаривать? С секретарем мистера Пендрагона Станнингтона? – спросил тип при встрече с Этером в аэропорту.
– Нет. Со Станнингтоном-младшим. Мой отец не имеет ничего общего с этим делом. Это я покупаю у вас сведения.
Тип выглядел слегка разочарованным, что обеспокоило Этера, поэтому он стремился закончить переговоры немедленно, как только гость зарегистрируется в пансионате.
Прибывший потребовал десять тысяч долларов наличными, а когда Этер согласился и пошел за деньгами, мошенник не только успел исчезнуть, но и снял остаток с гостиничного счета, оплаченного за три дня вперед.
Авантюрист считал, что за действиями варшавского адвоката стоит старый Станнингтон, а не его сын. Неизвестно, знал ли он вообще о существовании наследника. Но встреча с Этером дала новое направление жульнической мысли. Барашко вполне справедливо решил, что за имеющуюся у него информацию старший Станнингтон заплатит подороже.
Приближался день разлуки.
Первыми уезжали Свен и Исмаиля. Они собирались сначала в Швецию, а потом, осенью, в Марокко – Исмаиля хотела представить своего белокожего жениха родителям и многочисленной родне, в которой среди оседлых интеллигентов наличествовали и дикие кочевники. Мы готовились устроить великий прощальный пир, одновременно прописывая на чердаке грека и перуанца, которые составят компанию осиротевшему македонцу.
Но список гостей стократно превышал наши жилищные возможности. Мы даже думали совсем снести картонную стену между комнатами Свена и моей, но проект провалился, поскольку присутствие приглашенной консьержки плохо согласовывалось с перепланировкой чердака.
– Надо урезать гостей! – Отокар не видел другого выхода. – Свен, что-то многовато твоих девушек! Я насчитал одиннадцать.
– Они маленькие, много места не займут.
Любвеобильный викинг и без того не внес в список всех бывших пассий, оставил только тех, к кому по-прежнему питал остатки нежности.
– И едят они мало, – поддержал я друга.
– И готовят хорошо! – подхватил Свен.
На такие вечеринки каждый что-нибудь приносил, иначе для хозяев пришлось бы воскресить долговые ямы. Умеющие хорошо готовить всегда особенно ценились.
– А что такое «Андреа плюс один»? – не отступал македонец.
– Ну… у некоторых есть кавалеры…
– Знаете, какая давка тут была бы, пригласи я всех парней моих бывших девушек?!
– Не хвались.
– Вычеркнуть любовников бывших баб Свена! – потребовал Отокар.
– Своих кандидатов вычеркивай! – обиделся Свен.
Не могло быть и речи о сокращении списка, потому что каждый защищал свои кандидатуры.
Неожиданно на помощь нам пришла консьержка.
Зная вместимость чердаков и обычай своих жильцов, потому что чердаки с незапамятных времен населяли студенты, она порекомендовала нас хозяйке «Черной кошки» – маленького бистро по соседству. Когда бывали деньги, мы наслаждались там горячими обедами, в стоимость которых входил и огромный кусок гусиного паштета, подававшийся на закуску.
За неописуемо скромное вознаграждение, которое упрямо заплатил Этер, мы получили забегаловку и посуду в полное владение на два дня. Утром в субботу нам открыли черный ход, а на парадном вывесили табличку: «Обслуживается банкет!»
Кресло для консьержки, украшенное цветами, мы поставили во главе сдвинутых столиков. Она была ужасно тронута и произнесла целую речь:
– Bien! Молодежь остается прежней, только старшему поколению кажется, что она другая!
Уж она-то кое-что об этом знает, всю жизнь провела в Латинском квартале, и все это время молодежь населяла чердаки. Здесь жили и те, кто пришел прямо из Сопротивления. И бледные, мрачные экзистенциалисты, что щеголяли в черных свитерах и слушали своего уродливого рыжего пророка Жан-Поля Сартра, который записывал афоризмы на салфетке в кафешке через два дома. И те бездельники, что шлялись на демонстрации против атомной бомбы и войны во Вьетнаме, против диктатуры в Чили и против порядков в Сорбонне… Только неизвестно зачем они вырывали камни из брусчатки и поджигали машины на стоянках.
Ее мансарда давала приют людям всех цветов и народов, и так будет до тех пор, пока не снесут этот дом, а она не ляжет в могилу на сельском кладбище под Дижоном, где давно купила маленький домик и кусочек виноградника, да еще место для вечного упокоения, потому что в Париже она умирать ни за что не хочет: здесь людей сжигают, а нормальному человеку за всю жизнь не скопить денег на похороны.
Вопреки всеобщему мнению, из ее каморки очень многое видно. Молодежь благороднее и лучше стариков, хотя приносит очень много хлопот, особенно консьержкам. Молодежь прожигает дыры в простынях, самовольно подключается к электричеству, не платит за квартиру, контрабандой проносит наверх «буржуйки», месяцами держит у себя бесплатных квартирантов и прячет девушек.
Но все-таки молодежь лучше остальных, и она от всего сердца желает нам с возрастом освинячиться как можно меньше… хотя все равно мы освинячимся, как заведено. C'est la vie, то есть такова жизнь!
Столь изысканным способом она дала нам понять, что все видела и знала, а к нашим младенческим хитростям относилась снисходительно, как к неловким попыткам котят поймать мышку.
Наивные! Нам-то казалось, что мы смогли обмануть чистопородную парижскую консьержку! Я поцеловал ей руку и запел польскую «Сто лет!», хотя был еще вполне трезв. Меня тут же поддержал Этер. В таких случаях он вспоминал рассказы отца о польских дворянских обычаях.
Мадам растрогалась еще больше. Кружевным платочком она осторожно собрала слезы с искусственных ресниц, чтобы не размазать голубые тени на веках. Собираясь на наш доморощенный бал, она приоделась в черное парадное платье с декольте и изысканно накрасилась.
Меня вызвали в кухню.
Курьер принес корзину и стал осторожно выкладывать содержимое, упакованное в фирменный пергамент, покрытый цветными надписями.
К лучшим в Париже моллюскам была приложена адресованная мне карточка:
Прости за мое поведение в «Олимпии», Этер тебе все объяснит. Желаю успеха! Анна-Мари.








