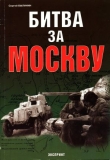Текст книги "И снова утро (сборник)"
Автор книги: Хараламб Зинкэ
Соавторы: Теодор Константин,Драгош Викол,Аурел Михале
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
– Кругом, марш! – И добавил: – Идиот!
Но Хория Быргэзан, вместо того чтобы подчиниться команде, обхватил ведро обеими руками и, пригнувшись, стал жадно пить.
Лягуха, снова ошеломленный дерзостью пленного, замер, потом, опомнившись, с яростью изо всей силы ударил ногой по ведру. Удар был таким сильным, что ведро вылетело из рук Хории Быргэзана и выбило ему несколько зубов. Хория, с окровавленным ртом, набросился на Лягуху, одним ударом кулака свалил его на землю и, навалившись сверху, схватил за горло.
– Скотина!.. Скотина!.. – орал Хория.
Несколько гитлеровцев бросились спасать своего командира. Подбежавший первым схватил Хорию Быргэзана за ворот, пытался оторвать его от Лягухи, но это ему не удалось.
– Скотина!.. Скотина!.. – продолжал реветь Хория Быргэзан, стискивая пальцами шею Лягухи.
Тогда другой гитлеровец, приставив к виску Хории автомат, нажал на спусковой крючок. Хория Быргэзан упал рядом с Лягухой. Но, застрелив Хорию, гитлеровец все же не спас своего командира: задушенный сильными пальцами Хории Быргэзана, Лягуха отдал концы.
Убедившись, что их командир мертв, гитлеровцы из конвоя одновременно, как по команде, направили на нас свои автоматы и приказали нам лечь на землю. Чтобы устрашить нас, один из них дал в воздух несколько коротких очередей. Я решил, что нас всех расстреляют, но этого не случилось. Просто, боясь нашего бунта, они хотели запугать нас.
Команду принял на себя высокий, худощавый капрал с веснушчатым лицом. Именно он застрелил Хорию Быргэзана. Он и стал вызывать к себе своих людей, чтобы передать им свои приказания, а чтобы не ослаблять охрану, он собрал не всех сразу, а по очереди, группами по пять человек.
Ознакомив конвоиров со своими приказаниями, капрал объявил нам, что разрешает напиться. Конечно, это было не жестом жалости, а доказательством слабости. После всего случившегося он боялся перегнуть палку. Группа за группой мы утолили жажду. Более того, когда мы тронулись дальше, у каждого были наполнены фляжки. Привал у последнего колодца растянулся на целый час.
Вечером мы остановились в большом селе. Сразу же после прибытия капрал куда-то исчез (после мы узнали, что он пошел, чтобы доложить начальству по телефону о случившемся и получить дальнейшие указания). В ту ночь мы спали также под открытым небом, и хотя днем стояла нестерпимая жара, ночи были холодными.
Утром на мотоцикле с коляской приехал новый командир конвоя, фельдфебель. Не много времени потребовалось, чтобы понять, что это ещё более свирепый зверь, чем задушенный Хорией унтер. И если унтера мы прозвали Лягухой, то нового командира конвоя Максимилиана Фримана мы прозвали Драконом.
Удивительно, с какой быстротой слава обгоняет человека. Через несколько часов после его прибытия мы уже знали множество вещей о фельдфебеле Максимилиане Фримане. Мы узнали, что левая рука у него искалечена, что он воевал в снискавшей печальную славу танковой дивизии СС «Мертвая голова», что был тяжело ранен во время боев в России, когда пытался выбраться из подожженного танка, после чего много месяцев провалялся в госпитале, находясь между жизнью и смертью, но в конце концов поправился. Однако после этого его использовали только в тылу, в лагерях для военнопленных. Мы узнали также, что фельдфебель, мягко выражаясь, «крутоват». Скоро, очень скоро мы убедились, что по жестокости он намного превосходит Лягуху.
Дракон был человеком совсем другого плана. Он никогда не орал на нас во время марша, не носился на лошади вдоль колонны, награждая ударами хлыста тех, кто из-за усталости не мог идти в ногу с колонной. Он не запрещал нам утолять жажду у колодцев, которые встречались на пути. С виду Дракон был даже великодушен. В действительности же он был более жестоким и изощренным зверем, чем Лягуха.
Дракон хорошо знал маршрут нашего движения. На его карте были отмечены места, где мы должны останавливаться на отдых. И приблизительно за два километра до каждой остановки он заставлял нас идти строевым шагом. Представьте себе, что для изнуренных, измученных голодом и жаждой людей означает пройти два километра строевым шагом по открытому месту, по жаре, как в разгар лета. Каждый раз кто-то из колонны падал и больше уже не поднимался. Его тут же пристреливали на месте. Но многие, хотя и не падали, с трудом шли в ногу с колонной, нарушая равнение в рядах. Ну а какой толк в строевом шаге без равнения?
Дракон не нервничал, не орал, даже не прибегал к хлысту, как это делал Лягуха. Тех, кто нарушал равнение, он отправлял в хвост колонны. Пока мы добирались до привала, сзади образовывалась довольно многочисленная группа, которую Дракон издевательски называл «взводом немощных». Те, у кого хватало сил пройти все расстояние строевым шагом, имели право первыми утолить жажду. Потом следовала очередь «немощных». Но это «право» было скорее теоретическим. Привал длился самое большее двадцать минут. Точно через двадцать минут Дракон подносил к губам свисток. Раздавался протяжный свист. В течение нескольких секунд мы должны были построиться в колонну. Практически за двадцать минут невозможно утолить жажду сотне человек, даже если бы эта операция протекала в полном порядке. Но поскольку Дракон не требовал никакого порядка у колодца, кто мог установить хотя бы малейший порядок среди этих людей, жаждущих, как путники в Сахаре? В такой обстановке почти все боялись, что за отведенные им минуты они не успеют добраться до колодца. Поэтому, когда объявляли привал, самые сильные бросались как сумасшедшие к колодцу, ругаясь, отталкивая друг друга, с остервенением отбивая друг у друга ведро. В этой свалке вода бесполезно проливалась на землю, время проходило, и, когда раздавался свисток Дракона, напиться не удавалось даже тем, кто выдержали строевой шаг до конца. Не говоря уж о «немощных», в категорию которых неизменно попадал и я. Каждый раз, когда Дракон давал нам передышку, я был так измучен, что потребность дать телу отдохнуть хоть немного, хотя бы те двадцать минут, которые проходили неимоверно быстро, была сильнее жажды. Отдохнуть, хоть немного набраться сил, чтобы не упасть и не быть пристреленным по дороге выстрелом в голову, как это случалось со многими другими. Я хотел жить, страшно хотел жить.
– Георг!
Это вскрикнула Милада. С некоторого времени я не слышал ее стонов и подумал, что она уснула. Или, может, она спала, а теперь очнулась?
– Георг, ты слышишь меня?
Она, без сомнения, бредила. Кто этот Георг, которого она звала?
– Георг, почему ты не отвечаешь? Я тебе все объясню, Георг, прошу тебя!
«Объясни мне, Милада», – сказал я про себя.
Да, она бредила. В бреду она приняла меня за Георга, умоляла дать ей возможность объяснить что-то. Что именно, я не имел ни малейшего представления. И мне было очень трудно выдать себя за того Георга. Мне казалось, что я совершу большую подлость, если скажу: «Объясни мне, Милада! Я тебя слушаю».
Но на что-то мне надо решаться: или попытаться объяснить ей, что я не Георг, или выдать себя за него. Но ничего этого от меня не потребовалось. Милада открыла глаза, долгим взглядом посмотрела на меня, будто пытаясь вспомнить, кто такой я.
– Ах, это ты, румынский пленный.
– Да, это я. Как ты себя чувствуешь?
– Понимаешь, я еще жива. Понимаешь?
Я не очень хорошо понимал, что она хочет этим сказать.
– Нет, не понимаю.
– Наверное, я только что заснула, и мне приснилось, что я умерла. Во сне удивлялась тому, как легко умирать. Я умерла незаметно. Во сне мне казалось, будто бы я, не заметив, перешла границу между двумя странами. Я не испытывала никаких сожалений, и мне казались непонятными мои прежние страхи. А теперь, когда я еще не умерла, мне снова страшно. Мне очень страшно. Я не хочу умирать!
Она снова заплакала.
– Не плачь! Ты поправишься.
– Не подумай, что я труслива. Я не боюсь смерти вообще, просто потому, что хочу жить любой ценой. У меня есть причины не хотеть смерти…
Она замолчала. Может, она продолжала бредить?
– Да, само собой разумеется, у каждого из нас есть причина, чтобы не хотеть смерти.
Моя реплика была глупой, но она сорвалась с моих губ почти помимо моей воли.
– Моя причина иная… Я должна объяснить что-то одному человеку.
– Георгу?
Она вздрогнула и с удивлением и в то же время с испугом посмотрела на меня. А может, только с возмущением?
– Что ты знаешь о Георге?
– Ничего!
– Ничего-ничего? – настаивала она.
– Ничего.
– Я не бредила?
– Нет!
– А откуда же ты знаешь это имя?
– Ты сказала лишь: «Георг, я тебе все объясню. Георг, прошу тебя!»
Милада облегченно вздохнула:
– Слава богу!.. – Потом после небольшой паузы продолжала: – Я тебя хочу попросить о чем-то. Очень, очень прошу.
– Говори. Я сделаю для тебя все, что в моих силах.
– Если я снова начну бредить, если я начну опять разговаривать с Георгом, пожалуйста, не слушай. Прошу тебя, отойди. Ты мне обещаешь?
– Само собой разумеется! Об этом можешь не беспокоиться.
– Я не могу, не могу… – Милада опять заплакала. Слезы ручьем побежали по щекам. Она всхлипывала, как ребенок.
– Тебе больно? – спросил я, хотя понимал, что она плачет не от боли.
– Очень больно! – согласилась она. – Поэтому и плачу. Очень сильно болит плечо.
И только теперь мне показались странными обстоятельства ее ранения. Не в самом городе, а за городом, на расстоянии километра, если не больше, от него. Почему именно там? Кто хотел ее убить? Гитлеровский патруль? Возможно, но не бесспорно. Во-первых, очереди были из одного автомата. Во-вторых, патруль ее просто задержал бы, а не стал расстреливать на месте, И наконец, в-третьих, патруль убедился бы, мертва она или нет.
Действительно, случай более чем странный. В конечном счете, что нужно было Миладе в поле в этот ночной час да еще в такой одежде? Может, ей кто-нибудь назначил свидание за городом? Трудно предположить такое, почти невозможно. Тогда почему она оказалась за городом, одетая в вечернее платье? Если в городке полно патрулей, как она утверждает, каким образом ей удалось незаметно покинуть его, и кто хотел застрелить ее здесь, в километре от города?
Можно было сделать самые различные предположения. Но какое из них соответствовало правде? Правду знала только она сама. Однако, как я убедился, она не была расположена открыть мне ее. Может быть, потому, что не доверяла мне, или по какой-то другой, известной ей одной причине.
Мы были совершенно чужими людьми, которых слепой, необъяснимый случай свел теперь в эту ночь, чужими людьми, обреченными, по всей видимости, на смерть. Она, Милада, умрет до утра, может, днем, я – немного позже. Мы были, к сожалению, чужими людьми, хотя наша схожая судьба должна была бы заставить нас уже не чувствовать себя таковыми.
– Ты рассердился на меня? – спросила она через некоторое время, перестав плакать.
– Почему я должен рассердиться на тебя?
– Думаю, у тебя есть причина, раз я просила тебя отойти, если начну бредить. Ты мог бы подумать, что я не доверяю тебе.
– Я ведь сказал: тебя это не должно беспокоить.
– Все же хочу, чтобы ты знал: речь идет не о недоверии. Дело совсем в другом…
– Хорошо, хорошо!.. Может, ты попытаешься заснуть?..
– Я не хочу спать. – И тут же она без всякой связи добавила: – С тех пор, как помню себя, мне везло. Ты можешь это понять?
– Да, само собой разумеется.
– А теперь… Почему ты должен быть румынским военнопленным? Человеком, которого самого травят, как зверя!
– А кем ты предпочитаешь видеть меня?
Милада не ответила, а только вздохнула.
– Так кем же ты предпочитаешь видеть меня? – настаивал я.
– Кем угодно, кроме того, кто ты есть!
– Предположим, что я был бы гитлеровским солдатом. Это тебе подошло бы?
– Не знаю, что ты думаешь обо мне…
– Тебе бы подошло это? – повторил я свой вопрос.
– Возможно. Но прошу тебя, не думай обо мне плохо.
– Возможно… Значит, ты сама не очень уверена в этом? – продолжал я свою мысль.
– Нет!
– Возможно, если бы гитлеровец не был зверем? Это ты имела в виду?
Милада промолчала.
– Скажи мне, Милада, чем я могу тебе помочь?
– Почему ты решил, что можешь мне помочь?
– Ты говорила, что не хочешь умирать. Да?
– Да, я это говорила… Ну и что?
– Я мог бы тебе помочь.
– Хорошо, если бы это было так. Но ты ничем не поможешь мне.
– Даже если я попытаюсь пробраться в город?
– И что? Ты сообщил бы в «Скорую помощь», и меня забрали бы отсюда, из болота?
– Конечно нет. Но если бы ты мне сказала, куда пойти, если бы дала какой-нибудь адрес в городе, я до рассвета успел бы вернуться по крайней мере с бинтами, медикаментами…
– Я никого не знаю в городе. И потом, неужели ты думаешь, что я соглашусь, чтобы ты рисковал своей жизнью ради моего спасения? Если тебя схватят, то тут же расстреляют. Понимаешь?
– Да, конечно. Если схватят, то расстреляют.
– В таком случае твоя жертва окажется напрасной.
– Но ведь не обязательно же меня схватят. Если бы я не нашел тебя, я все равно попытался бы пробраться в город. Скажи, Милада, к кому я могу пойти?
– Я не знаю в городе никого, кто может мне помочь.
– Но не хочешь же ты меня убедить, что не живешь в этом городе!
– Нет, живу. Но туда, где я жила, ты не можешь пойти.
Она закрыла глаза. Несколько минут мы молчали. Вокруг стояла тишина. Только по другую сторону болота, на шоссе, не прекращалось движение. В обоих направлениях непрерывно шли машины.
– Ты представляешь, где проходит сейчас линия фронта? – спросила она через некоторое время.
– Точно не знаю. Десять дней назад фронт был не дальше чем в сотне километров. Наверное, за это время наши возобновили наступление. Не думаю, чтобы фронт стабилизировался.
– Ты так считаешь? – спросила Милада.
– Предполагаю. Прислушайся, что творится на шоссе. Это оживление должно нас радовать.
– Почему? Думаешь, они отступают?
– Именно так я и думаю.
– А если немцы готовят наступление? Ведь движение на шоссе может означать и это, не так ли?
Замечание было правильным и показывало, что Милада имеет какое-то представление о фронтовых делах.
– Конечно, может означать. Только я не думаю, что немцы располагают достаточными силами для контрнаступления, особенно на этом участке.
– Тогда, может быть, через несколько дней советские или ваши войска пробьются сюда.
– Может, дня через два-три, а то и быстрее.
– Все может быть! – На лице Милады еще отчетливее проступило страдание. – И почему нельзя, чтобы человек выжил, если он этого очень сильно хочет?
– Как будто кто-нибудь хочет умирать! Если бы смерть зависела от воли каждого человека, люди за очень малым исключением стали бы бессмертными.
– Все же… как тебе объяснить? Одно дело не хотеть умереть, а другое – хотеть жить во что бы то ни стало. Я хочу жить во что бы то ни стало, потому что глупо умирать именно теперь. – Через некоторое время она продолжала: – Значит, может статься, что через два дня фронт пройдет здесь?
– Полностью нельзя исключать такую возможность.
– Знаешь чего я боюсь? Боюсь, что в раны попадет инфекция.
– Не попадет, – заверил я ее убежденно, хотя сам очень сомневался в этом.
– Только бы два дня, потому что два дня, я думаю, выдержу. – Потом она снова спросила: – А ты уверен, что через два дня сюда придут ваши?
– Конечно!
– На чем основана твоя уверенность? – настаивала она.
– Я уже говорил тебе, что десять дней назад фронт был всего лишь в сотне километров.
– Десять дней назад ты был в плену.
– Был.
– А если ты был пленным, то откуда знаешь, какая обстановка на фронте?
– По радио слышал.
– Ты хочешь сказать, что немцы установили вам в лагере приемник, чтобы вы не скучали? – с иронией спросила она.
– Само собой, нет. Но в лагере у нас был потайной радиоприемник из спичечной коробки.
– Как это из спичечной коробки?
– Я хотел сказать, что детали радиоприемника были смонтированы в спичечной коробке.
– Ах так!
– Силен был аппарат!
С тех пор как я убежал из-под конвоя, я впервые вспомнил о миниатюрном радиоприемнике.
* * *
…В лагере прямо у ворот нас встретила невеселая весть:
– Здесь свирепствует тиф!
Да и неудивительно! В лагере была неописуемая грязь, еды давали мало, да и она была невыносимой: сто граммов хлеба на день, кормовой горох или гнилая капуста с червями. Те, кого мы увидели в лагере, были подобны одетым в лохмотья живым трупам.
Утром нас выгнали на работу: рыть противотанковый ров. Темп работы был адским. Часовые были вооружены автоматами и, кроме того, чем-то вроде хлыстов. И все же нам удавалось как-то провести их. Особенно «старички» научились имитировать работу. К сожалению, минуты, которые нам удавалось украсть таким путем, составляли лишь незначительную часть времени на отдых, необходимый нам, чтобы выдержать. И именно поэтому многие из нас, даже те, кто приобрел исключительное умение проводить наших палачей, падали, изможденные, на землю и больше не поднимались.
Каждому из сторожей мы дали прозвище. Одного прозвали Гиеной, другого Молью, третьего Вампиром. Коменданта лагеря, майора Ганса Волзагена, мы прозвали Рысью за его походку и мутные глаза. Ни один не остался без прозвища. Самым подлым из всех был Гиена.
Из лагеря мы уходили на работу утром и возвращались вечером. Обед нам привозили туда.
После того как Гиена наедался до отвала, у него появлялось желание развлечься. И он развлекался, приказывая пленным бить друг друга по щекам. Если кто-нибудь отказывался, живым в лагерь он не возвращался. До вечера Гиена находил какой-нибудь повод и пристреливал отказавшегося от «забавы». Не проходило дня, чтобы мы во время работы не слышали автоматной очереди. Каждый раз, когда раздавались выстрелы, мы знали, что одного из нас не стало. Кого именно, мы узнавали лишь по возвращении в лагерь.
Но не изнурительная работа, не садизм наших палачей были самым страшным в лагере, а систематическое и постоянное унижение человеческого достоинства. Разве можно говорить о достоинстве, когда, чтобы развлечь палачей, тебе приходится давать пощечины такому же несчастному, как и ты, и получать их от него.
Тяжелый труд, постоянный голод, систематический страх, подавление и искоренение его достоинства превращают человека в животное. За физическим истощением следовала физическая смерть человека. Но физической смерти предшествовала духовная. Я наблюдал это явление на многих из моих товарищей по несчастью. Этого я боялся больше всего, пока находился в лагере. Чтобы мой дух не умер раньше, чем у меня иссякнут физические силы, во время работы или в минуты отдыха, чаще всего ночью, в душном бараке я рассказывал стихи, вспоминал содержание любимых книг, читал целые лекции перед воображаемой аудиторией. Чем больше было изнурено мое тело, чем сильнее произвол и систематическое обесчеловечивание пытались притупить мой дух, тем отчаяннее я боролся, заставляя свой мозг работать, не позволяя ему облениться и сдаться. Случается, что король отрекается от трона по принуждению или, реже, по своей воле. Но я не хотел отрекаться от позиций своего духа. Гвоздем на земле, огрызком карандаша на любом попавшемся под руку клочке бумаги я пытался решать уравнения или приводить доказательства той или иной теоремы. Короче говоря, чтобы не опуститься до скотоподобного состояния, чего добивались наши палачи, я старался сохранить активность своего ума, заставляя его работать вопреки голоду и физическому истощению.
Таким образом я пытался спасти свою человеческую сущность. И не один я. Каждый или почти каждый из нас пытался по-своему сохранить в себе человеческое начало. Но наступали моменты слабости, когда мне казалось, что мы не что иное, как существа, полностью лишенные какой-либо способности к защите, сбитые с толку, охваченные паникой, делающие отчаянные усилия для того, чтобы спастись, даже если для этого надо было пожертвовать жизнью других. Правда, находились и среди нас негодяи, которые могли торговать чужой жизнью во имя спасения своей. Находились такие, которые из-за гнусных преимуществ, означавших очень многое с точки зрения выживания, готовы были соревноваться в жестокости с нашими палачами. Но они были исключением.
На первый взгляд, в лагере были две категории людей: комендант Рысь с подчиненными ему Гиеной, Молью и другие абсолютные хозяева, которые могли распоряжаться нашей жизнью, и мы – пленные. В действительности все обстояло совсем иначе. Была не только воля палачей, но и наша воля, воля пленников лагеря. Наша воля не сложилась сама по себе, стихийно. Кто-то вдохнул ее, привил нам в различных формах, и она, эта воля, проявляла себя в самых различных обстоятельствах. Правда, не все пленные понимали это. Я хочу сказать, что не все абсолютно отдавали себе отчет в том, что в лагере есть люди, которые так или иначе руководят борьбой против пассивности, против апатии, против полного смирения перед лицом террора и произвола. Я даже сейчас не смогу объяснить, как осуществлялось это руководство. Однако всякий раз, когда обстоятельства этого требовали, большинство пленников лагеря действовали в соответствии с указаниями тех, кто воплощал их волю. В качестве примеров можно привести систематический саботаж работ, поддержку выбившихся из сил во время переходов и работы: мы ставили их на менее трудные места или принимали на себя часть их работы.
Чем дольше я находился в лагере, тем больше понимал, что мы не листья, которые ветер (комендант и охрана лагеря) может развеять в разные стороны. Правда, наши палачи, с пистолетами и автоматами, с жестокостью, которая в конечном счете тоже была их оружием, сильнее нас. В своем роде мы тоже представляли силу, но только не в отдельности. В единственном числе каждый из нас был несчастным человеком, из которого наши палачи хотели сделать существо, стремившееся только к одному – выжить. Все вместе мы были, однако, сильны. Правда, мы не могли не дать гитлеровцам убивать пленных, но мы не давали отчаянию сломить нас, чего фашисты добивались всеми доступными им способами. Мы все без исключения верили, что недалек день, когда нашим страданиям придет конец.
Люди часто принимают желаемое за действительное. К нам это не относилось. Мы находились в лагере для военнопленных, но были в курсе боевых действий на всех фронтах благодаря радиоприемнику, смонтированному в спичечной коробке. Кому принадлежал приемник и когда слушали последние известия, я так и не узнал. Тайна эта строго сохранялась. Возможно, что Никита знал эту тайну. Никита был из дивизии имени Тудора Владимиреску, в плен он попал несколько недель назад. После смерти Хории Быргэзана я сблизился с Никитой.
От него я узнавал новости о событиях на фронте, принимаемые по радио. Само собой разумеется, гитлеровцы от доносчиков узнали в конце концов о существовании тайного радиоприемника и начали лихорадочно его искать. Но, несмотря на их отчаянные усилия, на внезапные обыски то днем, то ночью в самое неожиданное время, они не сумели найти его.
Не нашли, возможно, потому, что искали настоящий приемник, а не спичечную коробку. И сегодня, спустя столько лет, я с восхищением вспоминаю о неизвестных товарищах по лагерю, которые в тех суровых условиях сумели сохранить наш приемник.
Благодаря приемнику мы знали о следовавших одно за другим катастрофических поражениях гитлеровцев, и среди нас не было ни одного человека, который отказался бы бежать при первом же удобном случае. Но практически убежать из лагеря было невозможно: охрана организована великолепно, имеются и овчарки на тот случай, если кому-либо каким-то чудом удастся пробраться за колючую проволоку. За все время моего пребывания в лагере было, три попытки к бегству, все они окончились неудачей. Двое были застрелены между рядами колючей проволоки, а третьего настигли собаки, и он был расстрелян перед всеми заключенными лагеря на плацу, где проводились утренние и вечерние поверки.
Фронт находился в непрерывном движении, советские и румынские дивизии безостановочно продвигались вперед, сминая узлы сопротивления гитлеровских и хортистских войск. Поэтому мы не удивились, когда в один из дней прошел слух, что лагерь будет переведен в более отдаленное от фронта место. Слух подтвердился: приказ об эвакуации лагеря был официально доведен до нашего сведения на утренней поверке. Но только теперь мы узнали, что «более отдаленное место», о котором говорили накануне, – это Германия. Известие ошеломило нас, и многие, напуганные перспективой оказаться на территории Германии, решили бежать прежде, чем нас доставят туда.
Начались лихорадочные приготовления к эвакуации, и спустя всего четыре часа весь лагерь двинулся в путь. Дракон, которого я почти не видел в лагере, появился снова, и, на мою беду, как раз он командовал колонной, в которой шел я. Используя свой прежний опыт, Дракон принял все возможные меры к тому, чтобы исключить во время перехода любую попытку к бегству.
И все же, несмотря на это, я был полон решимости бежать.
Случай представился через три дня столь неожиданно, что не было времени договориться с Никитой, и мне пришлось действовать на свой собственный страх и риск. Может, Никите тоже удалось бежать, но я так и не встретился с ним потом. Как было бы хорошо, если бы сейчас, в болоте, он оказался рядом! Вдвоем мы, может, нашли бы возможность спасти Миладу. Я был почти убежден, что она не протянет еще два дня. Рядом со мной уже умерло столько людей, что я знал, какой подлой бывает смерть, как незаметно она подкрадывается к своей жертве.
Но Милада верила, что сможет выдержать два дня. Я положил руку на ее лоб. Она вся пылала. Если бы у меня было что-нибудь против инфекции! Милада даже не открыла глаз. Может, заснула.
На небе снова собрались тучи.
«Только бы не пошел дождь! – забеспокоился я за Миладу. Но тут же подумал: – Если она умирает, какое значение имеет, пойдет или не пойдет дождь».
Милада забылась, видимо измученная лихорадкой. Меня тоже охватила усталость, и я улегся поудобнее, решив поспать до рассвета. Но не спалось, и я припомнил подробности своего побега.
* * *
…Дело шло к обеду. Наш путь пересекала двигавшаяся по шоссе длинная гитлеровская колонна. По-моему, это был целый полк, которым гитлеровцам потребовалось где-то срочно закрыть брешь. И вот, когда колонна автомашин проходила мимо меня, я услышал сильный рев. Над нами, будто из самых облаков, появилась эскадрилья советских бомбардировщиков. Они шли высоко под прикрытием нескольких истребителей.
Сначала я подумал, что они, имея другое, более важное задание, пролетят мимо. Но я ошибся. Первым со своего пути свернул один из истребителей. Он стрелой пронесся над колонной, обстреляв ее из пулеметов, и вернулся в строй. Тут же вся эскадрилья бомбардировщиков спикировала на шоссе. На гитлеровские автомашины посыпались бомбы.
Дракон еще до начала бомбардировки приказал нам залечь в канаву на обочине шоссе. Наше преимущество состояло в том, что, пока бомбардировщики разворачивались, колонна грузовиков с гитлеровцами несколько обогнала нас. Только осколки бомб могли долететь до пленных. Но из-за истребителей, которые кружили над нами и обстреливали шоссе из пулеметов, мы вынуждены были лежать, уткнувшись лицом в землю. Пока я не оказался в плену, я все время находился на передовой, принимал участие в бесчисленных атаках и не раз попадал под обстрел артиллерии. Но никогда я не испытывал такого страха, как теперь, когда нас бомбили тяжелые бомбардировщики и обстреливали из пулеметов истребители.
И хотя мне было очень страшно, я понял, что именно теперь появилась возможность, может быть единственная, бежать. Бежать, пока не кончилась бомбардировка. Я отыскал взглядом Дракона. Он лежал, уткнувшись лицом в землю, боясь пошевелиться. Остальные конвойные были в таком же положении. Я выполз из канавы, потом, пригнувшись, бросился бежать. Пока гитлеровцы поняли, что я сбежал, еще не убранное кукурузное поле укрыло меня. Несколько автоматных пуль просвистело мимо, но мне повезло: ни одна из них не задела меня. Под прикрытием высоких стеблей кукурузы я продолжал бежать в противоположную от шоссе сторону. Я знал, что у Дракона нет возможности преследовать меня, но бежал, пока хватило сил.
Восемь дней, вернее, восемь ночей шел я в сторону фронта, обходя села, питаясь тыквой и картошкой, которую находил на нолях. На восьмой день я попал в болото. Измученный, я крепко проспал двое суток, не чувствуя комариных укусов, а когда проснулся, все руки и лицо у меня распухли и горели. Зудело тело, страшно хотелось есть и пить. Затянув потуже ремешок, я стал обдумывать свое положение. Я свободен, но нахожусь в чужой стране. Надо быть осторожным и не полагаться просто на везение, поэтому села, которые встретятся на моем пути, буду обходить. По болоту я могу идти и днем…
Страшно мучил голод. За последние сутки в поле я не нашел ни тыквы, ни картофеля, ни початков кукурузы, хотя вместо того чтобы продолжать свой путь, потерял всю ночь, бродя по полю в поисках пищи. Утром, когда рассвело, я вернулся в болото, потому что при свете наступающего дня обнаружил село, которое на самом деле было городком, как я узнал об этом от Милады в следующую ночь. Не в силах больше переносить голод, я решил, что ночью, любой ценой попытаюсь проникнуть в город. От сырой тыквы и картофеля у меня болел желудок, а я, на мое несчастье, не был курильщиком и потому не имел ни одной спички, чтобы разжечь огонь.
…И когда снова наступила ночь, голод пересилил чувство осторожности. В болоте, где стоял запах гниющих растений, ила и войны, мне вдруг померещился запах сосисок с тушеной капустой. И, как лунатик, я двинулся по направлению к селу, которое на самом деле было городком, чтобы утолить голод воображаемыми сосисками с капустой, подобными тем, какими кормила меня в первые студенческие годы красивая и дородная фрау Мицци.
* * *
В конце концов я все же уснул. Проснулся утром, когда едва рассвело. Милада спала. Если бы ее грудь не вздымалась и не опускалась при вдохе и выдохе, я мог бы подумать, что она умерла в течение ночи. Но она спал, и я мог рассмотреть ее. Милада была очень красива. При свете дня на ее лице можно было увидеть и красоту, а не одно страдание, которое пронизывало все ее существо. И теперь меня продолжали мучить вопросы, которые терзали ночью.
«Кто же эта женщина?» – спрашивал я самого себя.
Без сомнения, я поступил глупо, связавшись с ней. То, что на ней вечернее платье, вызывало у меня недоверие к Миладе. Жертва гитлеровцев, одетая в вечернее платье, которую застрелили за городом! В это нелегко поверить. Ее имя еще ни о чем не говорило. Конечно, Милада – чешское имя. Но если она на самом деле чешка, то почему в бреду говорила по-немецки, а не на своем родном языке? Ведь все должно бы быть наоборот. Сколько бы языков люди ни знали, в ста случаях из ста они считают только на своем родном языке и бредят тоже на своем языке. А Милада бредила на немецком языке. С другой стороны, в бреду она повторяла вовсе не чешское имя Георг! Это имя вполне могло быть немецким. Не обманула ли меня Милада, сказав, что она чешка? Но в этом случае…