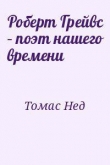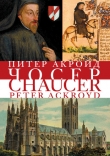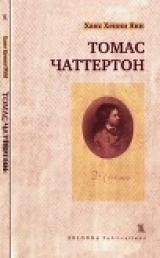
Текст книги "Томас Чаттертон"
Автор книги: Ханс Хенни Янн
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Томас. Вот уже четырнадцать дней, как я не претендую на персональное обслуживание.
Миссис Эйнджел. Чем вы занимаетесь, мистер Чаттертон, я не имею возможности проследить, да и не желаю этого знать.
Томас. Я работал, работал день и ночь – писал. К счастью, постояльцы, которые спят здесь днем, не имеют привычки храпеть. Они лежат на кроватях, как деревянные чушки.
Миссис Эйнджел. Если обрывки бумаги, которые валяются всюду, считать результатом вашей деятельности, то вы сказали правду.
Томас. Комическую оперу, предстоящая премьера которой вселяет в меня большие надежды, пока даже не репетируют. Хотя музыка к ней готова. Струнные, флейты, рожки, гобои, кларнеты, фаготы, клавесин —
Миссис Эйнджел. Мы верим вам, что это исправит ситуацию; мы же не изверги…
Миссис Эйнджел. Почему вы не остались в доме Уолмсли? Там вам было бы легче проявлять терпение.
Томас. Вспомните, миссис Эйнджел: 21 июня умер от апоплексического удара Уильям Бекфорд, лорд-мэр. Нас с ним многое связывало. Общие политические задачи… Мое перо всегда было готово ему служить. И тут нашим совместным планам пришел конец. Узнав о его смерти, я закричал. Моя кузина, миссис Баланс, стала свидетельницей некрасивой сцены – случившейся со мной истерики. Когда я успокоился, она, не подумав, принялась в очередной раз меня убеждать: я, дескать, должен найти себе нормальную гражданскую должность… то бишь предать свой талант. Она говорила и говорила, не слушая моих возражений. А ведь стоило ей проявить хоть немного чуткости, и я вспомнил бы о других – поэтических – замыслах. Но в той ситуации хотелось прежде всего освободиться от ее мелочного надзора, стряхнуть с себя тягостную опеку, обрести свободу.
Миссис Эйнджел. Какие же у вас виды на будущее?
Томас. Прошу вас, миссис Эйнджел, не тревожьтесь о квартплате. В ближайшее время мое положение изменится к лучшему. Свою писательскую сноровку я направил к другим целям. Две новые комические оперы уже в работе —
Миссис Эйнджел. Мистер Чаттертон… Мы ведь сейчас разговариваем вполне откровенно… Вы возбуждаете наше сострадание. Наш дом ценит вас как приятного человека. Я предлагаю вам отужинать вместе со мной, чтобы вы наконец наелись досыта. Мы могли бы потом в приятной обстановке устранить вашу задолженность нам.
Томас. Мадам Эйнджел… Я не могу… Не смею…
Миссис Эйнджел. Чего вы не можете? Чего не смеете? Отужинать со мной? Приятно провести время? И вам не стыдно такое говорить? Или прежде вы не навещали меня на моей половине? Или – до умопомрачения втрескались в эту куклу, неумелую первогодку?
Томас. Дело не в том. Вы должны меня извинить. Я не могу объяснить подробнее; но у меня имеются причины – вполне конкретные, важные…
Миссис Эйнджел. Отказ есть отказ. Я не настолько глупа, чтобы не понять… Я полагаю, плоды ваших поэтических занятий уже настолько созрели, что завтра вы вернете нам долг.
(Миссис Эйнджел уходит).
Томас. Мадам Эйнджел!
Нэнси Брокидж (выпрыгивает из постели и, разговаривая с Томасом, начинает одеваться). Не понимаю, Томас, почему ты не захотел сделать хозяйке приятное. Ты бы наелся досыта; и долги она бы тебе простила. Она недурна собой, не старая и не взбалмошная.
Томас. Нэнси, это невозможно… Я не могу… Не потому, что она мне неприятна… просто я болен. Я подцепил стыдную болезнь.
Нэнси. Я почти догадалась. Твоя сдержанность в последнее время слишком бросалась в глаза. Утешься: это вылечивается; или… к этому привыкаешь.
Томас. Мистер Кросс, аптекарь, дал мне каломель и витриол.
Нэнси. Мистер Кросс, аптекарь… Правильно. Он человек умный и опытный; можешь на него положиться. Он уже многих избавил от этой напасти… Я объясню мадам Эйнджел, почему ты вел себя нелюбезно.
Томас. Ей – ни слова. Даже не намекайте. Я запрещаю!
Нэнси. Если я промолчу, тебе будет хуже.
Томас. Со всеми неприятными проблемами я вскоре разберусь, не сомневайтесь.
Нэнси. Меня радует, что ты в этом так уверен… Я собралась. Ухожу. Увидимся завтра.
(Поспешно целует Томаса и уходит).
Арран (вылезает из-под балдахина, одевается). Мистер Чаттертон… Ваша печаль пугает меня. Она тянется издалека.
Томас. Арран… Всякая беда тянется издалека. Она была выслана против нас уже очень давно – и только теперь нас настигнет. Бедность, наша бедность очень стара. Ей много тысяч лет. Мы с незапамятных времен рабы. Кто еще может верить в Бога? Ревниво карающего нас за радость – болезнью?
Арран. Держите. У меня есть шиллинг. На хлеб, по крайней мере, вам хватит.
Томас. Спасибо, Арран; но твой шиллинг я не возьму.
(Отдает монету).
Арран. Думаете, я заработал его грязным способом?
Томас. Голодающим, беднякам позволено всё. Судить их никто не вправе. Нет, Арран, эта монета чиста в той же мере, что и любая другая.
Арран. Значит, вы слишком горды, чтобы взять деньги у хастлера?
Томас. Да, я горд. Это отговорка, оправдывающая мои дурные поступки. Но я вообще больше не хочу быть Томасом Чаттертоном.
Арран. Наверное, ни один человек не может стать кем-то другим, сэр. И потом, ваша натура все-таки предпочтительнее… моей, к примеру.
Томас. Чем же? Интересно узнать.
Арран. Имей я ваши серые глаза… Я хотел сказать: ваш взгляд, ваше лицо… или как это называется… Мне бы не пришлось так усердствовать, чтобы рекламировать свою круглую задницу. Лицо у меня плоское, как сковорода, – это многие говорили. Я был зачат в кровати поденщика… если, конечно, там было что-то вроде кровати. Лоб мой часто собирается в складки, волосы рыжие. А ноздри настолько широкие, что в них попадает дождь. Чем я заслужил, что родился таким нескладным? Что у меня нет родителей? Что я, сверх того, постоянно боюсь – боюсь еще худших бед?
(Он беззвучно плачет).
Томас. Арран… Арран… Да, мы отребье. Чей-то эксперимент, причем неудавшийся. Наш удел – бесправие. А гордость… мы ведь заговорили о гордости… дает единственный спасительный шанс. Когда кто-то один не захочет терпеть унижения… перестанет глотать обиды… откажется от тех крох надежды, что порой выпадают и нам, беднякам, и ничего больше для себя не потребует… кроме по праву принадлежащего всем: неба… Тогда мы, высоко подняв головы, узнаем: не разочарует ли нас и оно.
Арран (раскуривая трубку). Я понял не все, что вы сказали, сэр. Но сейчас мне пора спускаться.
(Уходит).
Тем временем стемнело. Томас Чаттертон зажигает свет.
Томас (пишет). «Кто осужден на горькую нужду, на беды…» Нет! Стихи, как проявление жалости к себе, – с ними должно быть покончено. С Томасом Чаттертоном должно быть покончено. Голод в желудке и гной в промежности… гул в голове… этот страх… это промедление, хотя единственная гложущая воля, нацеленная на то, чтобы обеспечить мне окончательный покой, пронизывает меня и мои кровеносные сосуды… – покончить со всем этим! Протесты, делириум смертного страха, ужас перед последней болью – (Он снова начинает писать.)
«Мистеру Уильяму Бредфорду Смиту —
Непогрешимый доктор, а в прошлом мое лекарство, примите это послание во искупление долгой немоты. Ваша просьба – чтобы я дал о себе знать – была бы давно исполнена, если бы я понимал, как целесообразней всего писать стихи: сочинить ли кармен-гендекасиллаб[21]21
Песню-одиннадцатисложник (латинск. и древнегреч.).
[Закрыть], или гексастихон[22]22
Стихотворение из шести строк (древнегреч.).
[Закрыть], или огдастихон[23]23
Стихотворение из одиннадцати строк (древнегреч.).
[Закрыть], и, опять же, – тетраметром[24]24
Тетраметр – античный стихотворный размер, состоящий из четырех диподий (двойных стоп).
[Закрыть] или септенарием[25]25
Септенарий – усеченный на один слог (одну стопу) тетраметр.
[Закрыть]. Соблаговолите услышать, что я уже давно страдаю от поэтической кефалопонии[26]26
Начиная с этого места Янн, продолжая цитировать подлинное письмо Томаса Чаттертона, дополняет его пояснениями к непонятным словам, построенными по схеме: «сиречь…».
[Закрыть], сиречь тяжести в голове, так что лучше я сразу начну с акростиха, но от него плавно перейду к тренодии, сиречь надгробному плачу. Это стихотворение могло бы звучать так: первая строка – акаталектус, сиречь совершенно чистый стих; вторая – этиология, сиречь исследование причины того, о чем говорилось в первой строке; третья-акирология, сиречь неправильный способ письма; четвертая – эпаналепсис, сиречь повторение предыдущей строки, с перехлестной рифмовкой; пятая – диатипосис, сиречь наглядное изображение красоты; шестая – диапоресис, сиречь смущенная болтовня успеха; седьмая – брахикаталектон, сиречь такой стих, у которого в конце чего-то не хватает; восьмая – экфонезис экплексиса, сиречь вскрик удивления. Короче: эмпориум, сиречь склад в мозгу, не может выдержать большого синхизиса, сиречь случайного умножения слов, без сизизии, то есть, скажем так, накопления неблагоприятных факторов. Я поэтому решил отказаться от Парнаса и советую Вам поступить так же, а взамен углубиться в мистику мыловарения. Только не думайте, будто моей целью – когда я упоминаю мыло – является миктеризм, сиречь издевка. Нет: Мнемозина, богиня памяти, помогает мне распознать все ваши великие заслуги (поскольку я не страдаю амблиопией, сиречь близорукостью), и они навечно останутся в моей памяти,
Уильям – теперь те ночи, когда я спал с тобой, и дни, проведенные на редклиффских лугах, где я читал тебе стихи Роули, раз и навсегда вычеркнуты. (Он запечатывает письмо, рвет лежащие на столе бумаги, бросает обрывки на пол. Потом берет стакан с водой, высыпает туда мышьяк, кладет рядом опиум.) Ну вот и все. Если существует божественная милость, я прошу для себя этой милости[28]28
В записной книжке Чаттертона датой 24 августа 1770 г. помечены «Последние стихи», которые заканчиваются двустишием:
«Смилуйся, Небо! И коль с жизнью мне суждено распроститься,Пусть преступление это последнее – из нужды — мне простится».
[Закрыть]. (Выпивает яд. Облизывает губы, ждет с боязливым удивлением, через минуту сбрасывает камзол, падает, скривив лицо, на кровать, снова вскакивает, хватается за живот, сгибается пополам.) Боль – нестерпимая боль – кто ее выдумал, эту боль? Кто создал эту адскую действительность? Я сгораю внутри. Кто за это в ответе? – Кто? (Он заталкивает в рот опиум, кашляет, давится блевотиной, валится на постель, сует в рот подушку, извивается, рвет на себе рубаху, скатывается с кровати на пол.)
Абуриэль (входит в дорожном костюме, гасит свечи, приближается к самой рампе). Будет и продолжение. Придет проверяльщик трупов. Тело отвезут на кладбищенский участок при работном доме на Шу-лейн и сбросят в облицованную кирпичом яму, где до него успели побывать многие; и ночью гробокопатель продаст этого мертвеца торговцу трупами, потому что молодые покойники анатомам нравятся больше, чем старые… Когда восемнадцатилетний юноша, отмеченный гением, угасает, голодный и вытолкнутый из жизни, остаются виновные в его смерти. Бедняки, которые ничем не владеют, должны быть оправданы. Властьимущих же, собственников, господ, набивающих себе желудок, можно и нужно спросить: ожидаете ли вы, что не облеченный властью ангел, который дается в спутники Призванному, будет торговать, красть, грабить, обманывать, убивать вам подобных, чтобы сохранить одну ценную жизнь? Долг ангелов заключается в другом. Долг же людей – не взваливать на себя вину перед лучшими.
КОНЕЦ
Татьяна Баскакова
Три правды «Томаса Чаттертона»
Читатель, не суди; если ты христианин, поверь, что его будет судить высшая сила – только перед этой силой он должен теперь держать ответ.
(Из завещания Томаса Чаттертона, 14 апреля 1770)
«Томас Чаттертон» – вторая и последняя историческая драма Ханса Хенни Янна (1894–1959). В 1917-м, в двадцать три года, Янн начал писать «Коронацию Ричарда III» (опубликована в 1921-м), вступив в соревнование с самим Шекспиром и достойно это соревнование выдержав. Янн, как в свое время и Шекспир, в период работы над драмой читал хроники Холиншеда и, по его собственной оценке, «(в отличие от Шекспира) сделал все, чтобы не затушевать этот более верный образ Ричарда III» (статья «Мое становление и мои сочинения»[29]29
Mein Werden und mein Werk, in: Hans Henny Jahnn. Werke und Tagebiicher, Bd. 7. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1974.
[Закрыть], 1948/1949).
В драме «Томас Чаттертон» (1955) тоже прежде всего поражает тщательность работы автора с историческим материалом, правдивость сценических образов и деталей быта.
Жизнь рано погибшего английского поэта Томаса Чаттертона (1752–1770) можно реконструировать по довольно большому количеству дошедших до нас документов. Это не только его произведения, но и письма друзьям, матери и сестре, расписки в получении гонораров и прочее. Кроме того, сразу после смерти Чаттертона сэр Герберт Крофт, позже включивший жизнеописание поэта в свой роман «Любовь и безумие» (Love and Madness, 1780), начал собирать сведения о нем, опрашивая людей, хорошо его знавших. Прочитав старое английское исследование о Томасе Чаттертоне[30]30
David Masson. Chatterton: A Story of the Year 1770. Edinburgh, 1874.
[Закрыть], я увидела, что, например, весь эпизод с малолетним Джеком, боящимся спать в одной постели с поэтом, составлен из записанных Крофтом рассказов миссис Баланс (родственницы матери Томаса) и членов семейства Уолмсли:
Миссис Баланс говорит, что он
[Томас Чаттертон. – Т. Б.]был гордым, как Люцифер. Он очень скоро с ней поругался, потому что она называла его кузеном Томми, – и спросил, слышала ли она, чтобы какого-нибудь поэта звали Томми; но она его заверила, что вообще никаких поэтов не знает… Когда она посоветовала ему устроиться в какую-нибудь контору – после того как он прожил в городе две или три недели, – он начал носиться по комнате, словно сумасшедший… Он часто оцепенело смотрел в лицо какому-нибудь человеку, не произнося ни слова (иногда казалось, что он этого человека видит), и так продолжалось четверть часа или больше, пока присутствующим не становилось страшно…Миссис Уолмсли рассказывает… что он никогда не позволял подмести комнату, где он читает и пишет, ссылаясь на то, что поэты-де ненавидят веники; а она говорила в ответ, что не знает, на что годны поэты – разве что сидеть в грязном шлафроке и колпаке в мансарде и когда-нибудь помереть с голоду…
Племянница
[кузины Баланс; она же – дочь супругов Уолмсли. – Т. Б.], со своей стороны, говорит… что он никогда не притрагивался к мясу, а пил только воду и жил, казалось, одним воздухом… Что он имел привычку сидеть почти всю ночь, читать и писать; и что ее брат жаловался: ему, мол, страшно лежать с ним рядом – потому что он наверняка дух, раз никогда не спит…Племянник
[в пьесе его зовут Джек. – Т. Б.]говорит… что раз или два видел, как тот вытаскивает из кармана бараний язык; что Чаттертон, насколько он знает, никогда не спал, лежа с ним рядом; ложился он в постель очень поздно, порой в три или четыре утра, и всегда уже бодрствовал, когда просыпался он (племянник) и вставал в то же время, около пяти или шести; что почти каждое утро пол был усеян обрывками бумаги, не больше шестипенсовика, потому что, прежде чем лечь, он рвал написанное.
Возлюбленные Томаса в пьесе – мисс Сингер, мисс Уэбб, мисс Тэтчер – это те девушки, которым Чаттертон просит передать привет, когда пишет из Лондона родным. Марию Рамси упоминает сестра Чаттертона, рассказывая – уже после смерти брата, – что тот вел с ней обширную переписку. Когда Мария – в пьесе – ссылается на письмо Томаса, где тот рассказывает о своей внезапной влюбленности в даму, которая проехала мимо него в экипаже, Янн дословно цитирует строки из письма Чаттертона сестре.
Таинственный «Мастер Чени, поющий мальчик» – упоминаемый в одной афише певец лондонского театра «Мэрилебон гарденс» (принадлежавшего мистеру Аттербуи), который должен был исполнять роль Купидона в бурлеске Чаттертона «Месть», так и не поставленном при жизни автора.
Миссис Эскинс (настоящее имя Эдкинс) – вдова бристольского художника и стекольщика, хорошо знавшая семью Чаттертонов и впоследствии рассказавшая о ней много подробностей.
Даже старая миссис Чаттертон с ее неизменной трубкой не придумана, потому что в одном из писем родным Томас пишет, что послал в подарок «бабушке немного британского терпкого табаку и курительную трубку».
Сравнительно менее достоверна (лучше сказать: меньше подтверждена источниками) обстановка в доме миссис Эйнджел, представленная в последней сцене пьесы. Нет сведений, что Чаттертон в этот короткий период делил комнату с проституткой и хастлером. Но о самом районе, куда он переехал, Янн в статье «К трагедии Томас Чаттертон»[31]31
Zu Tragödie Thomas Chatterton, in: Werke und Tagebücher, Bd. 7.
[Закрыть] (1954) пишет: «Мы не знаем, почему он сменил квартал, где жил прежде, на Брук-стрит. Хотел ли он подчеркнуть одинаковость положения поэтов и проституток, показать, что дух до такой степени отвержен? Или то была его последняя тщетная попытка обрести – еще при жизни – свободу?» Чаттертон действительно заболел венерической болезнью, судя по рассказам тамошнего аптекаря. А по словам одной женщины (тоже опрошенной сэром Крофтом), соседки миссис Эйнджел, та ей рассказала следующую историю:
…зная, что он ничего не ел последние два или три дня, она 24 августа предложила ему с ней поужинать, но он обиделся на употребленные ею выражения, намекавшие, как ему показалось, на его нужду, и заверил ее (хотя, судя по внешнему виду, потерял уже три четверти веса), что не голоден.
Это был последний вечер перед тем, как Чаттертон покончил с собой.
Что касается начального – бристольского – периода жизни Чаттертона, то и здесь Янн точно следует фактам. Интересно, что даже встречу с ангелом Абуриэлем нельзя считать чистым вымыслом. В статье Нильса Хёпфнера «Английский вундеркинд. К 250-летию со дня рождения Томаса Чаттертона»[32]32
Nils Höpfner. Ein Wunderkind aus England. Zum 250. Geburtstag von Thomas Chatterton am 20. November 2002 (публикация в Интернете).
[Закрыть] (2002) приводится такой отраженный в источниках эпизод: восьмилетний Томас просит человека, который хочет расписать для него чашку: «Нарисуй мне ангела с крыльями и барабан, чтобы барабанная дробь разнесла по всему миру мое имя!»
В восемь лет, в 1760 году, Томас стал учеником Колстонской школы. «Там старшие ученики спали по двое в одной кровати, младшие – по трое», пишет Янн в статье «К трагедии Томас Чаттертон». Тогда-то и завязывается дружба Чаттертона с Томасом Кэри (который потом напишет элегию на его смерть), с сыном пивовара Уильямом Смитом (он проживет почти до девяноста лет и умрет в 1836-м, а работать будет – после 1800-го – вахтером в бристольском театре) и с младшим учителем, знатоком поэзии Томасом Филлипсом; позже другом Томаса станет и брат Уильяма Питер… С четырнадцати лет Чаттертон сочиняет стихи.
В 1767-м начинается ученичество у адвоката Ламберта, в доме которого Томас оказывается чуть ли не на положении лакея. С 1768-го он пишет стихи и драмы в стихах от имени монаха XV века Томаса Роули, одновременно занимаясь подделкой старинных документов, и примерно в это же время основывает кружок «молодых людей, которые называли себя „Spouting Club“[33]33
Слово spouting, согласно английскому толковому словарю 1811 года, означает «театральная декламация». Там же говорится, что молодые люди из низших сословий создавали «декламационные клубы», где разучивали различные роли, чтобы позже предложить свои услуги странствующим театральным труппам.
[Закрыть] и по своей политической направленности были революционерами, ранними предшественниками внепарламентской оппозиции» (Нильс Хёпфнер).
О смерти друзей Чаттертона мы узнаем, среди прочего, из его стихов – «Элегии на смерть мистера Уильяма Смита» [переадресованной Питеру] и «Элегии на смерть мистера Филлипса» (оба умерли в 1769-м).
«Завещание» Чаттертона, которое послужило основанием для разрыва договора с адвокатом Ламбертом, тоже сохранилось. Это ернический текст, который почти сплошь состоит из личных нападок на господ Барретта, Кэткота и Бергема, на должностных лиц Бристоля, на сам этот город. Приведу из него несколько фраз:
…Если после моей смерти, которая произойдет завтра ночью до восьми часов, сиречь в праздник Воскресения, коронер и присяжные доведут дело до полного лунатизма, я желаю и распоряжаюсь, чтобы Пол Фарр, эсквайр, и мистер Джон Флауэр, совместно оплатив расходы, похоронили тело в гробнице моих предков и воздвигли над ним памятник высотой четыре фута пять дюймов…
Я завещаю всю свою энергию и пламя юности мистеру Джорджу Кэткоту, поелику чувствую, что он в них весьма и весьма нуждается…
Бристолю я завещаю, целиком, свое духовное начало и бескорыстие – тюки с товарами, которых в этом портовом городе не видали со времен Кэнинга и Роули[34]34
Уильям Кэнинг, глава городского магистрата в Бристоле XV века, покровитель и друг монаха Томаса Роули, – персонаж произведений Чаттертона.
[Закрыть]! <…>Преподобному мистеру Кэткоту я завещаю немного своего свободомыслия, дабы он вздел на нос очки разума и убедился, на какой низкий обман он попался, поверив в буквальный смысл Священного Писания. Я желаю, чтобы он и его брат Джордж поняли, в какой мере они могут видеть во мне подлинного врага…
Я оставляю юным леди все письма, какие они когда-либо получали от меня, с клятвенным заверением, что им не нужно опасаться появления моего призрака, потому что умираю я не ради какой-то из них…
Я оставляю мать и сестру на попечение моих друзей, ежели у меня имеются таковые.
Составлено в присутствии Всеведущей Силы, сего дня 14 апреля 1770 года.Тос. Чаттертон
По поводу Бристоля замечу еще, что и ситуацию в этом городе – в эпоху, когда там жил Чаттертон – Ханс Хенни Янн хорошо себе представлял, как видно из статьи «К трагедии Томас Чаттертон»:
Население Бристоля, места рождения Чаттертона и в то время второго по величине города Англии, в 1750 году составляло 36 000 жителей в черте городских стен; в пригородах, за городскими воротами, жило еще 7000 человек… Один наблюдатель в 1724 году писал: «В Бристоле даже священники разговаривают исключительно о торговле или о том, как пустить в рост деньги»… Оборотная сторона всего этого: грязь и бедность… На тесных темных улицах с горькой неотвратимостью осуществлялась свобода тех, кому нечего терять. Кулачные побоища на улицах, среди бела дня, стали любимым спортом бристольцев… Город славился не только несколькими трактирами, но и пятью площадками для петушиных боев. Жестокость как повседневность. Тяжкие преступления, бесчинства, жуткие меры наказания, издевательства над животными, невежество, триумфы торговли и судоходства, совершенно отчаянное положение низших социальных слоев – все перечисленное относится к портрету этого успешного города, затмившего славу Нориджа… Чтобы ощутить атмосферу тогдашней Англии, нужно буквально, в реалистическом духе воспринимать даже самые жестокие листы Хогарта.
Упоминаемые в пьесе избиения лошадей, садистское издевательство над собакой – подобные сцены действительно можно увидеть, например, на гравюрах Уильяма Хогарта из серии «Четыре стадии жестокости» (1751) – Впрочем, и в современной Янну Европе ситуация в этом плане не очень изменилась, как он пытается показать в «Маленькой автобиографии» (1932)[35]35
Опубликована в: Ханс Хенни Янн. Угрино и Инграбания и другие ранние тексты. Тверь: Kolonna Publications, 2012 (перевод Татьяны Баскаковой).
[Закрыть]:
Мне казалось очень сомнительным, что можно проповедовать заповедь «Не убий», одновременно разрешая производство взрывчатых веществ и такую практику, когда живых овцематок бичуют, чтобы они досрочно родили ягнят, чьи шкурки потом пойдут на шубы богатым дамам.
Итак, жизнь Томаса Чаттертона изображена в пьесе Янна достаточно правдиво. Но сквозь эту правдивость просвечивает другая правда: молодого английского поэта Янн явно считал в чем-то родственным себе – так же как Чаттертон, очевидно, видел в монахе Томасе Роули, жившем задолго до него[36]36
Монах Томас Роули упоминается в документах XV века, но поэтом он не был, и вся его биография – вымысел Томаса Чаттертона.
[Закрыть], своего предшественника-двойника.
Дело в том, что и сам Янн начал писать очень рано, мучась от сознания своей несвободы, конфликта с окружающими. В «Маленькой автобиографии» он рассказывает об этом так:
В пятнадцать лет я начал сочинять литературные произведения… Я любого загонял в тупик своими жестокими, подростковыми, не допускающими компромиссов выводами…
В семнадцать лет я написал несколько драм. Редакторы из издательства Соломона Фишера придали мне мужества, посоветовав продолжать. Я был достаточно глуп, чтобы загореться надеждой на лучшее будущее, и некоторое время считал перо и бумагу лучшими изобретениями человеческого разума. Я расходовал их в огромных количествах. Сколько работ возникло в те, самые быстротечные годы, я даже не могу точно сказать. Большинство из них уничтожено. В старших классах реального училища на набережной Императора Фридриха я готовился к выпускным экзаменам… Меня тогда занимала всемирная история в ее, с одной стороны, наиболее гармоничных, а с другой – наиболее жестоких аспектах. Я был социалистом, по моим понятиям. Три последних тягостных года до выпускного экзамена пролетели как в пьяном чаду, были заполнены протестом, отвержением всяческих правил… Невозможно пересказать все частности тех мучений. Я выбросил свое благочестие за борт. Убежал из дому, странствовал по Северной Германии. Не имея никаких видов на будущее. Меня вернули. В итоге – полное истощение сил.
Вернувшись из Норвегии, куда он бежал со своим другом Хармсом в 1915-м, спасаясь от призыва на фронт, двадцатишестилетний Янн в 1920-м основывает – вместе с Готлибом Хармсом и молодым скульптором Францем Бузе – в Люнебургской пустоши, под Гамбургом, религиозную общину художников, поэтов и музыкантов, Угрино (просуществовавшую до 1926-го). Община эта занималась, среди прочего, и постановкой драмы Янна «Врач, его жена, его сын» (1922, премьера 1928). То, что в пьесе Чаттертон говорит об основанном им обществе, вполне могло бы относиться и к общине Угрино:
В пространстве внутренних представлений нет ничего запретного. Закрой глаза, и перед тобой раскинется просторная Природа, великий ландшафт Познаваемого-в-ощущениях. Наша религия – это уверенность в том, что мы держим оборону против всего мира. Я сотворен из глины и бедности. К бедности часто наведывается в гости поэтическое искусство… Мы хотим для себя по меньшей мере отщепенчества. Хотим быть – противниками. Мы – пример для других, начинающих с меньшим мужеством. Мы основали общество «барабанщиков» и в арендованной задней комнате одной корчмы построили для бедняков, которые прикованы к своим хозяевам-«наставникам», воображаемый храм: святилище несовершеннолетних.
А потому и полемика вокруг общества «барабанщиков» – в пьесе – имеет, как мне кажется, самое непосредственное отношение к судьбе общины Угрино и оценке современниками раннего творчества Янна:
Уильям.…Мол, общество «барабанщиков» нужно распустить – хотя бы для того, чтобы не подвергать его членов опасности. Потом, лично ему осточертела перевозбужденная деятельность незрелых юнцов: неправильно понятая актерская игра, бессмысленные мишурные наряды. Поцелуи на сцене… имеют привкус похоти, искусство же они убивают фальшивым пафосом. <…> …ты, по его словам, испытывал интерес лишь к атрибутам мясницкого ремесла – грубой картине человеческих мышц и органов, – тогда как высшие познания от тебя ускользали.
Томас в пьесе защищает этот юношеский подход к искусству:
Ричард Смит, видно, уже ощущает себя зрелым мужем? <…> Однако о мыслях, которые мыслятся внутри черепа, он ничего не узнает; больше того – поостережется что-то узнать. Ведь бедности по вкусу бунтарство.
Как и сам Янн позже защищал юношеский «пафос», юношескую бескомпромиссность своих первых драм (в статье «Мое становление и мои сочинения»):
Этот отрывок
[из пьесы Янна «Пастор Эфраим Магнус». – Т. Б.]следует за крещендо точных и неприкрытых истолкований бытия, какие могут быть свойственны только духу несломленной, не униженной жизненными невзгодами юности… Юлиус Баб[автор первой рецензии на пьесу. – Т. Б.]дал себе труд по возможности спокойно выразить всеобщую неприязнь к моей работе. У него получилось примерно следующее: эту книгу, дескать, человечество должно хранить в шкафу с ядами и доставать оттуда, когда оно окажется на краю гибели, чтобы на негативном примере моего сочинения убедиться, что Бог есть Дух. Баб не понял, что пьесу написал двадцатилетний мальчишка; что этот мальчишка, в отличие от почти всех своих современников, распознал опасность, грозившую человечеству, и сформулировал ее суть; что он, в разгар так называемой Первой мировой войны, предсказал две следующие; и что человечество неминуемо окажется на краю бездны, потому что Дух, не имеющий связи с чувствами, может продуцировать только разрушительные истины…Несомненно, «Пастор Эфраим Магнус» не лишен недостатков. Почти на каждой странице я отваживался на риск. В пьесе встречаются страшные слова и картины. Люди становятся местом действия для почти невыносимых событий. Но эти события, все без исключения, взяты из реальности; они – часть человеческой истории и человеческой судьбы.
В числе черт, сближающих Чаттертона и самого Янна (и подчеркнутых в пьесе), – ненависть к расовой розни. Нильс Хёпфнер пишет о Чаттертоне: «…в какой-то момент [после самоубийства Питера Смита в августе 1769 года. – Т. Б.] он стал открыто протестовать против порабощения негров. Он даже намеревался перейти в ислам, потому что стыдился быть христианином» (Бристоль, между прочим, был городом, разбогатевшим именно на работорговле). Что касается Янна, то его мнение на этот счет высказано в романах «Перрудья» и «Река без берегов», а также в пьесе «Перекресток».
Янн вкладывает в уста Чаттертону слова об императоре Нероне («Он был поэтом – возможно, не хуже и не лучше меня. Кто знает? Был человеком, не хуже и не лучше меня. Кто знает?»), которые обретают несколько иной смысл, если мы вспомним, что говорится об этом императоре в статье Янна «Мое становление и мои сочинения»:
Из многочисленных возможных сюжетов для драматических сочинений меня в настоящее время увлекает только один: тот исторический факт, что дух убитого Домиция, именуемого Нероном, сгустился, став привидением, потому что фальсификаторы истории превратили его в чудовище, каковым он – с точки зрения некоей высшей инстанции, – очевидно, не был.
Как бы то ни было, Янн, в отличие от Томаса Чаттертона, не покончил с собой в восемнадцать лет, но постарался пронести свои юношеские идеалы через всю жизнь. Он стал автором незаконченного романа-эпопеи «Река без берегов», первые две части которой были изданы в 1949–1950 годах. Трилогия эта не реалистична в общепринятом смысле слова; ее вторая часть написана от имени вымышленного персонажа, от первого лица, и называется «Свидетельство (Niederschrift) Густава Аниаса Хорна, записанное после того, как ему исполнилось сорок девять лет». Слово Niederschrift, означающее, собственно, «Записанное (Густавом Аниасом Хорном)» может означать и судебный протокол, и нотные записи, и создание – путем ее описания на бумаге – некоей новой сущности. Случайно ли, что и в пьесе Томас Чаттертон употребляет то же многозначное слово в отношении своего вымышленного персонажа, средневекового монаха Томаса Роули? Употребляет это слово, одновременно подчеркивая значимость творений фантазии:
Записи (Niederschrift) монаха – моя работа, мое достояние. <…> Написанное мною – мое достояние. Не существует другой собственности, что была бы столь же надежна.
Тут мы можем непосредственно перейти к вопросу о третьей правде, содержащейся в пьесе «Томас Чаттертон». Еще в период существования общины Угрино, в 1921 году, Янн опубликовал в качестве манифеста драматический диалог («Той книги первый и последний лист»[37]37
Русский перевод в: Ханс Хенни Янн. Угрино и Инграбания и другие ранние тексты.
[Закрыть]), в котором сформулировал свою поэтическую программу:
Я раньше описывал себя, одного человека: как он живет и спит, видит сны, кушает и испражняется, и что думает и что чувствует, из-за чего жалуется и плачет и что восхваляет, и какие у него тайные волнения, в чем для него удовольствие и спасение… Но теперь я буду говорить только о тех, кто – в своем сознании – доводит сотворенный мир до совершенства. Не о том, что они едят, как спят, как ходят, стоят, жнут, сеют. Я теперь хочу показать их самих: их работу, их сущностное бытие, истекание их сверхчеловеческой потенции.
То есть: Янн здесь как бы дал себе обещание – которое впредь неукоснительно выполнял, – что будет писать только о людях искусства (понимаемого в самом широком смысле), потому что искусство представляется ему своего рода универсальной религией, поддерживающей существование человеческого сообщества.