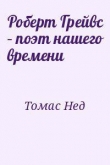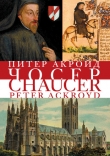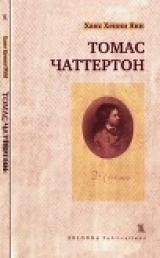
Текст книги "Томас Чаттертон"
Автор книги: Ханс Хенни Янн
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ
Зима 1769/70 года
БРИСТОЛЬ, КОРН-СТРИТ
Канцелярия и регистратура адвоката Ламберта.
Джон Ламберт, Уильям Смит, Томас Чаттертон; последний оттеснен к книжным полкам. Ламберт – за пюпитром своего ученика.
Джон Ламберт. Ничего я не понимаю, ничего – ничего из того, что будто бы входит в твои намерения. Ты вытворяешь такое, за что не сможешь ответить ни на земле, ни на небесах. Не воображай, будто ты обладаешь повышенной ценностью – только потому, что умеешь штамповать стишки и, не испытывая головокружения, взбираться на башни, как про тебя рассказывают. Ты всего лишь непоседливый, упрямый, неприятный тип – в лучшем случае душевнобольной. Репутация твоя на удивление плохая: обвинить тебя в распутстве – значит сказать слишком мало. Ты лгун и вор, и это истинная правда. Ты вырезал из фолиантов отдельные пергаментные листы.
Томас. Я просто читал эти книги – с вашего разрешения, сэр.
Ламберт. Два фолианта пропали. Приходская книга и «Книга мастера каменного дела»[14]14
«Книги мастеров каменного дела» (Stein– und Werkmeisterbücher) возникли в Германии XV – начала XVI веков и были первыми руководствами по архитектуре, по строительству готических соборов. В соответствии с одним из таких руководств была построена, например, церковь Святого Иоанна Крестителя в Оттерсвайере (Южная Германия). Всего до нашего времени дошли три такие рукописные книги.
[Закрыть] из церкви Святого Иоанна.
Томас. Они не хранились в регистратуре. И не числятся в каталоге. Попали сюда случайно – их кто-то, должно быть, взял по библиотечному абонементу.
Ламберт. Не спорь! Случилось нечто противозаконное. В доме твоей матушки следовало бы устроить обыск.
Уильям Смит. Не возгоняйте свой гнев, сэр… И поостерегитесь давать волю рукам: это может испортить вам сон в ближайшую ночь.
Ламберт (отходит на шаг, говорит теперь спокойно). Эти церковные книги – макулатура, потому они и не зарегистрированы. Их пропажа – дело второстепенное, по сравнению с остальным. Томас, чтобы доставить мне неприятности, пригрозил, что лишит себя жизни.
Уильям. Пригрозил? Как это?
Ламберт. Он объявил об этом в письме.
Уильям. И письмо было адресовано вам?
Ламберт. Нет, я нашел его на своем пюпитре, в своей конторе: видимо, его оставили там намеренно; предназначалось оно некоему Михаэлю Клэйфилду, которого я не знаю, – но запечатано не было.
Томас. Это торговец табачными изделиями на Кастл-стрит.
Уильям. Так вы прочитали письмо?
Ламберт. Хуже: я обнаружил на пюпитре этого безумца начало открытого завещания: «Последняя воля Чаттертона, записанная в крайнем унынии в канун его добровольного ухода из жизни».
Томас. Однако, сэр, я пока что жив – если, конечно, пребывание здесь можно назвать жизнью.
(Ламберт нетерпеливо направляется к двери, открывает ее. Принимает входящих в комнату Уильяма Барретта, Джорджа Кэткота, Генри Бергема. Уильям Смит берет адресованное Клэйфилду письмо, которое все еще лежало на пюпитре).
Джордж Кэткот. Мы припришли все вмеместе.
Ламберт. Приветствую, господа, вас всех.
Генри Бергем. Смотрите-ка – Томас и Уильям, почти неразлучные.
Кэткот. Единодушие двудвух неравноценных.
Барретт. Томас – до меня дошло печальное известие.
Ламберт. Ужасно… непостижимо… Я попросил господ пожаловать ко мне…
Бергем. Мы все обсудим и найдем решение.
Барретт. Ты действительно хотел самовольно расстаться с жизнью?
Томас. Да.
Уильям. Нет.
Томас. Хотел.
Уильям. Нет. В письме, прочитанном мистером Ламбертом – вот оно, – в самом низу имеется приписка, выполненная крошечными буквами, зеркальным шрифтом, который я научился разбирать благодаря Тому: «Меня еще можно спасти».
Ламберт (берет письмо, пытается читать). Слишком утомительно для моих слабых глаз…
Барретт (берету него письмо). Видно, болезнь под названием «усталость от жизни» оказалась не смертельно опасной.
Бергем. Мы собрались вокруг выздоравливающего, чтобы вдохнуть в него мужество. Мне, как только посыльный доставил письмо мистера Ламберта, пришла в голову мысль прихватить с собой две бутылки портвейна – в качестве веселящего снадобья.
Кэткот. Неплоплохая идея.
Ламберт. Господа согласны с такой повесткой дня – с тем, хочу я сказать, что мы, прежде чем приступить к прениям, разопьем портвейн?
Бергем. Что тут возразишь?
Ламберт. Так я принесу бокалы.
(Поспешно выходит в правую дверь).
Томас (вдруг начинает судорожно всхлипывать). Я больше не могу. Я слишком горд – а вовсе не сломлен, – чтобы продолжать жить по-прежнему. Девятнадцать двадцатых моего естества составляет гордость[15]15
Эта и следующая фраза дословно заимствованы из письма Томаса Чаттертона Барретту, написанному на следующий день после обнаружения завещания.
[Закрыть]. Я готов приложить усилия, чтобы стать смиренным; но в любом случае не сумею добиться этого здесь, в Бристоле. Этот город мне опротивел. Не одно лишь тщеславие делает меня строптивым: мои впечатления охватывают слишком обширную область, чтобы я мог стать расчетливым мелочным торговцем собственными прегрешениями. Здесь я живу как раб; ранняя смерть представляется мне более завидным жребием[16]16
Слегка измененная фраза из письма Томаса Чаттертона Барретту.
[Закрыть].
Барретт, (холодно). Ты должен нам кое-что объяснить, мой мальчик. Нельзя просто сбросить собственную жизнь под ноги друзьям, не раз тебе помогавшим, – как бросают под ноги ростовщику просроченное залоговое свидетельство… Ты переутомился. Изыскания касательно Роули, расшифровка трудных, почти нечитаемых текстов – для человека твоего возраста это непосильная задача. То, что нас в тебе восхищает, подтачивает твое здоровье. В твоих последних стихах слишком часто встречается слово «безрадостно»: «Безрадостно ищу в тени уединенья»…
Томас. Это я написал за несколько вечеров до своего семнадцатилетия. Я вспомнил тогда о Питере Смите, о Томасе Филлипсе. Мои друзья, истлевая, отдаляются от меня. Я хотел бы тоже стать прахом, как они.
Бергем. Мы свернули на ложный путь. Не внушай ему мысль, Барретт, что он должен отказаться от своих – заслуживающих всяческого одобрения – увлечений.
Уильям. Томаса только что обвинили в том, что он вор.
Кэткот. Ктоктокто его обвинил?
Уильям. Господин адвокат Ламберт.
Барретт. Пожалуйста, поподробнее.
Уильям. Здесь будто бы пропали две книги.
Томас. Книги, никогда не принадлежавшие мистеру Ламберту! Они не упомянуты в его каталоге.
Бергем. Какую стоимость они имели?
Уильям. Стоимость старой бумаги – и только.
Томас. Это были церковные счета, инвентарные описи, записи о новых распоряжениях, завещания, давно утратившие силу, и данные о надгробиях. Ни одной строки, которая имела бы литературную ценность.
Барретт. Все же подозреваю, что там была золотоносная жила для заинтересованного историка.
Томас. Ничего особенного. Только два любопытных указания, которые я переписал и передал вам, сэр.
Барретт. Передал мне?
Томас. Вместе с другими документами. Я предоставил вам выписки из протоколов семнадцати церковных епархий – как источники для вашей «Истории города Бристоля».
Барретт (озадаченно замолкает; потом, как бы против воли, говорит). Ты – молодой человек с весьма необычными способностями, но с плохими задатками: сумасбродный и плохо приспособленный к жизни…
Бергем (перебивает его). Я заплачу мистеру Ламберту за пропавшие книги – по пять шиллингов за каждую.
Барретт (с нарастающим раздражением). Вы думаете, возмещение денежной стоимости в данном случае что-то исправит?
Бергем. Деньги это мера всех вещей.
Барретт. От смерти они не помогут; и от бездетного брака – тоже.
Бергем. Последний намек оставьте при себе: у меня шестеро подрастающих сыновей.
(Ламберт входит, держа поднос с бокалами; Бергем откупоривает две бутылки, разливает вино).
Бергем. Между прочим, господин адвокат, наша маленькая коллегия уже разобралась с вопросом о пропаже двух книг – надеюсь, к вашему удовлетворению. Мы возместим вам денежный ущерб, каким бы образом он ни возник. Мне поручили передать вам пол-гинеи. Так были оценены книги.
Ламберт. Весьма любезно с вашей стороны. Что тут возразишь?
Бергем (берет бокал). Ваше здоровье, сэр!
(Остальные тоже берут бокалы, последними – Томас Чаттертон и Уильям Смит).
Барретт (Томасу Чаттертону). Выпьем… чтобы ты стал более покладистым и надежным.
(Дверь открывается; входит Ричард Филлипс).
Уильям. Твой дядя —
Томас. Он не обратит свой ум против нас.
Ричард Филлипс. Так меня пригласили на вечеринку? Даже не верится. Приветствую честную компанию. Кто здесь хозяин?
Ламберт. Вы спрашиваете обо мне, Филлипс.
Филлипс. Господин адвокат, письмо, которое вы послали матери моего племянника, оная передала мне, дабы я выступил здесь от ее имени —
Ламберт. Что ж, прекрасно… Мы готовы вас выслушать —
Филлипс. Она испугана, поскольку самоубийству нельзя дать обратный ход; я сам в этом время от времени убеждаюсь.
Кэткот. Момомогильщик Марии Рэдклиффской – не нравится мне это. Плоплоплохой знак.
Барретт. Он – дядя Томаса.
Кэткот. Хоходят слухи, будто у него есть зозолотой слиток, сплавленный изиз колец, снянятых с пальцев мертвевецов…
Томас. Возьмите мой бокал, дядя Ричард —
Филлипс. Очень любезно… Как бы то ни было, ты жив. Что твои губы не утратили способность говорить – в данный момент лучшее их качество.
(Берет бокал и залпом осушает его).
Бергем (снова наполняет бокалы). Еще по глотку… Нас прервали.
Ламберт (обращаясь, главным образом, к Барретту). Не могу сказать наверняка, но мои старейшие фолианты (по приблизительным подсчетам, не меньше дюжины) изуродованы.
Барретт. Изуродованы? Что вы имеете в виду?
Ламберт. Из них вырезаны листы, очень тщательно… И я подозреваю, что самые ценные: иллюминированные пергаменты.
Бергем. Такие сокровища вы храните в регистратуре?
Барретт. Я постоянно ищу источники для своей истории Бристоля… И, возможно, найду здесь золотоносную жилу.
Ламберт. Томас держал эти фолианты в руках. Даже брал их домой —
Томас. С вашего разрешения, сэр.
Филлипс. Слушай и помалкивай, мальчик. Дай сперва другим вволю побрызгать слюной.
Ламберт. Случайно обнаружив повреждения, я призвал писца к ответу.
Томас. Я же не негодяй…
Барретт (тихо). Томас, мне кажется, тебе следовало бы… ради твоей же пользы… признать справедливость упреков. Что останется непроясненным, будет оценено как ущерб, который мы адвокату возместим. Угроза самоубийства – плохой способ защиты.
Томас. Не в том дело. Я здесь погрязаю в несвободе и скуке… И интуиция мне отказывает.
Барретт. Не путай состояние, обусловленное твоим возрастом, с местом, где ты работаешь.
Бергем. Когда, сэр – не считая сегодняшнего дня – вы последний раз держали в руках эти фолианты?
Ламберт. Лет двадцать назад, наверное —
Бергем. Ваша память могла с тех пор ослабнуть.
Ламберт. Так только кажется. Томас признался, что знает содержание пропавших листов. Он будто бы и мистеру Барретту письменно его изложил.
Барретт. Я так и не понял, зачем это мне —
Томас. Только в двух случаях —
Кэткот. Пополовинчатое признание, как правило, равносильно полполному.
Уильям. У правды иное лицо, чем у правдоподобия.
Кэткот. Обобъяснись, Томас, – только без увуверток.
Барретт (перебивая). Однако думай, прежде чем что-то сказать. Говори сдержанно. Покажи, что на тебя можно положиться —
Томас. Если чего-то мало, из этого не сделаешь много, сэр. Листы никто не вырезал, насколько я знаю. Насколько мне известно, в книгах попадаются сгнившие листы, ломкие, почти нечитаемые – и они распадались у меня под руками. Точнее, часть из них удалось сохранить: я склеивал кусочки, которые можно было спасти. Вот стоят книги. Убедитесь сами: они отчасти размякли, отчасти, наоборот, пересушены, а некоторые страницы слиплись из-за свечного воска или закапаны им.
Уильям. Я иногда заходил к нему и видел, как он мучается с неблагодарными книгами.
(Томас достает с полки два фолианта; один он протягивает Барретту, другой – Бергему. Оба осторожно листают книги. Ламберта все это мало интересует, но от Барретта он не отходит).
Ламберт. Я говорил о вырезанных пергаментных страницах, а не о состоянии фолиантов.
Барретт (с неумеренным восторгом). Здесь, например, лист восстановлен просто мастерски!
Бергем (возбужденно, но тихо). Томас… Подойди-ка. Смотри – хорошо известный мне герб, бегло набросанный на полях, коричневыми чернилами…
Уильям. Это не чернила, а бычья кровь… смешанная с мочой и солью железа…
Томас (зажимает Уильяму рот). Тише, прошу вас, сэр… ни слова больше… ни слова при свидетелях. Набросок выполнен мною…
Бергем. Нам, наверное, лучше поговорить где-нибудь в сторонке?
Томас. Если получится, сэр… Если бы я мог открыться перед вами прямо сейчас…
(Бергем с шумом захлопывает книгу).
Барретт. Так быстро закончили с проверкой?
Бергем. Выпьем еще по бокалу. А потом я откашляюсь.
Филлипс. Вы хотите сказать, что потом выдадите нам что-то особенное? Так обычно выражаются проповедники.
Томас (Уильяму). Не ходи за мной по пятам!
(Все пьют.).
Бергем. Ты собирался воспользоваться веревкой? Или ядом?
Томас. У меня есть яд. Мышьяк.
Барретт. Придется забрать его у тебя.
Томас. Я не отдам.
Бергем. Имеется ли у вас, господин адвокат, контора, помимо этой канцелярии, – может быть, где-то рядом?
Ламберт. Само собой; здесь у меня только приемная… так сказать, для престижа.
Бергем. Тогда я попрошу господ временно удалиться туда и оставить меня наедине с Томасом.
Барретт. Я не вполне понимаю. Но, тем не менее…
Ламберт. Миссис Ламберт – матушка – рассказала мне, что Томас приобрел яд и, кроме того, постоянно носит при себе пистолет. Я не верил, что это возможно —
Уильям. Со времени самоубийства моего брата —
(Барретт, Ламберт, Кэткот, Филлипс, Уильям Смит уходят в правую дверь).
Бергем (без всякого перехода). Это герб Вальтера де Бургамма, я показывал его тебе в книге. Здесь, правда, герб всего лишь скопирован – тобою, как ты признался. Зачем ты его нарисовал? Ты просто так развлекался, потому что случайно вспомнил о моем родословном древе?
Томас (снова раскрывает книгу). Присмотритесь внимательней, сэр, прошу вас. Лист этот вставлен недавно, он фальшивый. Настоящим же листом с подлинным гербом – тремя гиппопотамами на лазоревом фоне – теперь владеете вы; я принес его, потому что задолжал вам деньги, сэр. Мы таким образом рассчитались, и вы еще дали мне одну крону.
Бергем. Получается, я – если по справедливости – в данном случае должен простить тебе кражу. Так что же, я владею и другими вырезанными пергаментами, о которых говорил мистер Ламберт?
Томас. Сэр – нет. Речь идет лишь о семи листах из пяти фолиантов. Их получил мистер Барретт, для своей «Истории Бристоля».
Бергем. Барретт?.. Он же почтенный человек, известный ученый, а не выходец из низов, как ты или я. Он был учеником Винчестерского колледжа, аптекарем, хирургом, штабным лекарем флота, начальником госпиталя Святого Петра – правда, еще и акушером, в силу собственной склонности, – и всюду действовал весьма успешно. Он написал историю медицины и уже много лет работает над трудом о Бристоле.
Томас. В последнее время ему не хватало первоисточников. Потому у него и возникла мысль воспользоваться моими услугами.
Бергем. Он подталкивал тебя к воровству?
Томас. Речь шла не о воровстве, а о доставании. «Достань мне, что найдешь», – таковы были его слова.
Бергем. Он придавал им двусмысленное значение?
Томас. Для него было предпочтительнее ничего такого в виду не иметь. Но просто копии его не удовлетворяли.
Бергем. Почему же ты заходил в своей услужливости так далеко?
Томас. Сэр… на случай если я здесь потерплю неудачу… потерплю неудачу как поэт… у меня должен оставаться какой-то выход. Я решил, что – дабы бежать от неприятностей, которых становится все больше – на худой конец стану судовым врачом. Мистер Барретт одалживал мне руководства по медицине. Я часто посещал анатомический театр. Он может достать для меня патент – апробацию пятой степени, по крайней мере.
Бергем. Мы все пытаемся куда-то бежать. Я, например, нахожу прибежище в музыке, когда жизнь становится чем-то черным, наподобие свернувшейся крови. Люблю Генделя и Гайдна…
Томас. Прошу вас, сэр, окажите уважение самому себе, вернув мне доброе имя. Помогите…
Бергем. Так ты говоришь, изуродованы пять фолиантов, а не двенадцать?
Бергем. Считай, что этого разговора между нами не было.
Томас. Не было, сэр. Чего не должно быть, того нет и не было.
Бергем (подходит к двери справа). Господа, прошу вас…
(Появляются Барретт, Ламберт, Кэткот, Уильям Смит).
Ламберт. Так вы забрали у него яд, мистер Бергем?
Бергем. Яду меня в кармане, сэр.
Ламберт. Теперь Я буду лучше спать по ночам. Мне вряд ли удалось бы свыкнуться с мыслью, что Томаса в любой момент могут обнаружить здесь в канцелярии в качестве трупа.
Бергем. Из пяти фолиантов, в общей сложности, исчезли – опять же в общей сложности – семь листов. Я готов купить эти книги, как если бы они были неповрежденными. Цену назначите вы сами, мистер Ламберт.
Ламберт. Очень любезно с вашей стороны. Что мне на это ответить?
Бергем. Назовите цену.
Ламберт. В принципе я согласен. Но так сходу сформулировать требование… значит поставить одну из сторон в невыгодное положение.
Бергем. В любом случае книги уже принадлежат мне, не так ли?
Ламберт. Как вам будет угодно…
Филлипс. Прием, я полагаю, закончен? Тогда разрешите откланяться.
(Уходит).
Барретт (Томасу). Мистер Ламберт надеется, что отныне ты будешь для него более покладистым и усердным помощником. Твоя строптивость свидетельствует не о гордости, а только об упрямстве. Произвольное обращение с книгами (я выражаюсь очень сдержанно) – свидетельство твоей самоуверенности, извращенных представлений о нравственности. Ты требуешь поддержки и, похоже, не понимаешь, что тебе ее предоставляли – более чем щедро. Своими знаниями ты обязан великодушному учебному заведению. Тот, кто принимает благодеяния, должен быть готов отплатить за них добром. Этого требуют приличия, а в твоем случае – и закон. Как бы ты стал на удивление юным исследователем (я бы даже сказал: вундеркиндом), коим восхищаются лучшие умы Бристоля, если бы спутником твоей бедности оставалось невежество? Итак, углубляйся в себя; не играй с ядовитыми мыслями: они не менее губительны, чем приобретенный тобой у аптекаря белый порошок. (Томас стоит, будто окаменев.) Ну же, скажи что-нибудь!
Томас (хмуро). Я запомнил каждую сказанную вами фразу.
Бергем. Понятно, что как раз сейчас тебе трудно найти подходящие слова; и все же мистер Ламберт ожидает от тебя какого-то знака примирения.
Томас (преодолев себя, подходит к Ламберту и склоняется перед ним в поклоне). Я прошу у вас прощения, мистер Ламберт.
Ламберт. Странно, что я вспотел…
Кэткот. Попохоже, это воскрекресенье мы нанаконец-то перережили.
Бергем. Не забудь про книги, Томас!
Томас (достает с полок книги). Всего их пять…
Уильям. Можно, Томас, я останусь у тебя?
Томас. Уходи! Я должен побыть один.
Барретт (Бергему). Я помогу вам донести их до дому.
Бергем. Рассчитаемся еще сегодня, мистер Ламберт?
Ламберт. Завтра, сэр, если не возражаете: миссис Ламберт, моя матушка, уже заждалась меня к ужину. (Гости поспешно направляются к выходу.) Запри дверь, Томас, когда будешь уходить, – а ключ занеси ко мне на квартиру.
Бергем. Всего тебе доброго, Томас!
(Все, кроме Томаса, уходят.).
Томас (некоторое время стоит в задумчивости, потом пытается сдвинуть стенку с книгами – безуспешно). Не удается. Все напрасно. За стенкой ничего нет – ни прохода, ни лестницы. Фантазии. Возможности. Мистер Абуриэль: какая-то тень, встреча в лунном свете, знакомство на кладбище. Существо без денег и без хлеба. А те другие: чернильные привидения, более плоские, чем бумага; даже не пепел, остающийся, когда я жгу бычью кровь, из которой они – в своем буквенном качестве – состоят… (У него падают документы. Он подбирает их, кладет обратно, садится на стул.) Вместо того, чтобы оставаться тем, что я есть – поэтом, – я вынужден играть роль фальсификатора. Обман приносит деньги, а достижения – только насмешки. Но где же Чаттертон: тот подлинный Том, которого еще никто не видел, даже сам Том? Этот, сидящий сейчас на стуле, – не он. Под черепной коробкой, внутри; в перекачивающем кровь сердце, внутри; в половых органах, внутри: вот где можно найти Томаса. (Хлопает себя по соответствующим частям тела, вскакивает.) Меланхолия – производное от обычной плоти. А в чем выражается воздействие яда? (Показывает себе самому пакетик с мышьяком.)
КАНУН ПАСХАЛЬНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ
14 АПРЕЛЯ 1770 ГОДА
В эту же пасхальную неделю четырнадцатилетний Моцарт несколько раз прослушал в Сикстинской Капелле – и потом записал по памяти – Miserere Аллегри[17].
Швейная комната в доме Сары Чаттертон – как в первом действии, только без куклы Матильды. Кровать на заднем плане покрыта ковром. Мягкий свет второй половины дня, постепенно меркнущий. Старая миссис Чаттертон безучастно сидит на стуле и курит трубку. Томас Чаттертон сидит у стола, ближе к рампе, и пишет.
Ламберт (входит, откашливается). Добрый день!
Томас (поспешно поворачивается к нему). Мистер Ламберт —
Ламберт. Вот письменное подтверждение, что я до срока освобождаю тебя от ученического договора. Самоубийство, которое ты на сей раз наметил на праздник Воскресения, уже не будет меня касаться, если ты в самом деле его совершишь.
(Он хочет уйти. Но на пороге появляются, один за другим, Барретт, Бергем, Кэткот).
Бергем. Томас свободен, благодаря вашей непоколебимой готовности извлекать выгоду из поэзии.
Ламберт. У меня мало времени. Желаю вам радостной Пасхи!
(Уходит).
Бергем (кланяется). Добрый день, миссис Чаттертон… А где твоя матушка, Томас?
Томас. Пошла с моей сестрой в Рэдклиффский собор, сэр.
Кэткот. Вы тетеперь попопоедете в Лондон и там попопытаете счастья, мистер Чаттертон? Ваше учученичество зазакончилось – отсюда новое обобращение.
Томас. Черная стена воздвиглась за моими плечами. Оставшись в Бристоле, я бы погиб. Теперь мучительные цепи сброшены, но что меня ждет впереди? Какие новые ужасы?
Барретт. Ты достиг своей цели. Правда, не вполне безупречными средствами.
Томас. Да, но какой ценой, сэр!
Барретт. Так уж будь добр назвать нам ее! Коль заупрямишься, нам хватит терпения подождать. Жалкое показное завещание, составленное тобой прошлой ночью, мы уже видели. Твое словоизвержение – смесь бабского нытья и наглости. Каждого из нас ты изобразил с неприкрытым бесстыдством.
Томас. Назвать вам цену, цену? Она состояла в том, что я вынужден был придумать Роули и потом задыхался, искусно мастеря его из старых пергаментов и бумаги: с помощью поддельных чернил из бычьей крови и соли железа; Уильям Смит присовокуплял к этому свою мочу. Буквы я рисовал, подражая Кэкстону. Письменное свидетельство монаха – моя работа, мое достояние. Мне одному принадлежит знание о давно умерших жителях этого города, об их домах и надгробиях.
Барретт. Ты сошел с ума! Роули – фальшивка?!
Томас. Поэтический вымысел.
Барретт. Боюсь за твой рассудок… Но, как бы то ни было, сказанное тобою легко опровергнуть.
Бергем. Само собой. Я владею кое-какими источниками.
Барретт. Я тоже.
Кэткот. И у мменя они есть.
Барретт. Я проверял рукописи. Они все относятся к XV веку. Еще вчера я обнаружил в городском архиве отчет об укреплении стен Бристоля – определенно написанный рукой Роули.
Бергем. Пошатнуть веру в подлинность стихотворений Роули тебе не удастся. Ты слишком самонадеян или, наоборот, сбит с толку (откуда мне знать), но в любом случае – явно не в себе.
Старая миссис Чаттертон. Я никогда не верила, что наш мальчик нормален. Сара вечно с ним цацкалась как с избранным.
Томас. «Бумаги Роули» сочинил я, один я. Часть этих стихов я со тщанием перенес на старую бумагу и пергамент. Иллюминировал, закапал воском и замарал мушиными какашками, протравил кислотой, обгрыз по краям зубами, неаппетитно загрязнил —
Барретт. Довольно! Мы не в сумасшедшем доме.
Томас. Лист из городского архива – тоже моя работа. Я доставил его туда уже давно.
Барретт. Хватит, я сказал. Лгать ты научился, можно считать, с пеленок. А сейчас потчуешь нас глупостью и ложью одновременно. Я говорю, я утверждаю: ты лжешь. Ты болен, и болезнь твоя состоит в том, что ты не можешь не лгать.
Кэткот. А ненет ли у вас, мистер Чачаттертертон, друдругих, до сей поры ненеизвестных фальшивых бубумаг этого Ророули? Я гоготов купить их у вас как поподлинные.
Томас. Написанное мною – мое достояние. Не существует другой собственности, что была бы столь же надежна.
Кэткот. Я зазадал вам вовопрос, мистер Чачаттертон.
Томас. Да, есть. Трагедия «Аэлла».
Кэткот. Какакую же цену вы за нее наназначите?
Томас. Это главная вещь цикла.
Кэткот. Какакова ваша цецена?
Томас (растягивая слова). Пять крон.
Кэткот (достает кошелек). Каккраз стостолько у меня имеется при себе. Дадавайте рурукопись.
(Томас роется в бумагах на столе; передает наконец рукопись и получает деньги).
Барретт (с вновь вспыхнувшим раздражением). Так ты, значит, сам написал бессмертные сочинения Роули?! Стыда в тебе нет, как ты посмел с ним равняться?
Томас. Томас Роули – это Томас Чаттертон.
Бергем. Гербы, родословные древа – фальшивки, изготовленные мальчишкой! Почему тогда ты крал из фолиантов листы? Они тоже были неподлинными?
Томас. Я всегда пользовался настоящим старым пергаментом.
Бергем. С глупостью все понятно; но эта бессмысленная, слабоумная бестактность… Ты ведь, при всей своей образованности, всего лишь бедное ничтожество!..
Барретт (мягко). Томас, мне жаль тебя… Человек твоего возраста не способен создать такие возвышенные и прекрасные произведения, как те, что вышли из-под пера благословенного пиита Роули. Тебе даже не хватило бы времени, чтобы просто их переписать.
Томас. Я экономил на сне.
Барретт. Нет, никогда… Невозможно, чтобы ты был автором всего этого.
Бергем. Пойдемте, сэр.
Томас. Сочинения Роули будут опубликованы под моим именем.
Кэткот. Мы ниничего не додобьемся. Попойдемте.
Барретт. Парень спятил. Я должен подумать, как с ним поступить…
Бергем. Идемте с нами, сэр.
(Бергем тянет Барретта за собой. Вместе с ними уходит и Кэткот).
Томас (взвешивает на ладони монеты). Это утяжелит сумму, отложенную для путешествия.
Уильям Смит (входит в комнату). Я должен поговорить с тобой, Томас.
Стараямиссис Чаттертон (поднимается со стула, шаркает к двери). Пойду на кладбище к дяде Ричарду. Там все-таки меньше жути…
Уильям. Если можешь, послушай меня. У глупца тоже есть рот. И сердце. Хотя заслуживающие упоминания мысли мне в голову не приходят. Еще два-три года, и я стану Кабыкто, у которого на лице написано, что он в вечности не останется. Ты же поэт, ты сделан из другого теста, чем заурядные люди.
Томас. К чему ты клонишь?
Уильям. Не знаю почему, но я тебе предан: всегда готов помочь, без надежды на выгоду для себя… Я тебе придан… еще со времени долгих ночей в дортуаре Колстонской школы. Между нами было взаимопонимание. Теперь ты изменился, Том. У тебя жесткое, пугающе жесткое лицо. В эти последние недели я пытался как-то вкрасться тебе в душу; но ты не подпускаешь к себе, ты рассеян, у тебя призрачно-застывший взгляд.
Томас. Да, так и есть. В этом я похож на императора Нерона.
Уильям. Не понимаю.
Томас.
Если услышу ночью
стук копыт на улице,
думаю о своей смерти.
Он был поэтом – возможно, не хуже и не лучше меня. Кто знает? Был человеком, не хуже и не лучше меня. Кто знает?
Уильям. Твои мысли перескакивают с пятого на десятое.
Томас. Бристоль для меня тесен. Здесь все пошло наперекосяк. Мне не верят относительно Роули. Я хочу в Лондон. Хочу, чтобы мои произведения напечатали.
Уильям. Лондон – предполагает разлуку.
Томас. У меня нет выбора.
Уильям. Бристоль до сей поры тебя кормил. Из Лондона ты хлеб насущный не получал.
Томас. Там большие типографии и издательства. У меня наметились кое-какие связи. Были и выгодные предложения. Я еду не в неизвестность. Десятки писем, отосланных мною, подготовили почву для моего приезда. Там уже произносят вслух мое имя. Здесь же мое перо не может сдвинуться с мертвой точки.
Уильям. А в Лондоне, думаешь, атмосфера будет благоприятней для твоего духа?
Томас. Меня влечет туда, все дело в этом влечении. Я чувствую привкус крови во рту, стоит мне вспомнить о неутоленных желаниях. Ведь Бог посылает свои создания в мир, снабдив их руками – достаточно длинными, чтобы дотянуться до всего, чего эти создания, вопреки всякому разуму, могут возжелать, поддавшись искушающим их соблазнам.
Уильям. Прими это как знак или предостережение: что сэр Хорас Уолпол[18]18
Хорас Уолпол (1717–1797) – родоначальник жанра «готического романа», автор романа «Замок Отранто» (1764). Уолпол быстро разоблачил сочинения Роули, которые ему послал Чаттертон, как фальшифку.
[Закрыть], поначалу отнесшийся к тебе хорошо, вскоре от тебя отвернулся —
Томас. Чему тут удивляться: богатый человек с бедным сердцем…
Уильям. Издатель Додсли так и не решился напечатать твои сочинения.
Томас. Я давно переложил свое седло на мерина с политической арены. Речь всегда идет о свободе или рабстве. И у свободы отнюдь не лучшие кони.
Уильям. Ты теперь пишешь политические эссе и думаешь о девицах.
Томас. Да, я домогаюсь любви. Но обретаю только мгновения радости.
Уильям. Ты выбираешь выражения, считаясь с моей неопытностью. А почему, собственно? Тебя не раз видели в Селедочном переулке.
Томас. Кого из молодых людей Бристоля там не видели?
Уильям. Девушка из одного такого полузакрытого дома: милая, еще очень юная, добродушная, судя по всему; полненькая или, можно сказать, пышная – наверное, тоже заурядная натура, вроде меня, – которая еще два-три года назад лелеяла детские мечты, невинно укладывалась в постель – – –
Томас. Теперь преследует меня, пишет мне письма, хотя по ней уже прокатились волны мужчин: матросы и торговцы, солдаты, убежденные холостяки… Это и вправду удивительно, но отдает плохим вкусом.
Уильям (нерешительно). Как же обстоят в этом плане твои дела?
Томас. А ты еще никогда не посещал такие задние комнаты?
Уильям. Нет.
Томас. Тогда твое описание девицы вдвойне ценно. Это чистый вымысел, почти не уступающий в совершенстве вымыслу поэтическому.
Уильям. Почему ты смеешься надо мной?
Томас. Потому что, как мне думается, ты лицемер.
Уильям. Чем я заслужил такой упрек?
Томас. Почему ты делаешь вид, будто ничего не знаешь о моем образе жизни? Уже два года я сочиняю для друзей любовные письма, которые те посылают молодым дамам. Разве мои чувства могли при этом остаться мертвыми? Ты не можешь не знать, что дело обстоит по-другому. В январе мисс Сингер произвела на свет ребенка. Твой брат Питер и я совместно участвовали в подготовке этого естественного события. Ровно неделю назад я оборвал приятные отношения с мисс Эстер Саундерс. Она стала слишком назойливой, хотела выйти за меня замуж. Вчера закончилась и моя связь с миссис Сьюки Уэбб: у той тоже были свои предрассудки. Покладистая малышка Тэтчер с Рэдклифф-хилл утверждает, будто природа благословила и ее чрево: с такой же беспощадностью, как чуть раньше – чрево мисс Сингер; но Фанни Тэтчер уже нашла себе вечно хнычущего, медленно угасающего дурачка Льюиса, готового возместить причиненный ей ущерб.
Уильям. Я догадывался… но не знал ничего наверняка… и считал эти слухи преувеличенными…
Томас. Мы уже в возрасте, когда прежних друзей меняют на девушек. Перемену обычно замечают лишь после того, как она произошла. Темной зимней ночью, когда я самым плачевным образом мерзнул, а тебе вдруг взбрело на ум сунуть голову под одеяло и согреть меня дыханием… я подумал сперва о кукле Матильде, а потом – о ее возможном воплощении в человеческом облике… и мне стало почти противно, что рядом со мной лежишь ты.