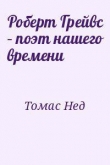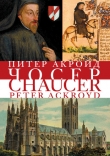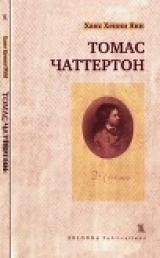
Текст книги "Томас Чаттертон"
Автор книги: Ханс Хенни Янн
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ
Осень 1768 года
ПРОСТОРНАЯ МАНСАРДА В ДОМЕ
ВДОВЫ САРЫ ЧАТТЕРТОН
В комнате: широкая кровать; большой стол, весь заваленный книгами, бумагами, пергаментами, писчими принадлежностями; ларь; на крючке – старинная, странного вида одежда; кукла-манекен Матильда (плетеный из прутьев каркас, покрытый льняной материей) – обнаженная, с деревянной, тоже обтянутой тканью головой; два стула. Ночь. Полнолуние. На сундуке рядом с кроватью горит свеча. Две свечи на столе.
Уильям Смит (неподвижно лежит в кровати; потом, шевельнувшись, ощупывает одеяло рядом с собой). Его нет. Томаса нет. Он не может противиться луне. (Садится, возится с огнивом, зажигает свечу.) Я хотел бодрствовать; но сон унес меня прочь от него – куда-то… Как давно он встал? От его тепла ничего не осталось. Все тепло здесь – мое. (Осторожно встает; тихо ступая босыми ногами, обходит комнату, с беспокойством заглядывает во все углы, останавливается возле куклы.) Она как человек. У нее есть имя, как у человека. Матильда, девица. (Двумя пальцами дотрагивается до куклы.) Зачем Том притащил ее сюда? У нее страшное лицо. (Боязливо возвращается в постель.) Постараюсь больше не засыпать.
Томас Чаттертон (бесшумно влезает в окно, босой и в ночной сорочке; пересекает комнату, пялясь в пространство неподвижными широко открытыми глазами; укладывается в постель рядом с Уильямом).
Уильям (мягко). Томас – Томас – Томас – проснись же!
Томас (очнувшись). Что такое?
Уильям. Ты спал?
Томас. Ну конечно… Что еще я мог, по-твоему, делать?
Уильям. Нет, Томас… Я должен сказать тебе: ты только что влез сюда через окно, добравшись до него по крыше.
Томас. Тебе привиделся сон, Уильям. Я лежал в постели.
Уильям. Другие тоже об этом знают.
Томас. О чем знают другие? И о каких других идет речь?
Уильям. Что ты, как лунатик, бродишь во сне.
Томас. И я должен в такое поверить?
Уильям. Где ты был, Томас? Долго ли отсутствовал? В какую часть города забрел?
Томас. Не выводи меня из терпения. Я спал.
Уильям. Ты не лежал со мной рядом. Я зажег свет. Тебя не было в комнате. Скажи, что ты просто ходил в сортир, тогда все снова будет хорошо. Ах нет, не будет – ты ведь зачем-то влез через окно.
Томас. Я не был в сортире. А окно закрыто.
Уильям. Оно открыто, Томас.
Томас. Пусть открыто… не все ли равно.
Ричард Филлипс (входит через дверь). Не бойтесь, это я: могильщик Ричард Филлипс. Здесь, к счастью, горит свет. Значит, вы не спите.
Уильям (в страхе хватается за Томаса). Это вы, Филлипс? В самом деле вы?
Филлипс. Я вам уже представился. Больше того: вы меня узнали. Он здесь, этот полуночник? Я пришел убедиться, что он вернулся домой. Он заставил меня попотеть, ваш дружок. У меня и рубашка взмокла, и волосы.
Томас. О ком вы, дядя Ричард? Я что-то не понял.
Уильям. Расскажите, прошу вас. Ведь вы его видели. Вы видели его в городе.
Филлипс. Не в моем обычае врываться по ночам в дома других людей и подходить к чужим кроватям… если, конечно, никто не умер. Но Томас – мой племянник, и это извиняет меня.
Уильям. Вы встретили его на улице —
Филлипс. Никто не скажет, что я боязлив, подвержен страхам. Рытьем могил я занимаюсь, как правило, по ночам; по крайней мере, если луна светит ярко. Я работаю в одиночестве, и какой-нибудь череп, выкинутый мною из земли… или берцовая кость… говорят мне не больше того, что может сказать мертвец: то есть не говорят ничего. Во время этих ночных работ мне не встречался никто, кого бы стоило бояться. Вплоть до сегодняшнего дня. Сегодня же вдруг идет кто-то, белый и залитый белым светом, и смотрит прямо перед собой. Глаза у него стеклянные… Все это я увидел в последний момент, ибо стоял глубоко в могиле. Этот кто-то прошел мимо ямы, на расстоянии пяди от края. Я пригнулся. Опасаясь уж не знаю чего, но, во всяком случае, наихудшего… Едва этот кто-то проходит мимо, разум мой концентрируется. Глаза снова видят, что им и следовало увидеть, и я наконец отдаю себе отчет в том, что успел разглядеть, несмотря на свое замешательство. Этого кого-то я, оказывается, знаю. Это мой племянник Томас, в ночной рубашке.
Томас. Как, простите? Я, по-вашему, и был этим кем-то? Который шел мимо разверстой могилы? С остекленевшим взглядом?
Филлипс. Я тогда вылезаю из ямы. Он же невозмутимо шагает через могилы и исчезает в соборе. Я решаю, что подожду, пока он оттуда выйдет. На душе у меня тяжело. Может, потому что я не вполне уверен, что это он.
Томас. Это не был я.
Филлипс. В любом случае, мне не хотелось следовать за ним в темноте. Церковные своды, когда они слышат шаги, откликаются – сами начинают говорить. Ночью ничего приятного в этом нет. Я должен подождать, сказал я себе. Охота работать у меня пропала. И возникло чувство антипатии к умершим – своего рода отчуждение. Итак, я рассматривал Святую Марию Редклиффскую в лунном свете, а она была тихой, и большой, и каменной… действовала, если хотите, успокаивающе. Я смотрел вверх, на башню, и не видел ничего примечательного. Само собой. Но потом вдруг волосы мои повлажнели от пота, и нательная рубаха – тоже. Высоко вверху, на колокольне, этот кто-то выбрался из окна на карниз… Стоял там, ни за что не держась, весь белый, и смотрел на Бристоль, как может смотреть сверху на спящий город воплощенное Зло.
Уильям. Это был Томас.
Филлипс. Именно. Насмотревшись вволю, он снова спустился вниз. И направился в мою сторону. Я это выдержал; только отступил на несколько шагов. Я его точно узнал. И пошел за ним. Видел, как он вскарабкался сюда по стене дома. Теперь он снова здесь… Хорошего вам сна. Я немного вспотел. Но это забудется.
(Уходит).
Уильям. Том – ты точно был наверху башни. Можешь не сомневаться.
Томас. Вероятно. Но сам я этого не помню. Между прочим, вчера я заставил Томаса Роули написать, что в Бристоле разразилась чума. Священники в церковных облачениях и мальчики-певчие ходят по улицам, воскуряют благовония и разбрызгивают святую воду. Многие мальчики от страха обмочили штаны. Возы с трупами громыхают по городу Преступников из работных домов принуждают выполнять обязанности могильщиков. Кто хочет убивать ради удовольствия, повсюду находит удобных жертв – осиротевших детей. Умерших кидают на телеги, словно мешки, и закапывают как попало, sine solemnitate. За одну ночь умирает больше тысячи человек. А высоко на башне стоит кто-то, смотрит вниз… и смеется.
Уильям. Я боюсь этого монаха Роули.
Томас. Значит, ты боишься меня.
Уильям. Нет, Томас. Я вижу, как ты сочиняешь стихи. Мне это чуждо. Меня с тобой нельзя сравнивать. Но я тебе предан, с тех пор как мы делили на двоих постель в Колстоне. Я знаю: Кэри, который спал с тобой до меня, нравится тебе больше. Он умнее. Ты говоришь, что он – твое второе «я».
Томас. Поэтому он и не может нравиться мне больше, чем ты. Он – часть меня самого. Но ум у него острее.
Уильям. Я буду молчать обо всем, как будто не знаю того, что в действительности о тебе узнал.
Томас. С тобой приятно иметь дело, Уильям. Ты помогаешь мне в моем восхождении. Тебе в голову пришла счастливая мысль: заговорить с мистером Кэткотом в Рэдклиффской церкви и спросить, слышал ли он уже, что я в этой самой церкви обнаружил старые пергаменты. Я подстриг себе волосы в цирюльне и через несколько дней принес ему тридцать строк из «Битвы при Гастингсе»: «Где много лет стоял разрушенный храм Тора…»; а также отрывочные стансы из «Бристоуской трагедии», «Эпитафию Роберту Кэнингу», «Песню Аэлле» и «Желтый свиток». У него не нашлось более спешных дел, чем обсудить все это с Уильямом Барреттом, которому он в итоге и отдал рукописи, дабы тот использовал их в своем историческом сочинении.
Уильям. Ты хоть получил за это деньги?
Томас. Да, мои труды оплатили, дав мне несколько крон за два пергамента, которые я предварительно прокалил на огне и исписал пожелтевшими чернилами.
Уильям. Не понимаю, к чему все это.
Томас. Порой меня переполняют… фантазии. Грезы… Материальные массы всех царств теснят меня… и тогда я пускаюсь в странствие, скачу на красивых конях сквозь сверкающие или черные пространства, претерпеваю пытки, сам совершаю жестокости… Из-за какой-нибудь пылкой потребности у меня едва не лопается голова. Иногда одно-единственное слово буйно разрастается во мне, как сорняк. Я не могу не записать его, а оно тотчас нагружает меня печалью или тяжестью – жизнью. Мне уже доводилось странствовать по очень многим древним мостам, и подо мной катились болотные темные воды… Когда я стою в одиночестве посреди одного из гигантских вымышленных миров, очень утешительно знать, что ты со мной рядом. Ты пребываешь не там, где я, ты не переполнен и не стеснен, твоя доброта не требует никакого пространства. Ты дышишь спокойно; ты очень здоровый и скромный… и миловидный.
Уильям. Питер утешает тебя так же?
Томас. По-другому. Он хоть и похож на тебя, но другой. Он светловолосый, ты – темный.
(Поспешно обнимает Уильяма и соскакивает с кровати).
Уильям. Томас – ты простудишься.
Томас. Я должен писать. А ты спи. Между прочим, он через три дня останется у меня на ночь. Мы так договорились. Тебя я в тот вечер не жду. Запомни: ты в тот день не придешь. (Уильям не отвечает. Томас берет свечу, зажигает ею две другие, которые стоят на столе, и относит первую свечу обратно.) Вот номер «Бристольской газеты» от 1 октября, где Феликс Фарли опубликовал текст одного документа трехсотлетней давности – об освящении Эйвонского моста.
Уильям. Во всем городе только и говорят, что об этом.
Томас. Так вот, эту рукопись создал не кто иной как я —
Уильям. Я догадывался… Больше того: знал наверняка.
Томас. Ты молчишь или лжешь… как моя собственная душа. (Отворачивается.) Но мне нужно продвинуться вперед с «бумагами Роули».
Уильям. Зачем ты взял в нашу комнату эту отвратительную Матильду?
Томас. Она девица. Я иногда думаю о девушках. Но у нее, увы, голова не такая красивая, как у тебя.
Уильям. Она внушает страх: мертвая и живая одновременно.
Томас. Это в порядке вещей: метасоматоз[12]12
В буквальном переводе что-то вроде: «замещение (тела)» (древнегреч.). В новейшее время в геологии этот термин употребляется для обозначения процесса замещения одних минералов другими с существенными изменениями химического состава горной породы, но с сохранением ее объема и твердого состояния при воздействии растворов высокой химической активности.
[Закрыть]. Когда дух меняет одно тело на другое.
Уильям. Не понимаю.
Томас. Вторая или третья реальность. Разве ты не сумел бы стать, скажем, девушкой – в мыслях? Если бы накинул на себя одежду, которая согласовывалась бы с такой фантазией?
Уильям. У меня не бывает подобных фантазий. Я в них не нуждаюсь.
Томас (от стола, к которому он уже сел). Ты не спрятан в себе: ты одинаков внутри и снаружи. Это и делает тебя неотразимым. Я с незапамятных пор поддерживаю только одну, отмеченную уродством, дружбу с самим собой. Но… sine те nihil[13]13
Отсылка к фразе из Евангелия от Иоанна (15:5; в латинском переводе): Sine Me nihil potestis facere, «Без Меня не можете делать ничего».
[Закрыть]. Без меня не будет никакого Бристоля и, значит, не будет Уильяма и Питера. А теперь спи! Я бы хотел, чтобы мне больше не мешали.
(Уильям гасит свечу возле кровати).
СПУСТЯ ТРИ ДНЯ
ТАМ ЖЕ
Вечер. Луна еще не взошла. Томас Чаттертон и Питер Смит входят, двигаясь ощупью. Томас, найдя огниво, зажигает свет.
Томас Чаттертон. Нынче вечером удовольствие будет ополовинено.
Питер Смит. А что, мисс Сингер не придет?
Томас. Не в том дело. Я полагаю, Элизабет надежна; до сих пор, по крайней мере, на нее можно было положиться. Нет, просто я попался в западню. И должен целую ночь работать. Ты можешь разделить все лакомства на двоих. И, само собой, себе взять двойную долю.
Питер. Почему ты не хочешь быть с нами?
Томас. Я буду сидеть здесь, за столом. Мы повесим занавеску, чтобы присутствие одетого человека вас не смущало.
Питер. Тебе такое не по вкусу?
Томас. О том же я мог бы спросить тебя. Думаю, мы оба теперь достаточно взрослые, чтобы понимать толк в прекраснейших изобретениях нашего бренного мира.
Питер. Тогда что тебе мешает?
Томас. Вчера я опять видел дурака Кэткота и врача Барретта, который пишет историю Бристоля. Я им принес полный текст «Бристоуской трагедии» и стихи, посвященные Иоанну Лэмингтону. Оба, кажется, усомнились в подлинности этих вещиц, я хочу сказать – в том, что вещи эти вышли из-под пера старого Роули. Обоим показалось, что стихи на удивление чистые, правильные по размеру… и что разбросанные в них красивые сравнения слишком поэтичны. Я в ответ заявил, что Роули более великий поэт, чем Чосер. Но под конец признался, что все это моя работа. Однако Барретт, в свою очередь, признание отклонил. Дескать, я на такое не способен; с тем же успехом он сам мог бы претендовать на авторство. Я было растерялся, но сумел взять себя в руки. Я лишь слегка дополнил тексты, сказал я, – в тех местах, где пергаменты стали нечитаемыми. Оба тут же захотели взглянуть на оригиналы. Я нашел какой-то предлог, чтобы оттянуть время. Но Барретт побежал к моей матушке и принялся ее выспрашивать. Она пуглива. Кроме того, почитает этого Барретта (которому удалось несколько поправить ее здоровье) чуть ли не как неземное существо. Тем не менее, матушка держалась молодцом. Объяснила, что мой отец в свое время украл пергаменты из архива церкви Марии Рэдклиффской, кое-что потом уничтожил, ну и так далее. Она помогла мне выпутаться из затруднительного положения, это точно. Однако теперь наш акушер настойчивее, чем когда-либо прежде, требует пергаменты. Я обещал ему принести кое-что уже завтра.
Питер. Но ведь тебе нужно только достать документы из сундука…
Томас. Ты говоришь, подыгрывая своим желаниям. Ты единственный, с кем я полностью откровенен. Уильям – просто мое утешение. Ты-то наверняка знаешь, что я и есть Роули. Тогда как для твоего брата все это – враки, плод разгоряченной фантазии… В сундуке сейчас нет ничего, что я мог бы предложить этим двум господам, одержимым собиранием древностей. Они хотят увидеть пожелтевшую рукопись поэта и определенные стихи – те, что родились в моей голове.
Питер. Боюсь, ты слишком углубился в заросли. Бывают колючки, которые не только ранят, но и мешают двигаться дальше.
Томас. Нужно быть отщепенцем – настолько, чтобы в любой час, если он под завязку наполнится неприятностями, суметь выстрелить себе в рот.
Питер. Возможно, мы оба настолько свободны… и одиноки… и исполнены решимости.
Питер. Ты получишь мой, как только я куплю еще один.
Томас. Я напомню, если забудешь.
Питер. Уже в ближайшие дни я тебе его принесу.
Томас. Хорошо бы еще и яд иметь при себе; или хотя бы опиум.
(Слышно, как бьют часы на башне).
Питер. Святая Мария Рэдклиффская отбивает девятый час.
Томас. Я спущусь вниз: посмотреть, стала ли тьма непроницаемой. Миссис Эскинс не должна заметить, что мисс Сингер поднимается к нам. Прочие соседи по дому принимают эту мансарду за часть царства духов, которая не лишена жути. Может, их представление не так уж ошибочно: здесь мы пребываем за пределами обычного мира, подчиняющегося низшему разуму.
Питер. Томас, я хотел бы, чтобы ты отослал Элизабет —
Томас. Почему?
Питер. Развлекаться с ней одному… если ты воздерживаешься… Мы, Том, слишком друг к другу привязаны – ты и я… Мы с нашими чувствами ориентированы друг на друга. А это сомнительное удовольствие… Нам с тобой нужно подмешать к нему что-то… добиться его возгонки… посредством чего-то странного, путаного. Мы ведь не любим мисс Сингер. А лишь подчиняемся некоей властной потребности —
Томас. Что запрещает тебе думать тем временем обо мне? В пространстве внутренних представлений нет ничего запретного. Закрой глаза, и перед тобой раскинется просторная Природа, великий ландшафт Познаваемого-в-ощущениях. Наша религия – это уверенность в том, что мы держим оборону против всего мира. Я сотворен из глины и бедности. К бедности часто наведывается в гости поэтическое искусство. Нет таких пороков, в которых не обвиняли бы бедняков. А расплачиваются бедняки той же монетой, что и все остальные, – собственной смертью. Ты соскользнул вниз, ко мне, – после того как дом на Кристмас-стрит отринул тебя. Мы хотим для себя по меньшей мере отщепенчества. Хотим быть – противниками. Мы – пример для других, начинающих с меньшим мужеством. Мы основали общество «барабанщиков» и в арендованной задней комнате одной корчмы построили для бедняков, которые прикованы к своим хозяевам-«наставникам», воображаемый храм: святилище несовершеннолетних. Здесь они играют роли, придуманные поэтами для сцены: королей, полководцев, мошенников, знаменитых влюбленных, князей духа, исследователей звездного моря. Здесь же – выплескивают полной мерой собственные свободнорожденные чувства: проклинают изобретателей сервитута и договорного рабства, поносят своих эксплуататоров. Ученик, который обычно дрожит, услышав повелительный голос учителя, здесь сбрасывает пугливость вместе с рабочим фартуком и превращается в более привлекательное существо. Кузнец, портной, молотильщик, мальчик из бельевой лавки, плетельщик корзин, цирюльник, подручный пивовара, резчик по дереву, мясник, посыльный купца, каменщик с грязными руками и лицом: среди них нет ни одного малодушного, который не был бы готов на преступление ради возможности подняться по социальной лестнице, получить право свободно дышать и выиграть жизнь – свою собственную, свою неоскверненную собственность. Здесь им встречаются девушки (может, единственные дочери и наследницы какого-нибудь уважаемого сапожника), которые вдыхают чудо плоти, отваживаются довериться своей – обычно подавляемой – телесности. И все же внутренний страх не отступает от молодых людей: поставленные над ними опекуны, доведись им узнать об этом прибежище свободы, поднимут в своем цеховом союзе тревогу, и тогда какой-нибудь фельдфебель – с заниженными представлениями о справедливости – вломится в священную обитель и доставит беззащитных юнцов в исправительное заведение. Каково положение вещей! Какая трещина в мироздании!.. Мы с тобой, Питер, не вправе бояться. Я сейчас спущусь вниз, чтобы встретить Элизабет. А ты пока повесь занавеску на крючки, которые я заранее вбил.
(Он выходит. Питер Смит некоторое время стоит в задумчивости. Потом принимается развешивать перед кроватью занавеску).
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ
14 АВГУСТА 1769 ГОДА
ТАМ ЖЕ
Томас (сидит за столом и дописывает последние строки элегии, посвященной мистеру Уильяму Смиту: «Поднимись, моя Муза, на траурных крыльях печали…» Вдруг он вскакивает, начинает беспокойно ходить по комнате).
Сара Чаттертон (боязливо заглядывает в мансарду). Достоверно известно, Томас, что юный господин Уильям Смит будет похоронен сегодня ночью. Как и где, никто не знает. Я расспрашивала миссис Эскинс: ясно лишь, что он совершил самоубийство.
Томас. Неужели собственный брат потащит его в анатомичку, расчленит, выпотрошит? И мерцающая плоть, серебристое дыхание кожи станут добычей ножа? Или – Уильяма зароют на каком-нибудь перекрестке? Я хочу знать. Я должен это знать.
Сара. Томас – я не вправе скрыть от тебя, что его добровольный уход из жизни объясняют дружбой с тобой. Вас обвиняют… Я даже не знаю, в чем.
Томас. Они загнали Уильяма в смерть. Я хочу знать, что станет с его трупом!
Сара. Миссис Эскинс ничего разузнать не сумела. Посторонних в дом пивовара не пускают. Викарий Темпл-черч… из него слова не вытянешь, как если бы он сам был могилой; его, между прочим, зовут Александр Кэткот: он брат нашего оловянщика.
Томас. Отправь кого-нибудь к дяде Ричарду. Пусть он поспрашивает собратьев по гильдии могильщиков.
Сара. Я передам ему твою просьбу. Он готов сделать для тебя многое: даже больше, наверное, чем ты, Томас, ожидаешь. Но не ухудшай и без того скверную ситуацию – умерь свою печаль. Я глубоко испугана и утратила мужество. Ибо отчетливо понимаю, что тебе тоже грозят черные звезды.
Томас. Все-таки поторопись!
Сара. Уже иду.
(Уходит).
Томас (берет пистолет). Должен ли я последовать за ним? Прямо сейчас? Выстрелив себе в рот? Будет ли боль короткой или длинной? Может, прежде проглотить опиум, чтобы смягчить ужасный момент?
Но прежде я хочу увидеть его.
(Дверь открывается, и входит Уильям Смит).
Уильям. Томас – Томас —
Томас (поднимает глаза, пугается, отстраняюще взмахивает руками). Нет – не так!
Уильям. Это я. Я по-прежнему держусь за тебя. Не отвернулся…
Томас (смахивает со лба пот, выступивший от страха). Уильям… это ты? Из какого ты вещества? Люди рассказывают, что ты мертв… застрелил себя… через рот… Или ты прибегнул к яду? (В полной растерянности садится на стул возле стола, поднимает пистолет.) Я как раз хотел за тобой последовать… во влажное Ничто.
Уильям. Это был мой брат, Питер Смит. Это Питер покинул нас. Сунул пистолет себе в глотку и нажал на спусковой крючок.
Томас (будто вдруг преисполнившись равнодушия). Я только что закончил посвященную тебе элегию. Теперь она будет для Питера. Я должен прямо сейчас сделать пояснительную приписку. (Пишет.) «По счастью, вышло недоразумение: как мне стало известно из первых рук, погиб Питер».
Уильям. Он менее дорог тебе, чем я?
Томас. Нет.
Уильям. Почему тогда ты пишешь: «По счастью…»?
Томас.По счастью, ты не привидение. По счастью, ты остаешься со мной. Кроме того: мои мысли неизбежно должны теперь перестроиться. Где прежде была свинцовая тоска, там теперь радость. Однако в другом месте моего мозга, также проникнутом любовью, образовалась внезапная пустота. Как если бы я рассматривал красивый пластический образ – я действительно созерцаю его в себе – человеческую грудь, на которую мог бы преклонить свою непутевую голову – и внезапно половина этой груди оказалась бы вырезанной – и мои дрожащие губы соприкоснулись бы с ошметками обнаженных мышц… Забудь: это сравнение – думаю, слишком туманное – все равно ничего не выразит.
Уильям. Я хочу остаться твоим другом.
Томас. Стихи принадлежат ему – по такому же праву, по какому могли бы принадлежать тебе.
Уильям (подойдя к Томасу сзади, обнимает его). Ты не можешь плакать. Или слезы уже пролились? Чем мне тебя утешить?
Томас. Расскажи, как все произошло. Я должен узнать это; только потом шлюзы моих чувств откроются.
Уильям. Между Питером и нашим отцом вспыхнула ссора. Отец упрекал брата в изменении образа жизни, в дружбе с тобой; дескать, вы занимаетесь всяким непотребством, промискуитетом самого отвратного свойства…
Томас. Откуда он может знать —
Уильям. Девица, мисс Сингер, явившись к отцу, заявила: она, дескать, находится в интересном положении и непременно должна выйти замуж. Оказалось, она сама не знает, кто ввергнул ее в такую беду: то ли ты, то ли Питер. В любом случае, вы трое все делали сообща. Она решила предпочесть сына пивовара начинающему писцу.
Томас. Она знает: ученик Колстонской школы не имеет права жениться.
Уильям. Отец прогнал ее. А после жестко поговорил с Питером, потребовал, чтобы тот порвал отношения с тобой: ты, дескать, – негодяй, сводник, воплощение низости.
Томас. Он набросал мой теневой портрет.
Уильям. Питер ему не ответил. Он просто прошел в свою комнату, заперся и застрелился.
Томас. Кто-то услышал выстрел?
Уильям. Никто не услышал.
Томас. Питер умер сразу?
Уильям. Неизвестно. Его нашли лежащим у порога. Он, очевидно, еще успел добраться туда, хотел открыть дверь.
Томас. Что происходило после того, как его нашли?
Уильям. Отец поднял мертвого, положил изуродованную окровавленную голову себе на колени, поцеловал покрытые запекшейся кровью губы. Мы поняли, что он очень любил Питера.
Томас. Любил?.. Он его уничтожил.
Уильям. Я думаю, причиной всему была гордость Питера.
Томас. Наше совместное отщепенчество – наше яростное своеволие!
Уильям. Брат Ричард, между тем, привел своего учителя – хирурга Джона Таунсенда. Отец поговорил с врачом. Потом они оба обсудили это дело с викарием Темпл-черч. Питера похоронят в крипте под хором церкви.
Томас. Возможно ли? Самоубийцу?
Уильям. Без торжественных обрядов, но с такой вот чрезвычайной привилегией.
Томас. Я хочу его видеть!
Уильям. Его голова… Ты вряд ли его узнаешь.
Томас. Я узнаю тело. Как он одет?
Уильям. Отец завернул его в саван. Гроб из дубовой древесины будет иметь свинцовый вкладыш, а сверху его запаяют. Ты больше не дотронешься до Питера.
Томас. Я хочу попасть в эту крипту —
Уильям (с внезапной решимостью). Дай пистолет!
Томас. Он мне его подарил.
Уильям. Я сохраню его для тебя.
Томас (без колебаний протягивает ему оружие). Почему ты пришел сюда, если Питеру общаться со мной запретили?
Уильям. Отец не хотел накликать второе самоубийство.
Томас. С тобой, значит, дело обстоит так?
Уильям. Сам не знаю, на что я способен. Я только решил, что остаюсь твоим другом. Это я и сказал отцу. Он с удивлением взглянул на меня; лицо его вздрогнуло; наконец он сказал: «Ничего больше не могу…»
Томас. Он не понимает возвышенного величия твоей незлобивой души.
Уильям. Под конец и Ричард призвал меня к ответу. У него внезапно появилось много идей. Мол, общество «барабанщиков» нужно распустить – хотя бы для того, чтобы не подвергать его членов опасности. Потом, лично ему осточертела перевозбужденная деятельность незрелых юнцов: неправильно понятая актерская игра, бессмысленные мишурные наряды. Поцелуи на сцене – всего лишь шатких подмостках – имеют привкус похоти, искусство же они убивают фальшивым пафосом. Он может лишь пожалеть, что иногда тайком приводил тебя в анатомический институт Джона Таунсенда: ты, по его словам, испытывал интерес лишь к атрибутам мясницкого ремесла – грубой картине человеческих мышц и органов, – тогда как высшие познания от тебя ускользали.
Томас. Ричард Смит, видно, уже ощущает себя зрелым мужем? Он, значит, и впредь, желая со временем стать великим врачом, будет отпиливать верх черепной коробки сотням умерших бедняков – чтобы заглянуть им в мозг. Однако о мыслях, которые мыслятся внутри черепа, он ничего не узнает; больше того – поостережется что-то узнать. Ведь бедности по вкусу бунтарство.
Ричард Филлипс (входит). Юный Уильям Смит здесь? Тогда ты, Томас, наверняка знаешь больше, чем гильдия могильщиков. Значит, это и есть третий брат, улизнувший из дому, – собственной персоной. Однако не будем об этом… Добрый день, юный господин Смит! А тот, скончавшийся, обретет вечный покой в крипте под хором (как ни удивительно), – вместе с другими достопочтенными покойниками.
Томас. Я хочу спуститься к нему в склеп.
Филлипс. Что ты сказал?
Томас. Когда его отнесут вниз, я хочу спуститься к нему.
Филлипс. Над спуском тотчас опять водрузят тяжелую плиту.
Томас. Но это ведь будут делать подмастерья, которых ты знаешь?
Филлипс. Конечно, мы знаем друг друга.
Томас. Так дай им чаевые. Скажи, чтобы они спустили меня вниз и повременили с работой, пока я не выберусь на поверхность.
Филлипс. Необычная просьба. Впрочем, это можно устроить. Только учти, что дело будет происходить ночью. Место, само по себе, довольно жуткое. Кругом запыленные гробы. Я бы тебе не советовал…
Томас. Если хочешь мне добра, помоги.
Филлипс. Ты, надеюсь, не станешь разыгрывать в склепе историю Ромео и Джульетты?
Уильям (показывает пистолет). Оружие я у него забрал.
Томас. Я хотел бы выплакаться – вот и все содержание моей пьесы.
Филлипс. Тогда предлагаю, чтоб мы обговорили детали, пока еще светло.
(Все трое уходят).