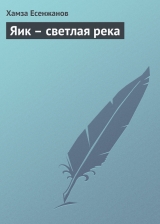
Текст книги "Яик – светлая река"
Автор книги: Хамза Есенжанов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 52 страниц)
Старшина Жол, обиженный и потрясенный, выходя из юрты, напомнил Шугулу об аллахе и справедливости.
– Настанет судный день, – сказал он, – а там выяснится, кто прав, кто виноват. Все мы склоним колени пред правосудием!
Шугул гневно закричал на него:
– Иди, иди, жалуйся своему всесильному аллаху!
– О аллах, прости и помилуй нас, грешных!.. – всплеснула руками старуха, перестав взбалтывать кумыс. – Хаджи, сейчас же отрекись от своих слов и проси прощения. Можешь оскорблять кого угодно, но аллаха не трогай, ты не имеешь права сомневаться в его всемогуществе!
– Старуха, сиди смирно и не вмешивайся не в свое дело!
– Отрекись от своих слов, проси прощения у аллаха! Ты ведь раньше никогда не ругал его, что случилось с тобой? Разве, кроме имени аллаха, других слов нет? – не унималась старуха, требуя от мужа покаяния.
– Довольно, хватит! Заткни глотку! – снова заорал хаджи, и этот крик долго еще звучал в ушах уходившего старшины.
Увидев во дворе сына хаджи, Жол решил поговорить с ним и направился к нему. Но не успел он подойти, как Нурыша позвали к Шугулу. В дверях появился длинный Вали и крикнул:
– Нурыш, тебя зовет отец!
Нурыш торопливо вошел в юрту.
– Позови Баки, пусть запрягает лошадь, – приказал Шугул сыну и стал поспешно одеваться.
– Куда едете? Если недалеко, может саврасого запрячь? Или пригнать из косяка серого в яблоках? – спросил Нурыш, желая узнать, куда намеревается ехать отец.
– Скажи, пусть запрягает саврасого, поеду в мечеть. Эти прикидывающиеся верными служителями аллаха бездельники хазреты только и умеют есть да спать, а дьяволы совращают народ, – раздраженно проговорил хаджи.
– Что с тобой – то аллаха ругаешь, то хазретов? Покайся, проси у аллаха прошения, пока не накликал на себя беду. О всевышний, даже на старости лет ты не избавил моего мужа от лютости и бессердечности, – вздохнула старуха, ставя перед хаджи полный тостаган прохладного кумыса. – Может, и ты выпьешь? – обратилась она к длинному Вали, подавая ему тостаган.
Вали молча взял тостаган и залпом выпил кумыс.
– О аллах!.. – прошептала старуха, глядя на него.
– Вкусный!.. – чмокнул губами Вали, возвращая тостаган старухе.
Батрак хаджи Шугула Баки подогнал тарантас к юрте. Нурыш помог отцу взобраться на сиденье и пожелал счастливого пути. «К хазретам поехал… втроем будут поносить хаджи Жунуса и учителя Халена!..» – мысленно заключил Нурыш, глядя вслед уезжавшему тарантасу.
3
Угрюмым и сердитым вернулся Жол домой. Всю ночь не спал – угроза Шугула не на шутку встревожила его. «А вдруг Шугул действительно скажет волостному управителю, что во всем виноват старшина, – с опаской подумал Жол. – Ему могут поверить, и тогда сошлют меня в Сибирь. Но ведь настоящие виновники – хаджи Жунус, Хален и этот Абеке, или Айтий. Они совращают народ, а не я. Что я с ними могу сделать? Пусть сами отвечают за свои действия…» Старшина вскочил с постели, взял листок бумаги и начал писать донесение волостному управителю на хаджи Жунуса, Халена и Абдрахмана. Он решил опередить Шугула, чтобы тот не успел ввести в заблуждение волостного.
Выборному управителю
Копирли-Анхатинской волости
от старшины аула Э 7
РАПОРТ
Настоящим честь имею донести вам, что 27 мая сего года на джайляу «Оброчное» состоялся тайный сход граждан седьмого аула. Руководили сходом уволенный из школы учитель того же аула, неблагонадежный Хален Коптлеуов и хаджи Жунус. На сходе они заявили, что скоро будет установлена новая власть и что нынешней власти подчиняться не нужно. Против власти выступал также и некий интеллигент, приехавший из Теке, по имени Абдрахман, по фамилии Айтиев. Ставлю вас в известность, что 27 мая я находился у вас и поэтому не мог воспрепятствовать созыву тайного схода.
Доносит сие старшина аула Э 7 Жол Нурманов и подтверждает своей подписью и печатью.
29 мая сего 1918 года.
Закончив донесение, старшина снова лег в постель, но так и не смог заснуть до утра. Едва начало светать, он поскакал к волостному управителю.
Волостной управитель Бакебаев, прочитав рапорт, покачал головой и сказал:
– Твой аул – это аул отрекшихся от веры безбожников. Когда шла мобилизация казахов на тыловые работы, больше всего смутьянов было в твоем ауле. Что, снова начинается старое?..
Жол промолчал.
– Сколько джигитов вы должны представить в первую очередь?
– Четверых джигитов, – с готовностью отозвался Жол.
– Всех четверых завтра же доставь сюда! В помощь тебе дам двух полицейских, присланных из Кызыл-Уйя. Никаких отсрочек! На всех, кто будет отказываться, составляй акты и гони сюда. Сейчас порядки строгие, учти это. Да чтобы налог тоже был немедленно всеми уплачен. Собранные деньги сдашь казначею!..
Управитель говорил хотя и грубо, но сдержанно, не кричал, как обычно, и не пугал тюрьмой и каторгой. Он даже подошел к старшине и похлопал его по плечу.
– Не многие носят такие значки, – сказал управитель, кивая на старшинский значок, поблескивавший на груди Жола. – Ты должен гордиться этим. Если осенью будут перевыборы, то… Ладно, об этом после, можешь идти!
– Буду стараться по мере моих сил и возможностей, – пробормотал Жол, выходя из канцелярии управителя.
Вернулся в аул старшина обнадеженным и сильным.
4
Вслед за учителем Халеном и хаджи Жунусом перекочевали в междуречное джайляу почти все аулы. Только три семьи остались жить в зимовках на том берегу. Отказ их от перекочевки никого не удивил. Это были семьи бедняков, они не имели скота для передвижения.
Из трех оставшихся на том берегу хозяев чаще всего упоминали имя Каипкожи. У него имелась одна-единственная вороная кобыла, которой в эту весну исполнилось двадцать два года – ровно столько же, сколько старшему сыну Каипкожи – Каримгали. Состарилась вороная, стал пожилым и ее хозяин Каипкожа. А где только не побывал он на своей лошадке! Объехал все аулы шести колен рода Кара и восьми колен рода Айтимбета. Его кобыла паслась на лугах Шидерты, бродила по отрогам Уленты; случалось быть и на Тайсойгане, и Карабау, и на берегах реки Жем. В долине Яика мало кто не знал сыбызгиста Каипкожу. Он показывал свое искусство почти во всех аулах и кочевках этого обширного, густо населенного края.
Сейчас вороная кобыла стоит во дворе под навесом и хлещет себя жиденьким хвостом по облезлым бокам, сгоняя мух. Их так много, что над спиной лошади, кажется, нависла темная туча. Они роем садятся на помутневшие гноящиеся глаза, и вороная беспрерывно мотает головой, позвякивая недоуздком.
Грудная болезнь – чахотка, годами воровато и незаметно подтачивавшая здоровье Каипкожи, вот наконец окончательно свалила его в постель. Когда-то высокий и полный, теперь он лежал в полусумрачной землянке, худой, пожелтевший, как поваленный в бурю тополь с засохшими ветками. Грудь ввалилась, плечи опустились. Под глазами обозначились большие синие круги. И только обожженные солнцем усы, казалось, нисколько не изменились, в них не было ни одного седого волоса. Два дня тому назад Каипкожа перебрался из сырой тесной, пахнувшей глиной землянки в сенцы, где было суше, куда проникало солнце и залетал степной ветерок, принося запахи цветущих весенних трав.
Дверь была открыта. У порога сидела жена Каипкожи в залатанном стареньком платке и готовила шалап из недоквашенного кислого молока и воды. Каипкожа долго безмолвно смотрел на нее и вдруг сказал:
– Жубай, принеси-ка мне сыбызгу!
Старуха подняла голову и удивленно посмотрела на мужа. Глаза Каипкожи так горели, что старуха напугалась:
– Что с тобой, батыр? Разве ты сможешь сейчас играть на сыбызге?
– Принеси, хочу сыграть!.. Посмотри на степь, разве не видишь, как нарядно убрано лето? Разве не слышишь, как поют кузнечики? А эти ласточки, что чертят голубое небо?.. Принеси, я хочу сыграть!..
– Ну и что тут такого, летают ласточки и пусть летают, – сказала Жубай, продолжая разглядывать худое лицо мужа. «Не бредит ли он? – с тревогой подумала она. – Не конец ли это приходит ему?..» Ей вдруг стало страшно от догадки, что муж с минуты на минуту может умереть. Крупные, как горошинки, слезы покатились по ее щекам.
– Что с тобой, жена? Я радуюсь жизни, восхищаюсь красотой степи, а ты вместо того чтобы радоваться со мной, почему-то плачешь. Принеси мне сыбызгу, я хочу сыграть песню про этих вольных ласточек, про это роскошное лето.
– Не надо, игра очень утомит тебя. Тебе нужен покой, вот поправишься немного, сможешь сидеть – тогда и поиграешь.
– Я уже могу сидеть! Сегодня, когда ты уходила к соседке, я сидел. Вот посмотри… – Каипкожа зашевелился и, опираясь на локти, с трудом сел на постели.
– Ложись, прошу тебя, ложись! Что с тобой сегодня, батыр? Ты настойку из травы и кореньев не пил?.. Ох, аллах всемилостливый, куда это запропастился Каримгали? Хоть бы поскорее пришел да принес кумыс. Выпил бы ты настойку с кумысом, сразу легче бы стало. Ах, как бы помог тебе сейчас свежий кумыс! – говорила Жубай, пытаясь снова уложить мужа в постель.
Каипкожа настойчиво просил принести ему сыбызгу и наотрез отказался лечь в постель. Жубай уступила, принесла сыбызгу и, тряпкой смахнув с нее пыль, подала мужу, затем поставила перед ним чашку с водой. Каипкожа набрал в рот воды, спрыснул сыбызгу, вытер ее и положил возле себя на колени.
– Когда ты послала Каримгали за кумысом? – спросил он, пристально посмотрев на жену. Затем повернулся к двери и стал сосредоточенно вглядываться в степь.
– Каримгали ушел давно, когда ты еще спал. Должен уже вернуться, да что-то все нет…
– Может быть, кумыс у Балым еще не выбродил?
– Я сказала ему, что если у Балым еще кумыс не готов, чтобы попросил у учителя. Они давно уже начали доить своих кобылиц, так что у них наверняка есть. Хален сам мне говорил, чтобы брали у него.
– Самой бы надо было сходить. Каримгали уже большой джигит. В его годы мы не то чтобы просить у кого-нибудь кумыс, даже стыдились пить, когда нас угощали. Непристойно такому большому джигиту выпрашивать кумыс, стыдно.
– Какой же стыд просить кумыс на лекарство для больного отца? Я всегда сама носила, только сегодня послала Каримгали, потому что дома скопилось много работы, – ответила Жубай, оправдываясь.
Каипкожа больше не сказал ни слова, продолжал через открытую дверь разглядывать степь, а Жубай снова принялась готовить шалап. Она то и дело поглядывала на мужа: «Может, поправится?.. Если бы каждый день пил свежий кумыс, быстро бы встал на ноги…»
Ни Жубай, ни Каипкожа не знали, что сын вот-вот вернется домой без кумыса, что его постигла большая беда – записали на службу и сегодня же должны отправить в Кзыл-Уй.
Кюи «Нар иген», «Аксак киик», «Бала каз», «Сокыр кыз» очень мелодичны и лиричны по содержанию. Далеко не каждый сыбызгист может их хорошо исполнить – это удается немногим. И среди тех немногих был Каипкожа. Он в совершенстве владел искусством игры на сыбызге, исполнял эти песни с чарующей прелестью, уводя слушателей в мир красоты. Сыбызга в его руках словно разговаривала человеческим языком, захватывая сердца людей. Не раз он играл эти песни на больших и малых праздниках, разъезжая по аулам, и тем снискал себе славу незаурядного сыбызгиста. Часто приходилось ему состязаться с другими музыкантами по исполнению «Нар иген», «Аксак киик», и он не имел ни одного поражения, всегда выходил победителем. Имя замечательного сыбызгиста было известно далеко за пределами Копирли-Анхатинской волости. Простые люди любили его, может быть, за то, что песни, которые он играл, скрашивали их тяжелую, безотрадную жизнь, заставляли хоть на минуту забыть нужду и горе. Особенно любила слушать его песни молодежь. Едва завидев Каипкожу, джигиты и девушки просили его сыграть «Гусенка» и «Слепую девушку». Когда он приезжал в аул, там до самого утра не прекращалось веселье. Почет!.. Угощение!.. Но ничто не вечно, все проходит – отгремели праздники, отшумели пышные тои. Кончилась молодость – кончилось веселье!.. Быстро забывались похвальные крики толпы: «Замечательно!..», «Молодец, Каипкожа, живи долго!..», «Да пошлет тебе аллах всех земных благ!..» Забывались через месяц, через неделю, исчезали, как мираж в туманной степной дали. Такова жизнь!.. Все это вспомнил Каипкожа теперь, глядя на зеленую степь, на голубое небо. Как видение, промелькнули перед глазами шумные дни молодости, растаяли, и снова – только беззаботный стрекот кузнечиков за стеной да тяжелые вздохи жены у порога. Каипкожа взял сыбызгу и начал тихо играть.
Плавно полилась мелодия незнакомой песни, набирая темп, и вдруг словно прорвалась через преграду и загремела, наполняя сенцы чарующими звуками. Жубай быстро оглянулась, на ее лице – испуг и удивление. Она пристально посмотрела на мужа – что с ним? Каипкожа играл с упоением, собравшись в комок, позабыв обо всем на свете; на его тонкой, худой шее вздулись две синие вены, было видно, как они вздрагивали; он смотрел вниз, полузакрыв глаза, словно разглядывал какую-то былинку, неподвижно лежавшую на земляном полу. Над верхней губой шевелились усики, зубы плотно сжимали толстый конец сыбызги. Сухие и длинные, как тростниковые палочки, пальцы быстро и ловко перебирали лады. Лицо от напряжения потемнело, на висках вздулись жилки и, казалось, готовы были вот-вот лопнуть. Не глядя на сыбызгиста, а только слушая его музыку, можно было подумать, что играет молодой, с цветущим здоровьем джигит. И песня была веселая, полная радости и счастья.
Старуха молча смотрела на мужа и слушала песню. На миг она забыла, что живет в сырой землянке со смертельно больным мужем, – вспомнилась беззаботная молодость, вспомнилось все лучшее, что было в ее безрадостной, придавленной нуждой и горем жизни… Она опустилась на порог и закрыла лицо руками.
Каипкожа играл так страстно и выразительно, что казалось, даже птицы примолкли, слушая песню. Она вырывалась из дверей землянки и уносилась далеко в степь. Притихли за стеной кузнечики, перестали чирикать в гнезде под потолком ласточки…
Старуха беспокойно подняла голову и стала всматриваться в степь – там никого не было видно, но топот приближавшихся всадников слышался все сильнее и отчетливее.
– Батыр, перестань играть, к нам кто-то едет, – попросила Жубай мужа.
Каипкожа словно не слышал ее слов, продолжал играть, играть… Глаза его по-прежнему были полузакрыты, он смотрел в земляной пол; что представлялось его взору, было известно только ему одному.
Жубай встала и пошла навстречу подъезжавшим всадникам.
5
– Эй, хозяйка, Кайкан дома? Это не он ли играет на сыбызге? Оказывается, ты тогда обманула меня, сказав, что муж болен, а? – крикнул Жол, слезая с лошади. – Никогда не скажете правду, словно у вас от правды животы полопаются! Эй, хозяйка, пусть Кайкан выйдет сюда, нужно поговорить с ним по срочному делу!
– Бий кайным, он тяжело болен и не может выйти. Если хотите поговорить с ним, пройдите в землянку, – ответила Жубай, недоверчиво глядя на двух вооруженных всадников, приехавших вместе со старшиной и тоже слезавших с коней.
– Ты что болтаешь? «Тяжело болен»?.. Разве тяжело больной человек может играть на сыбызге? Мы за версту отсюда услышали эту песню. Скажешь, никто не играл у вас на сыбызге? Может, спорить будешь, а? Я думал, только этот джигит лгун, – он указал камчой на Каримгали, – но, оказывается, и мать его обманщица!..
– Что ты, бий кайным! Да пусть меня покарает аллах, если я лгу. Никогда я никому не лгала в жизни, а теперь, в пятьдесят пять лет, стану лгать? Зайди и посмотри сам – кожа да кости!.. Еле дышит… Только-только перед вашим приездом попросил сыбызгу, мне не хотелось обижать его, я принесла ему сыбызгу и усадила на подушки… Он не только во двор выйти не может, две недели как не поднимается с постели. Заходите, заходите, бий кайным, но пожалуйста, не утомляйте его долгим разговором. От игры на этой проклятой сыбызге он совсем обессилел. Не может отвыкнуть от старой привычки. Даже сейчас – почти при смерти, а все просит поиграть…
– Зайдем, что ли, старшина! Эти старухи только и знают жаловаться: «Лежит при смерти, собираемся хоронить!..» Если умрет, отнесем вон на то кладбище и похороним, – сказал рыжий жандарм Маймаков, указав камчой в сторону видневшихся на склоне холма могил. – А сыбызгу поставим у изголовья!
– О аллах, что вы говорите?! – воскликнула старуха и зашептала молитву.
– Ладно, не причитай!
Старшина подвел лошадь к землянке и привязал повод за торчавшую из крыши жердь. Затем помог рыжему жандарму привязать коня и, отряхнувшись, гордо вошел в землянку. За ним следом скрылся в дверях землянки и Маймаков.
Старая Жубай подошла к сыну, растерянно смотревшему по сторонам.
– Каримгали, где кумыс? Почему ты вернулся без кумыса? – спросила она. – Как же ты мог прийти с пустыми руками?
– До кумыса ли тут было! – низким, упавшим голосом проговорил Каримгали. – Говорил я им, – он кивнул в сторону жандарма, – просил, не пустили… Окружили и насильно погнали назад.
– Почему они тебя окружили? Или на нас наложили новый налог?
– Налог?.. Мы не такие богачи, чтобы нас обкладывать налогом. Налог полагается с тех, у кого много скота. Эх, мама, мама, ничего ты не понимаешь! Не налог, еще хуже… Меня записали в сарбазы![88]88
Сарбаз – солдат.
[Закрыть] Теперь тоже буду разъезжать по аулам с винтовкой за плечами, как эти… – он снова кивнул в сторону жандарма.
– Что ты говоришь? Они хотят тебе дать ружье и увести из родного дома? О аллах, прости и помилуй нас!.. Что ты болтаешь, непутевый? Зачем ты им нужен?
– Не пугайтесь, мама, ничего тут страшного нет. Одно плохо – от дома могут далеко угнать.
– Ойбай-ау, что ты болтаешь? Ты еще ребенок, кто за тобой смотреть будет, кто напоит, кто накормит!.. А если заболеешь, кто поухаживает за тобой!.. О всевышний, зачем ты придумал эти ружья? Ойбой, Каримгали, и не думай брать в руки ружье, убьешь еще себя! Куда ты пойдешь из дома, на кого бросишь умирающего отца и меня, больную и немощную старуху?.. О аллах, зачем ты послал на нас эту беду?.. – заголосила Жубай.
Каримгали молчал, бессмысленно глядя на мать. Он вспомнил, как старшина Жол уговаривал его записаться в сарбазы. Старшина говорил: «Каримгали, тебя народ посылает служить ханскому правительству. Не выполнить желание народа – преступление, за которое джигит будет строго наказан. Ты станешь сарбазом – гордись! Я вижу, ты согласен. Возвращайся домой и скажи отцу, что согласен идти на службу. Поехали вместе!.. Смотри, не смей при отце отказываться. Если будешь послушным и поедешь вместе с другими джигитами на службу в Кзыл-Уй, я дам тебе рекомендательное письмо. Напишу, что то хороший и умный джигит, начальство сразу назначит тебе жалованье. Ты знаешь, что такое жалованье? Дадут тебе денег, одежду, оружие, дадут хорошего коня. Чем без дела шататься по аулу, лучше служить. Станешь человеком! Понял?»
Заманчивыми показались слова старшины. Наивный и простоватый Каримгали согласился. Он хорошо знал, что деньги, одежду и коня заработать очень трудно, а тут – все это дают только за то, что запишешься в сарбазы. Джигит в ауле без коня – не джигит, грош ему цена. Кроме того, Каримгали казалось, что ездить с винтовкой за плечами по степи – очень интересно и не каждому выпадает такая честь… А что с ним будет дальше, зачем и для чего ему нужно носить винтовку, об этом он не думал. Он только попросил старшину, чтобы тот разрешил ему принести отцу кумыс. Но Жол, усмотрев в этом хитрость, строго сказал:
– Никаких кумысов, возвращайся домой!
Каримгали послушно побрел вслед за всадниками к своей землянке. Только теперь, глядя на голосившую и причитавшую мать, он начал сознавать, какое горе принес в дом, но что делать? Он молчал, слова матери болью отдавались в сердце.
Жубай, не переставая голосить, побежала в землянку, куда вошел старшина с Маймаковым.
– Дорогой бий кайным! – упала она к ногам Жола. – Что же это вы делаете с нами? Забираете на службу единственную нашу надежду и опору! Батыр-ау, что же это такое?.. – метнулась она к постели мужа.
Каипкожа, совершенно ослабевший после игры на сыбызге, сидел неподвижно, склонив на грудь голову. Худой, иссушенный болезнью, он походил скорее на привидение, чем на живого человека. В правой руке он держал сыбызгу. Недавно светившиеся огоньками глаза его потускнели. Дышал он редко и глубоко, приподнимая и опуская плечи. Он не ответил на приветствие Жола, даже не поднял головы. Не взглянул он и на плакавшую возле постели жену.
– Батыр-ау, как же это? Ты молчишь? Ты совсем ослаб!.. Просила тебя, не играй, не бери в руки эту проклятую сыбызгу – не послушался! Приляг на подушку, отдохни, – Жубай помогла мужу лечь. – Может, шалапа выпьешь? У тебя побледнели губы!..
Губы Каипкожи были безжизненно бледными, а лицо – как выгоревшая на солнце и полинявшая от дождей тряпка.
Силясь что-то сказать, больной приоткрыл глаза и беззвучно зашевелил губами. Жубай, придерживая его голову рукой, поднесла ко рту чашку с шалапом. Каипкожа отпил несколько глотков и сделал знак рукой, что больше не хочет.
– Полежи, полежи, отдохни, – ласково проговорила старуха.
– Кайкан, мы приехали к тебе по срочному делу, – сказал старшина. Он хотел поскорее закончить разговор и уйти из землянки – ему было неприятно смотреть на больного старика.
Но Каипкожа и на этот раз не пошевельнулся, словно совершенно не к нему обращался старшина. Было непонятно, то ли сыбызгист в забытьи, то ли притворяется. Жол повторил:
– Кайкан, мы приехали к тебе по срочному делу. На сходе граждан седьмого аула решено отправить на службу в Кзыл-Уй двенадцать джигитов. Среди других имен люди назвали имя Каримгали, сына Каипкожи, то есть вашего старшего сына. Список составлен, и об этом уже сообщено в канцелярию волостного управления. Выполняя волю схода, мы и приехали собирать джигитов… Как видите, мы не жалеем ни себя, ни своих коней, заботясь о народе. Мы намерены сейчас же собрать и отправить вашего сына в Кзыл-Уй. Благослови его, старик, и проси аллаха, чтобы твой сын дослужился до больших чинов!
Но даже и после этих слов старшины Каипкожа продолжал лежать неподвижно и смотреть мутными глазами в серую стену. Старшина, как человек, честно выполняющий свои служебные обязанности, посчитал своим долгом в третий раз повторить сказанное; он уже намеревался начать говорить, но Жубай перебила его:
– Дорогой бий кайным, отведи от нас несчастье, оставь нашего Каримгали дома. Муж болен, сам видишь, кто же за хозяйством будет присматривать? Ты сам знаешь, младший сын батрачит у чужих людей – пасет овец хаджи Шугула. Не трогай нашего Каримгали, аллах исполнит твои желания, дорогой бий кайным!..
Но ни старшина Жол, ни рыжий Маймаков не обратили внимания на плачущую старуху.
Во время разговора в сенцы незаметно вошел Каримгали. Он робко остановился у дверей. Заметив его, старшина сказал:
– Каримгали, лошадь я тебе достану в другом ауле, а сейчас пойдешь с нами пешком. Ну, собирайся!
Каримгали смотрел то на отца, то на старшину и в нерешительности топтался на месте.
– Старшина, если будешь так уговаривать каждого, то сегодня ни одного джигита не отправишь в Кзыл-Уй. Этот тупоголовый лоботряс отстанет от нас да еще заблудится где-нибудь, ищи его потом! Пусть садится на свою кобылу и едет с нами!.. – грубо сказал Маймаков.
Жол сразу же согласился.
– Правильно! Как я не подумал об этом раньше?.. Каримгали, садись на свою кобылу. В верхнем ауле я достану тебе хорошего коня, а кобылу отправим обратно домой. Чего стоишь, собирайся быстрее!
– Это жестоко! Разве можно забирать сына, когда отец лежит при смерти?.. – снова запричитала Жубай.
Но рыжий жандарм резко оборвал ее:
– Эй, старуха, никто не сожрет твоего сына, замолчи! А налог они уплатили? – обратился он к Жолу.
– Налог?! – переспросил старшина.
– Да, налог!.. Если не уплатили, пусть завтра же заплатят. Мы вернемся сюда! А сейчас поехали. Эй, балбес, седлай лошадь, кому я говорю!
Каримгали вздрогнул. Окрик рыжего жандарма напугал его.
– Седла нет, – робко проговорил он.
– Без седла поедешь… выходи!..
Пропустив вперед Каримгали, старшина и жандарм вышли из землянки.
Жубай отчаянно закричала и кинулась вслед за ними, позабыв о больном муже. Душераздирающий крик жены словно разбудил Каипкожу. Он поднял голову и бессмысленным взглядом стал смотреть вокруг себя – в сенцах уже никого не было. Он стал рукой шарить по одеялу, нащупал сыбызгу, зажал ее в ладони и успокоился. Теперь он смотрел в потолок, низкий и закопченный, где на кривой балке, согнутой под тяжестью крыши, ютилось гнездо ласточки. Он смотрел в потолок, но не видел ни гнезда, ни ласточки, всегда радовавшей его своим чириканьем, – зрачки все расширялись и расширялись, а потолок медленно чернел и наваливался на него. Словно откуда-то из-под земли, слышались вопли старухи. Она проклинала старшину и жандармов:
– Пусть обнищает твоя семья! Пусть аллах заставит тебя плакать так же, как плачу я! О Жол! Пусть на твоей дороге вырастут колючки!..
Слышал причитания матери и Каримгали, уезжавший из дома надолго, а может быть, и навсегда. Тревога и грусть сдавливали грудь, ему хотелось плакать. Жандармы подгоняли коней. Жол натянул на уши шапку.








