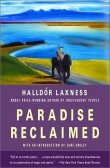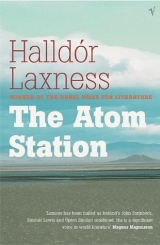
Текст книги "Атомная база"
Автор книги: Халлдор Лакснесс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Однажды на ступеньке какого-то дома я вижу женщину. Она держится руками за окровавленную голову и громко рыдает в ночной тишине. Раскрытая сумка валяется на тротуаре, будто кто-то швырнул ее; зеркальце, губная помада, носовой платок, пудреница и деньги разбросаны вокруг. Из дома доносится пение. Я подхожу к женщине, чтобы спросить, что случилось. И узнаю Клеопатру.
– Это ты, возрожденный Скарпхедин? Вот уж не думала, что это ты сидишь здесь и хнычешь.
– Да, это я.
– Что с тобой случилось?
– Они избили меня и выгнали.
– Кто?
– Конечно, исландцы, проклятые исландцы.
– Почему же?
– Они не хотели платить. Сначала заманили меня. А потом отказались платить. Убила бы этих проклятых исландцев, by golly.[36]36
Ей-богу (англ. разг.).
[Закрыть]
– Но это же наши земляки.
– Наплевать. Они не хотят платить. Бьют, выбрасывают людей на улицу, а сами жуют табак.
– Может, позвать врача, Патра, или заявить в полицию? Или хочешь, я отведу тебя домой?..
– Нет, нет, нет! Никакого врача и никакой полиции! И не нужно отводить меня домой.
– Домой, к нашему органисту.
– У меня нет дома, и меньше всего я хочу идти к органисту, хотя я четыре года ночевала у его матери, потому что он святой человек. Все было о'кей, пока были американцы. А теперь их осталось мало, и у каждого есть своя постоянная подружка. И мне приходится опять, как в молодости, гулять с исландцами, которые жуют табак, бьют и не хотят платить. О мои дорогие американцы! Боже, сделай так, чтобы они поскорее вернулись с атомной бомбой.
– Помилуй тебя бог, Клеопатра! Скарпхедин ни за что бы так не сказал, даже когда сжигали Ньяля и когда Топор Риммугигур рассекал ему голову.
– Если уж мне нельзя даже быть sorry,[37]37
Грустная, печальная (англ.).
[Закрыть] тогда проваливай…
Из носу у нее течет кровь, глаз подбит, от нее слегка попахивает водкой, но она почти трезва; очевидно, от побоев хмель прошел. Я собираю ее вещи в сумку, даю ей платок, чтобы вытереть кровь с лица – он сразу же намокает, – убедившись таким образом, что кровь и слезы Клеопатры имеют такой же химический состав, как и у всех других девушек, я, поколебавшись немного, предлагаю ей пойти ко мне ночевать, и она призывает на меня благословение бога-отца и сына и не знаю, чье еще. Как правило, люди с подмоченной репутацией чрезвычайно религиозны. Она встает, вынимает губную помаду и зеркальце и при свете фонаря красит губы. В ночном, полном зла мире это действие производит на меня впечатление поступка большой моральной силы. И мне становится стыдно, что я такое ничтожество.
Она жалеет, что была так непредусмотрительна при американцах и не позаботилась о приличном жилье для себя. Так глупо было надеяться на то, что война будет продолжаться вечно. Когда они устраивали party[38]38
Вечеринки (англ.).
[Закрыть] в своих чудных бараках с cosy[39]39
Уютный (англ.).
[Закрыть] уголками и fancy[40]40
Волшебный (англ.).
[Закрыть] освещением – вот это была жизнь! Да!
Она начала с липового полковника где-то между Хафнарфьордом и Рейкьявиком, а кончила настоящим полковником с седыми волосами и диабетом. Она была на вечере у янки вместе с премьером – американцы ведь либералы, потому что у них есть атомная бомба и они не делают различия между премьер-министром и уличной девкой.
Полковник подарил ей красное пальто, белые ботинки и шляпу с большими полями, в которой трудно пролезть в дверь. А денег было больше, чем дерьма. Вот! Gosh.[41]41
Выражение изумления (англ.).
[Закрыть] Он обещал взять ее к себе, когда умрет жена. А теперь он умер сам, он не вынес мира, а может, его убила жена, потому что она была молодая. И Клеопатра снова начала плакать; она была потрясена горем, биологически совершенно законным и психологически таким же оправданным, как любое другое горе. И мне стало искренне жаль ее.
– Вот так теряешь все и умираешь. И все равно нужно жить, когда ты уже умерла. Разве это не ужасно, что меня любил colonel,[42]42
Полковник (англ.).
[Закрыть] а теперь бьют люди, которые жуют табак.
Она была в том возрасте, когда химические изменения в организме женщины начинают приносить ей разочарования в жизни; она давно устала от ночных похождений юности, неизведанные приключепия больше не манили ее, исчезла наивная вера в то, что ее ожидает что-то новое, прекрасное, осталось только рабское существование и борьба за кусок хлеба. Ей, по правде говоря, надоела погоня за мужчинами со всех концов света, с Севера и Юга; ей, как всякой женщине, которой перевалило за тридцать, хотелось вести нормальную жизнь, не кочевать больше с места на место. Она сказала, что ей так хочется иметь свой угол, а не обременять всю жизнь святого человека, который называет ее Клеопатрой, а то еще Скарпхедином.
– Ведь меня никогда не звали Клеопатрой, я Гудрун, Гунна.
Я спросила, не хотела бы она выйти замуж, но она не могла даже найти достаточно сильные слова, чтобы выразить свое возмущение таким непристойным предложением, и только сказала: «Вот еще!» Зато, когда мы легли в постель и потушили свет, она поведала мне, как она представляет себе нормальную жизнь. Ее мечта – это квартирка из двух комнат – гостиной и спальни, с мебелью в стиле ренессанс, кухней и канализацией и три постоянных любовника: женатый торговец со средствами, приближающийся к серебряной свадьбе, моряк, который только иногда бывает на суше, и культурный молодой человек, обрученный с молодой девушкой.
Мы подробно обсудили эту идею, и нам захотелось спать. Мы замолчали, но, когда я уже подумала, что Клеопатра спит, она вдруг предложила:
– А мы не прочтем «Отче наш»?
– Читай за нас обеих.
Она прочла «Отче наш», мы пожелали друг другу спокойной ночи и заснули.
Глава восемнадцатая
Гражданин на задворкахХотя современные писатели и утверждают, что детей качать вредно, все же я начала просматривать в газетах объявления о продаже колыбелек. Городской муниципалитет отклонил предложение коммунистов об устройстве яслей. Одна «мать семейства» написала в газете, что создавать на общественные средства подобные учреждения – значит содействовать распущенности, ибо настоящие ясли находятся в истинно христианских семьях, поддерживающих добрые обычаи. А почему ясли должны быть только для истинных христиан и людей с добрыми обычаями? Почему не должно быть яслей для детей истинных нехристиан с дурными обычаями, подобных мне?
Общество, в котором мы живем, принадлежит этим истинным христианам с добрыми обычаями, и его главная забота – воспитывать детей богатых и убивать детей бедняков, как сказал коммунист, знакомый девушки из булочной. Несколько поколений назад богачи были так сильны – хотя они тогда еще были вшивыми, – что добрая половина исландских детей погибла. Если бы простой народ не создал своих организаций, дети бедняков продолжали бы умирать. А если бы мы не укрепляли их, богатые боролись бы против бедных старыми средствами: во имя Иисуса Христа избивали бы их розгами и топили, как в прежние времена. Борьба против яслей для бедных матерей достаточно характеризует богачей; разница по сравнению со старыми временами только в том, что теперь богачи избавились от вшей.
Я спросила девушку в булочной:
– Что бы ты делала, будь у тебя ребенок?
Улыбка исчезла с ее лица, зрачки расширились, и она вопросительно посмотрела на своего друга-коммуниста.
– Расскажи ей, – кивнул он.
Какая-то женщина купила черного хлеба, девочка – пирожное, и булочная опустела.
– Пойдем, – сказала девушка и провела меня через заднюю дверь в крошечный чулан, который одновременно был складом и умывальной. Дверь оттуда вела во двор.
Небо было затянуто черными тучами. Лил проливной дождь, бушевал ветер. В луже у двери стояла детская коляска с поднятым верхом, покрытая мешковиной для защиты от дождя. Девушка подняла мешковину и, улыбаясь, заглянула в коляску.
Ребенок не спал, его большие глаза были открыты. Увидев мать, он заплакал, заворочался и изо всех сил потянул себя за палец.
– Солнышко мое! – сказала мать и, увлеченная сыном, на минутку забыла о работе и о черных дождевых тучах.
– Какие у него умные глаза! – сказала я. – Вот из кого получится настоящий гражданин Исландии.
– Если его здесь обнаружат, меня уволят.
А в булочной нетерпеливый покупатель стучал по прилавку.
Все теории мира и еще кое-чтоДоктор Буи Аурланд вошел, улыбаясь, с мокрым от дождя лицом, снял пальто и сообщил, что у него хорошие новости.
Я ждала.
– Думаю, могу с уверенностью сказать, что мне наконец удалось выцарапать из альтинга несколько тысяч крон для вашего отца на постройку церкви.
– А-а…
Он удивленно посмотрел на меня.
– Как? Вы не бросаетесь мне на шею?
– Из-за чего?
– От радости.
– За это время я узнала, что Лютер был самым невоспитанным человеком в мире, и перестала верить в бога.
– Черт возьми! – Он вытер лицо и очки. – Но почему мы не можем верить в человека, даже если он иногда читал молитвы на плохом немецком языке вместо латыни и упоминал о детородном члене осла в какой-то неясной связи с папой? Он все же был достаточно крестьянином и поэтому мог даже в эпоху Возрождения серьезно относиться к христианству, когда вся Европа уже перестала им интересоваться. Благодаря этому он спас свое церковное предприятие. Кроме того, старик Лютер, как и многие немецкие крестьяне, был музыкант.
– Я не знала, что вы сторонник Лютера.
– Я и сам этого не знал, – рассмеялся он. – Я думал, что в области христианства мне ближе всего папа, который явно ни во что не верит. В альтинге я привык поддерживать доброго Иисуса Христа главным образом потому, что я согласен с Марксом, который видит в религии опиум для народа.
– Другими словами, вы материалист?
– Как давно я не слышал этого слова в таком смысле. В экономике мы применяем его несколько иначе. Но если вы искренне спросили о моем вероисповедании, я отвечу вам так же искренне: я считаю, что w равно mc2.
– Что это за чепуха?
– Это теория Эйнштейна. Он уверяет, что масса, помноженная на скорость света в квадрате, равна энергии. Но может быть, материализм считает, что материи, как таковой, вообще не существует?
– Я не знаю ни Эйнштейна, ни его теории, – ответила я. – Но скажите, почему вы все-таки стараетесь раздобыть денег на постройку церкви в северной долине, где и людей-то почти нет?
– Когда я узнал, что ваш отец верит в божественность лошадей, я обещал самому себе сделать для него все, что смогу. Дело в том, что однажды мне было видение, как случается со святыми: мне открылось, что, не считая рыб, лошади – единственные живые существа, имеющие душу. Это потому, что у них только один палец на ноге, а один палец – это совершенство. Лошадь обладает душой, подобно божеству, или картинам некоторых художников, или прекрасной вазе.
Как легко, почти рассеянно он говорил о самых невероятных вещах с учтивой улыбкой воспитанного человека, всегда готовой перейти в зевок. Он действительно зевнул, достал сигарету и закурил. Я смотрела на него, и земля исчезала у меня из-под ног, потом исчезли ноги, и мне пришлось собрать все силы, чтобы совершенно не исчезнуть из материального мира. Я взяла себя в руки.
– Я слышала, что богатые, как и в прежние времена, хотят обречь незаконнорожденных детей на голод и смерть и собираются принять закон о том, чтобы сечь их отцов и топить их матерей, если те будут поддерживать свои народные организации. Верно это?
– Да. – Он любезно улыбнулся. – Все во имя добродетели! Таков наш предвыборный лозунг, дорогая. Наши жены хотят иметь законнорожденных детей, во всяком случае на бумаге. И предпочитают не иметь конкуренток. Ясли – это покушение на сословие жен.
– Мне очень хочется задать вам вопрос.
– Я хотел бы суметь ответить на все ваши вопросы.
– Можете ли вы спокойно жить в богатстве, когда грудной ребенок в дождь и бурю должен находиться во дворе под открытым небом?
– Это вопрос трудный. – Он почесал за ухом. – Думаю, что я не смогу на него ответить, во всяком случае, сначала мне нужно посмотреть, что это за двор.
– Почему альтинг и городской муниципалитет не хотят, чтобы мои дети воспитывались в яслях? Чем мои дети химически и физиологически хуже ваших? Почему у нас не может быть такого общества, которое одинаково заботилось бы о моих и о ваших детях?
Он подошел ко мне, положил руку на голову и спросил:
– Что случилось с нашей горной совой?
– Ничего. – Я отодвинулась.
– Нет, что-то случилось. Ваши мысли никак не могут вырваться из какого-то замкнутого круга. Что с вами? Отчего вам с каждым днем становится все хуже и хуже?
– Я хочу уехать, – простонала я.
– Куда и когда?
– Сегодня же.
– Сегодня вечером? В такую погоду?
– Вы голосовали против меня, и мне негде приклонить голову. – И я рассказала ему обо всем.
Он перестал улыбаться и замолчал. Потом спросил:
– Вы любите этого человека?
– Нет… да… не знаю…
– А он вас?
– Я его об этом не спрашивала.
– Вы хотите пожениться?
На такой нелепый вопрос я могла только отрицательно покачать головой.
– Он беден? Могу я что-нибудь для вас сделать?
Я повернулась, посмотрела на него и сказала:
– Вы теперь знаете даже больше, чем он, и мне нечего к этому прибавить.
– Я больше ни о чем не могу спросить вас?
– Я даже не знаю, кто этот человек, так что спрашивать бесполезно. Я незамужняя мать, вот и все. Вы голосовали против меня. Если бы у меня не было моих бедных стариков родителей, мой ребенок родился бы бездомным, а такого ребенка – как говорится в сагах – нельзя переправлять через реку, нельзя кормить, нельзя о нем заботиться.
Он посмотрел на меня вопросительно, почти со страхом, как будто увидел приближение опасности, которую давно ожидал, и машинально повторил:
– Я голосовал против вас? – И он закусил ноготь большого пальца. Но когда я хотела уйти, он пошел за мной: – Не волнуйтесь, вы получите от меня деньги, дом, ясли – все, что вам нужно.
– Вы публично голосуете против того, чтобы я и мне подобные назывались людьми, и хотите сделать меня нищенкой, тайком берущей у вас милостыню.
– Почему тайком? Ведь это не наша с вами тайна.
– Я уеду, рожу дома ребенка и буду воспитывать его на свои средства. Я предпочту все, что угодно, только не брать деньги у мужчины.
Не успела я подняться в свою комнату, как он вошел следом за мной. Он открыл дверь, даже не постучав. Минуту назад у него было напряженное выражение лица, может быть, он собирался всерьез отстаивать передо мной свои принципы, а теперь взгляд его стал искренним, и это делало его похожим на ребенка.
– Насколько я знаю наших красных друзей, они скоро снова поднимут вопрос о яслях. И на этот раз он может быть решен иначе. Я поговорю с шурином и другими влиятельными лицами. Ясли будут построены.
– А если ваш шурин откажет? А сословие жен?
– Вы издеваетесь надо мной. Ну что ж. Я ведь и не пытаюсь изобразить из себя героя. И все же я обещаю, что по этому вопросу я буду выступать так, будто меня вдохновила женщина.
– Беременная прислуга, – поправила я.
– Женщина, которой я восхищаюсь с первой минуты.
– Один человек в припадке пьяной откровенности сказал мне, что я из породы тех женщин, с которыми мужчинам хочется лечь в постель в ту же минуту, как они их увидят.
Он подошел ко мне и обнял.
– Есть такие женщины, что мужчина, встретив одну из них, в ту же минуту забывает всю свою жизнь, как нечто бессмысленное. И он готов порвать все узы, связывающие его с окружающими, и пойти за этой женщиной на край света.
– Нет, я не поцелую вас, – сказала я, – если вы не обещаете никогда не давать мне денег. Я хочу сама зарабатывать свой хлеб как свободный человек.
Он поцеловал меня и что-то проговорил.
– Я знаю, что я ужасно глупо себя веду, – сказала я потом. – Но что же мне делать: вы ни на кого не похожи.
Глава девятнадцатая
Строители церквиЦерковь воздвигается в долине, скрытая с восточной стороны холмом, на котором расположился дом. С хоров виден зеленый склон. Еще прошлой осенью начали кладку стен, но на крышу денег не хватило. Стены так и простояли до весны, пока от правительства не были получены средства на постройку церкви.
Я сижу в расщелине у ручья, где запах осоки зимой сильнее, чем летом. Здесь мы в детстве играли коровьими рогами и овечьими челюстями и черпали ржавыми жестянками воду из ручья, которая была для нас то шоколадом, то мясным супом, то водкой. А позже здесь в течение трех летних ночей стояла остроконечная палатка. Я сижу и прислушиваюсь к ударам молотка и посвистыванию ржанки.
В старые времена церковный приход состоял из двенадцати дворов, некоторые говорят – из восемнадцати. Но в прошлом столетии церковь была разрушена.
А теперь здесь снова воздвигается церковь, хотя в долине осталось всего три двора, а один из них – двор Йоуна из Барда – вряд ли можно принимать в расчет. Жена Йоуна умерла, дети уехали на Юг. В доме его больше не разводится огня. Он горит только в душе Йоуна. А его религия – это скорее вера в божественность лошадей, чем в единого бога. Йоун всегда называл церковь боговой конюшней, а священника – жеребенком в этой конюшне душ. Ни я, ни кто другой не слышали от него иных благочестивых слов, кроме «Отче наш», а читал он эту молитву, как и все в нашей округе: «Отче наш, ай-яй-яй! Опять эта проклятая гнедая кобыла изгадила весь луг!» Эту молитву он читал и утром и вечером.
Другой строитель церкви, Гейри из Мидхуса, хохочет так, что кажется, из одного его смеха можно воздвигнуть собор даже на вершине Геклы.[43]43
Вулкан в Исландии.
[Закрыть] Этот отец многочисленного семейства, наш сосед, один из двух почтенных крестьян долины, само олицетворение непоколебимой верности своим убеждениям, которые нельзя опровергнуть ни аргументами теологии, ни философии, ни экономики, ни даже аргументами желудка, всегда более убедительными, чем аргументы разума, в особенности если говорят желудки наших детей. Этот человек сказал, что, пока жив, он никуда из долины не уйдет. Он смеялся, даже когда ему вручали пособие по бедности. Он заявил, что если ему придется хоронить некрещеных детей, то пусть это будет у той разрушенной церкви, где когда-то крестили самого знаменитого человека Исландии – Любимца народа. Он мечтал о том, чтобы лечь в удобную сухую могилу на возвышенности и потом восстать из нее вместе со скальдами и древними героями, а не мучиться в скучных сырых могилах внизу, в поселке, среди простых крестьян и несчастных рыбаков.
Строители церкви большую часть дня беседовали о героях саг.
Йоун из Барда был почитателем героев, похороненных на вересковой пустоши или на голых шхерах. Он восхищался не их искусством слагать стихи, а способностью бороться в одиночку против многих. Ему было безразлично, кто прав, кто виноват. Он говорил, что большей частью герои вначале бывали неправы и становились они героями не в силу благородства своих побуждений, а потому, что никогда не сдавались, даже если их живыми резали на куски. Из героев, которые жили изгнанниками в пустыне, он больше всех любил силача Греттира по причинам, перечисленным в конце саги, – потому что Греттир жил в пустыне дольше всех, лучше всех мог бороться с призраками и за его смерть мстили больше, чем за смерть какого-либо другого героя, в том числе и в очень далеких от Исландии странах и даже в величайшем городе мира Миклагарде.[44]44
Древнескандинавское название Константинополя.
[Закрыть]
Герои моего отца были более человечны; для того чтобы пользоваться его полным доверием, они должны были быть родоначальниками, но прежде всего скальдами. Горы и скалистые острова мало подходили для жительства его героев. Этот очень честный человек, никогда никого не обманувший ни на один эйрир, не находил ничего предосудительного в том, что его герои отправлялись на кораблях, украшенных головами драконов с раскрытыми пастями, к берегам Шотландии, Англии, Эстонии и других стран, чтобы убивать ни в чем не повинных людей и присваивать себе их богатство. Этот добрый крестьянин из долины не видел ничего постыдного в том, что его герои плевали людям в лицо, перегрызали им глотки или, вместо того чтобы поздороваться, сняв шляпу, мимоходом выдавливали им глаза. А женщина в сагах не становилась в его глазах менее благородной, даже если она вырезала язык бедному слуге за то, что он что-нибудь съел с ее тарелки. Я думаю, что нет такого события в саге об Эгиле Скаллагримссоне,[45]45
Эгиль Скаллагримссон (X в.) – исландский герой, известный скальд; ему посвящена сага об Эгиле.
[Закрыть] которое не интересовало бы отца больше и не было бы ему ближе, чем события, происходившие теперь в стране, и вряд ли была такая строфа, написанная Эгилем, которой бы он не знал наизусть.
– Моим героем всегда был и будет Торгейр Хауварссон, – говорил Гейри из Мидхуса. – А почему? Потому, что из всех героев саг у него было самое маленькое сердце. Когда у него вырезали это сердце, не испытавшее страха даже в Гренландии, то оказалось, что оно не больше воробьиного зоба. – И крестьянин смеялся своим густым смехом, из которого можно было бы воздвигнуть собор.
Наш добрый пастор Тройсти не почитал за труд проехать пять часов верхом, чтобы понюхать щепотку табаку и вбить несколько гвоздей в стены церкви вместе с этими веселыми прихожанами.
И вот леса сняты. Из громадного окна над алтарем, выходившего на восточную сторону, виден склон горы. Весь этот день пастор ходил с таинственным видом. Наконец, когда сели пить кофе, он высказался:
– На наших глазах произошло величайшее в мировой истории событие, и, как большинство великих событий, оно осталось незамеченным.
Мы ничего не поняли.
– Я не знаю, сколько церквей построено в мире с тех пор, как существует христианство, – продолжал пастор. – Но впервые в мировой истории человек осмелился сделать в церкви окно над алтарем. Раньше такого строителя сварили бы заживо.
Лицо Гейри из Мидхуса засияло, и он громко захохотал, думая, что пастор, как обычно, острит.
– Не будь здесь окна, – сказал Йоун из Барда, – мы бы не видели всей этой красоты.
– Как красив косогор,[46]46
Цитата из саги о Ньяле.
[Закрыть] – промолвил отец.
– Косогор красив, – повторил пастор. – Эти слова говорят об язычестве наших древних саг. Христианство мешает видеть красоту природы. Церковь, во всяком случае во время мессы, скрывает природу от человека. В старых церквах в окнах были цветные стекла. А над алтарем во всех церквах мира, даже лютеранских, за исключением нашей, висит изображение, уводящее мысли человека от ослепительно великолепных творений природы к святым тайнам.
– Зачем вам церковь? – спросила я. – Во что вы верите?
Пастор подошел ко мне, похлопал по щеке и сказал:
– Мы верим в страну, данную нам богом, в деревни, где наш народ живет уже тысячу лет. Мы верим в священную миссию деревни в жизни исландского народа, мы верим в животворность зеленых склонов.