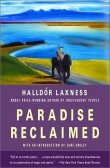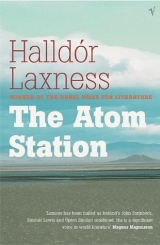
Текст книги "Атомная база"
Автор книги: Халлдор Лакснесс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Любезные американцы являются, когда время близится к полуночи. Теперь они уже не оставляют верхнюю одежду в передней, а проходят прямо в кабинет хозяина. Они все так же хлопают меня по спине и угощают сигаретами и жевательной резинкой. У хозяина они обычно долго не засиживаются. И каждый раз после их ухода появляются премьер-министр, министры, уполномоченный по борьбе с чумой среди овец, несколько депутатов альтинга, оптовые торговцы и судьи, седой, всегда печальный господин – издатель газеты, убеждающей нас, что необходимо продать свою страну, епископы, владельцы заводов сельдяного масла. Собрания затягиваются далеко за полночь; гости тихо беседуют и расходятся сравнительно трезвыми.
Но на следующий день после таинственных ночных посещений высокопоставленных лиц в этой части улицы в другой ее части всегда происходят открытые собрания лиц гораздо менее высокопоставленных. Очевидно, это как-то взаимосвязано. Народ хочет говорить с премьер-министром. Люди стремятся прочесть премьер-министру петицию или вручить ему письма, в которых его умоляют не продавать страну, не лишать ее суверенитета, не позволять иностранцам строить здесь атомную базу для использования ее в атомной войне. Приходят представители союзов молодежи, студентов, школ, союза подметальщиков улиц, женских союзов, союза конторских служащих, союза художников, общества коневодов. Во имя бога-творца, давшего нам во владение нашу страну, страну, которую мы никогда ни у кого не отнимали, – не продавайте дарованную нам богом страну, нашу родину. Мы просим вас об этом, ваше превосходительство.
В городе было тревожно, люди, объятые страхом, бросали среди бела дня работу, собирались группами и пели национальный гимн. Даже те, от кого этого никак уж нельзя было ожидать, карабкались на всякие возвышения и выступали с речами, где говорилось все об одном.
Облагайте нас бесчисленными налогами, пусть ваши акционерные общества хоть на тысячи процентов увеличивают цены на импортные товары, которые мы у вас покупаем, закупите по двое кусачек и по десять наковален на каждого жителя, закупите португальских сардин на всю валюту, снижайте стоимость кроны, как вам угодно – вам и так уж удалось ее обесценить, – мы согласны голодать, мы согласны остаться без крова, ведь наши предки жили не в домах, а в землянках и все-таки были людьми. Мы согласны на все, на все, на все, кроме одного, одного-единственного: не продавайте страну, за независимость которой мы боролись семьсот лет. Мы заклинаем вас, ваше превосходительство, всем святым для народа – не превращайте нашу молодую республику[24]24
Исландия была провозглашена республикой 17 июня 1944 года.
[Закрыть] в придаток иностранной атомной базы! Только не это, только не это!
И пока происходили такие собрания по другую сторону улицы, у нас накрепко запирались все двери и фру требовала, чтобы на окнах спускали гардины.
Однажды, когда дни стали совсем короткими, в доме разыгрался очередной акт драмы: иностранные и отечественные гости были приглашены все вместе на ужин. Мужчины во фраках собрались часов в десять вечера. Пока они приветствовали друг друга, были разнесены коктейли. На столе стояли американские сандвичи, языки, цыплята, салаты; к каждому блюду полагалось особое вино; были поданы изысканные десерты.
Ели стоя. В заключение в большой чаше зажгли пунш, появились виски и джин. Гостям подавали девушки, приглашенные из ресторана, в кухне священнодействовали высококвалифицированные кухарки. Янки ушли рано, и захмелевшие исландские бонзы запели «Это были веселые парни» и «Через холодные пески пустыни». В полночь официантки рассказывали нам в кухне, что, когда они разливали вино, мужчины щипали их. Девушек отпустили, и гости перешли на самообслуживание. Они быстро упились, и Двести тысяч кусачек начал помогать хозяину выводить из-за стола тех, кто не мог идти сам, некоторых приходилось даже выносить и погружать прямо в автомобили. Когда все кончилось, мне приказали убрать со стола, вытереть пятна, вытряхнуть пепельницы, открыть окна. В гостиной оставался только мертвецки пьяный премьер-министр, скрючившийся в кресле, и Двести тысяч кусачек – фокусник из акционерного общества «Снорри-Эдда», совершенно трезвый, потому что сам он не пил, а только спаивал премьер-министра. Хозяин уселся в кресло и стал рассматривать иностранный журнал.
– Коммунисты, – сказал премьер-министр, – проклятые коммунисты! Как говорится: я их люблю, я их и убью.
– Послушай, друг мой, – обратился к нему хозяин, оторвавшись от чтения, – не забудь, что завтра нужно рано вставать и ехать на заседание комиссии.
– И не забудьте также, что судьба нашей нации зависит от того, получит ли Исландия свои кости, – сказал Двести тысяч кусачек.
– Трусы! Посмейте только! – пробормотал премьер-министр.
– Эти кости должны сплотить вокруг нас все газеты, все партии, в том числе и коммунистов. Но в первую очередь священников, – продолжал Двести тысяч кусачек.
– Почему я хочу продать страну? – вдруг вопросил премьер-министр. – Да потому, что этого требует моя совесть. – И тут он поднял три пальца правой руки. – Что такое Исландия для исландцев? Ничто. Только Запад имеет значение для Севера. Мы живем во имя Запада, мы умираем во имя Запада. Только Запад. Малые государства – навоз. Восток должен быть уничтожен. Господствовать должен доллар.
– Друг мой, не следует думать вслух, – сказал доктор Буи Аурланд. – Здесь люди. Они могут вас не понять или, упаси боже, понять.
– Я хочу продать страну, – ревел премьер-министр, – ради этого я пойду на все. Хоть тащите меня за волосы по городу.
– Друг мой… – снова начал доктор.
– Пошел ты… – прервал его премьер-министр. – Даже если меня будут публично пороть на Ойстурвэдлур[25]25
Площадь перед зданием альтинга в Рейкьявике.
[Закрыть] и выбросят к черту из правительства, я все равно продам страну. Доллар должен победить, хотя бы для этого пришлось отдать всю Исландию.
– И даже если вся нация изменит Любимцу народа, все равно я останусь верен ему, – тянул свое Двести тысяч кусачек.
– А где же люди? – спросил премьер-министр, вдруг обнаружив, что гости ушли. Потом он швырнул стакан на пол, встал и важно выпятил грудь. Очевидно, у маленького толстого человечка это вошло в привычку, стало его второй натурой. Он был так пьян, что в нем ничего другого и не было видно, кроме этой второй натуры. Двести тысяч кусачек нахлобучил на него шляпу и помог ему выйти. Пока он шел к выходу, в комнате все раздавалось как эхо:
– Я – премьер-министр! Доллар должен господствовать.
Доктор – зять и компаньон премьер-министра по фирме «Снорри-Эдда» – проводил его и Двести тысяч кусачек до дверей. Когда они уехали, хозяин, улыбаясь, посмотрел на меня.
– Мой шурин – прекрасный человек, но, когда хватит лишнего, любит пошутить. Не следует вспоминать об этом или намекать на это, даже если мы попадем на собрание ячейки. – Он стоял, прислонившись к двери, и смотрел на меня усталым взглядом; недокуренная сигарета дымилась у него в руке. «Собрание ячейки», сказал он. Неужели ему все известно, даже это? – Он, по сути дела, – снова заговорил доктор, – очень честный человек, во всяком случае, когда пьян. В сущности, трезвые люди не бывают честными. Нельзя верить ни одному слову трезвого человека. Хотелось бы и мне напиться допьяна. – Он снял очки, тщательно протер их, снова надел и посмотрел на часы: – Ого, давно пора спать!
Но в дверях он обернулся и докончил свою мысль:
– Да, на него вполне можно положиться. Если он в чем-нибудь заверяет, будучи трезвым, и при этом клянется своей честью, можно не сомневаться, что он лжет. Если он публично трижды клянется именем своей матери, тогда можно с уверенностью сказать, что он думает прямо противоположное тому, в чем клянется. Но когда он пьян, он говорит то, что думает, даже если при этом клянется.
Я вздрогнула и спросила:
– Он в самом деле собирается продать страну?
– А разве вы не равнодушны к политике?
– Равнодушна. Но я вдруг подумала об отце, о церкви и о ручье…
– О каком ручье? – удивился он.
– О ручье…
Я хотела сказать больше, но не смогла, замолчала и отвернулась.
– Я вас не понимаю, – проговорил он.
И хотя я стояла к нему спиной, я чувствовала, что он пристально смотрит на меня.
– Гм, – сказал он, – спокойной ночи.
КлятваНарод теснится все ближе к зданию альтинга, речи становятся все более страстными. Люди до хрипоты поют национальный гимн «Исландия, опоясанная фьордами». Кричат:
– Что же альтинг не осмеливается дать ответ?
Члены альтинга сидят за закрытыми дверями и обсуждают вопрос: уступить иностранной державе Рейкьявик или какой-нибудь другой залив в стране, годный для создания атомной базы в атомной войне. И поскольку вопрос еще далеко не решен окончательно, они медлят с ответом народу, шумящему на площади. То один, то другой депутат выглядывает из окна балкона с невозмутимой улыбкой на лице, с улыбкой, которая должна выражать полную безмятежность. На самом же деле это не улыбка, а гримаса. Но вот входная дверь не выдержала напора толпы, люди сплошным потоком хлынули в здание. Тогда наконец распахивается дверь на балкон, в ней появляется маленький толстенький напыщенный человечек и становится в позу. В ожидании, пока на площади кончат петь гимн, он выпячивает грудь, поправляет галстук, поглаживает затылок, подносит два пальца к губам, откашливается.
И начинает говорить глубоким, спокойным, отеческим голосом:
– Исландцы! – Народ замолкает, обманутый спектаклем. – Исландцы! – Он снова повторяет это слово, такое простое и такое величественное. Он поднимает над головой три пальца и произносит клятву, медленно и торжественно, делая длинные паузы между словами: – Я клянусь… Клянусь… Клянусь всем… испокон веков святым для народа… Исландия не будет продана!
Глава девятая
Тяжелые времена в жизни боговОрганист и застенчивый полицейский сидят у фисгармонии, перед ними – нотный лист, неразборчиво исписанный. Они так углубились в него, что даже не заметили, как я вошла. Целых полчаса они даже и не подозревали, что я сижу рядом с ними. Они долго мучились над какой-то немелодичной пьесой, полной удивительных звуков, напоминавших мне о раннем утре в деревне, когда все кругом еще мирно спит. Потом мне показалось, что они поймали мелодию, она шла словно откуда-то издалека, ее величие открылось мне так неожиданно, что это скорее поразило, чем взволновало меня. Но как раз в тот момент, когда мое сердце забилось от предчувствия раскрывающегося предо мной нового мира, чудесного и неизведанного, лишенного привычных форм, они кончили играть и встали, возбужденные и восторженные; глаза у них блестели, будто они сами сочинили эту музыку. Они увидели меня и поздоровались.
Я начала расспрашивать их, что они играли, и органист сказал, что не уверен, можно ли доверить мне величайшую тайну: имя нового гения. Если я глупа, то от такого сообщения не потеряю почвы под ногами. Если же я не глупа, то послушаюсь призыва нового учителя, обращенного к каждому, призыва покинуть мир, в котором мы живем, и создать новый мир для еще не рожденных. Но когда органист увидел, как я огорчена тем, что он мне не доверяет, ему стало меня жаль, он похлопал меня по щеке, поцеловал в лоб и просил не обращать внимания на его шутки.
– Концерт для скрипки Роберто Герхарда, – объяснил он. – Этот испанский парень учился в Кембридже и не получил никакого музыкального образования. Если род Эстергази еще не угас, Роберто здорово достанется. Но будем все же надеяться, что его похоронят не с большей пышностью, чем Моцарта.
Органист пошел на кухню, чтобы сварить кофе, а застенчивый полицейский посмотрел на меня испытующим взглядом: поняла ли я что-нибудь.
– Жить и без того становится все трудней и трудней, – сказал он. – А теперь еще это…
В эту минуту вошли Боги – Бриллиантин, со сверлящим, пылающим взором убийцы, и Беньямин, как бы летящий в пессимистическом трансе сквозь космическое пространство. Органист встретил их, как всегда, любезно, спросил, какие новости в царстве богов и в высших сферах, и предложил им кофе.
Оба Бога были расстроены, у них оказались самые дурные новости: Двести тысяч кусачек выгнал их. Он нашел себе этого мерзкого типа Оули, который говорит, что надо выкапывать кости. И во всех газетах было напечатано, что они установили связь с Любимцем народа.
– Ну и пусть их выкапывают! – сказал органист, а застенчивый полицейский спросил:
– А где «кадиллак»?
– Он украл наш «кадиллак», – ответил Атомный скальд. – А я отомстил ему тем, что разбил клавиатуру его пианино. От злости мне временами хочется реветь, мычать, как корова. Я, пожалуй, наложу на себя руки.
– Я уверен, что ты не совершишь такого непристойного поступка, мой друг, – сказал органист. – Самоубийство – это самоосквернение в квадрате. Ведь ты же бог! Нет, ты шутишь над нами.
– Я просмотрел все фотографии Бухенвальда, – продолжал Беньямин. – Нельзя больше оставаться поэтом. Чувства молчат. Разве можно управлять ими после того, как наглядишься на этих истощенных людей, на эти скелеты, на эти мертвые оскаленные рты! Любовным играм форелей, красным розам пустоши, «Любви поэта» – всему этому конец. Тристан и Изольда умерли. Они умерли в Бухенвальде. Соловей потерял голос, потому что мы лишились слуха. Наш слух умер в Бухенвальде. Мне остается только самоубийство – онанизм в квадрате.
– Но можно ведь убивать других, – заметил Бог Бриллиантин.
– Да, если у тебя есть атомная бомба. Это просто возмутительно, неприлично, что такая божественная личность, как я, Беньямин, не владеет атомной бомбой, когда она есть у какого-то Дюпона.
– Я посоветую тебе, как быть, – улыбнулся органист и поставил перед ним тарелку с черствой булочкой и несколькими раскрошенными сухарями. – Сочини балладу о Дюпоне – обладателе атомной бомбы.
– Я не знаю, что мне следует предпринять, – сказал Бриллиантин. – Я разведусь с женой и начну делать карьеру. Я стану политическим лидером, сделаюсь министром и тоже буду произносить клятвы. И получу орден.
– Вы оба деградируете, – вздохнул органист. – Когда я с вами познакомился, вы довольствовались тем, что были богами.
– А почему нам нельзя немного выбиться в люди? – спросил Бог. – Почему мы не можем получить орден?
– Мелкие жулики никогда не получают орденов, – ответил органист. – Ордена дают только лакеям важных персон. Для того чтобы стать политическим лидером, нужно иметь покровителя-миллионера. А вы упустили своего миллионера. Мелкие жулики не становятся министрами. Быть мелким жуликом – самое большое унижение, какое только может постигнуть бога, это то же самое, что родиться в хлеву: им не сочувствуют, их имена даже не публикуют в газетах. Отправляйтесь в Швецию за миллионерами, предложите им исландские воды, поезжайте в Америку и продайте американцам родину – тогда вы станете министрами и получите ордена.
– Я готов в любую минуту предложить шведам исландские воды и продать страну Америке, – сказал Бог Бриллиантин.
– Да, но это тебе не поможет, если у тебя нет своего миллионера.
– Значит, ты считаешь, что мне не нужно разводиться с женой?
– Стоит ли разводиться с женой, если она этого не хочет? – спросил органист.
– Мы, во всяком случае, можем укоротить этого мерзкого Оули на целую голову, – заявил Бог.
– Да, конечно, – отозвался органист. – Пожалуйста, возьми сухарь.
– Он с Рейкьянеса, – сказал Бог, – и умеет впадать в транс. А мы непосредственно связаны с богом. Если я, например, открываю Библию, то я ее понимаю. Можно мне взять близнецам два кусочка плюшки? Они очень любят облизывать плюшки.
– Ты величайший лютеранин современности, – объявил органист, – и истинный отец семейства, подобно самому Лютеру.
– А я подожду, когда ко мне вернется вдохновение, – отозвался Атомный скальд. – Я никогда не высиживаю свои стихи. И если я совершу самоубийство, что, может быть, явится прекраснейшей поэмой мира, то я сделаю это потому, что на меня снизойдет вдохновение.
– Ты величайший романтический поэт современности, – так же любезно подтвердил органист.
– У мерзкого Оули течет из носу, – сердито сказал Атомный скальд. – А он заявляет, что у него бессмертная душа! Разве не возмутительно, что этот гад с Рейкьянеса будет разъезжать в моем «кадиллаке».
– А может быть, у него и нет бессмертной души? – проговорил органист.
Оба Бога подтверждали это самым решительным образом.
– Тогда, по-моему, не следует укорачивать его на голову, – посоветовал органист. – Я бы подумал, прежде чем убивать человека, не имеющего бессмертной души. А человека с бессмертной душой убивать бессмысленно по той простой причине, что душа его все равно бессмертна. Ты его убиваешь, а душа живет. А теперь прошу извинить меня. Я не могу больше беседовать о теологии, мне нужно нарвать цветов этой молодой, прекрасной крестьянской девушке, которую я считаю своим другом.
КлючиНи в саге о Ньяле, ни в саге о Греттире, ни в саге об Эгиле ничего не говорится о душе, а это ведь три главные саги. В «Эдде»[26]26
«Эдда», или «Старшая Эдда», – крупнейший памятник скандинавской народной поэзии средних веков (X–XII вв.), представляющий собой собрание мифологических и героических песен.
[Закрыть] об этом тоже ничего не сказано. Ничто так не сердит моего отца, как разговор о душе. Он считает, что мы должны жить так, будто никакой души не существует.
В детстве нам не разрешали громко смеяться: это считалось неприличным. Правда, мы должны были всегда быть веселыми. Но веселость, переходившая границы, была уже злом. Ведь даже пословица говорит: осторожно входи в двери радости. Мой отец неизменно пребывал в хорошем расположении духа, с его лица не сходила ясная, добрая улыбка. Но когда он слышал слишком уж веселую шутку, он морщился, как будто рядом точили ножи. Он сразу умолкал, взгляд его становился отсутствующим. И как бы глубоко его что-нибудь ни огорчало – даже если зимой на пастбищах замерзали лошади, – он и виду не показывал. Моя мать всегда была ровной, невозмутимой, терпеливой и никогда не падала духом. Когда приключалось что-нибудь с коровой, она не роптала. Мы тоже никогда не плакали, даже если сильно ушибались, – плакать было запрещено. Слезы впервые я увидела в школе домоводства. Одна девушка расплакалась, оттого что у нее пригорела каша, вторая плакала над стихами, третья испугалась мыши. Сначала я думала, что они притворяются, но они действительно плакали. И тогда мне стало стыдно, как бывает стыдно за людей, у которых вдруг свалились штаны. Отец и мать никогда не говорили нам о своих заботах или о чувствах. Разговаривать об этом было не принято. Можно рассуждать о жизни вообще, но о своей – лишь постольку, поскольку это касается других; можно без конца толковать о погоде, о скотине и даже о природе, но лишь постольку, поскольку она интересует крестьян, – так, можно, например, говорить о засухе, но не о красоте солнечных лучей; можно пересказывать саги, но нельзя подвергать их сомнению, можно без конца обсуждать родословные, но не следует изливать перед людьми свою душу. В «Эдде» сказано, что только сердце знает, что в нем живет.
Если то, что случилось, касается тебя одной, только тебя, то рассказ перестает быть рассказом и ты не должна об этом говорить. А тем более писать. Так меня воспитали, такова я, и тут уж ничего не поделаешь.
Поэтому я не хочу объяснять, как и почему все произошло. Я могу только рассказывать о событиях до тех пор, пока это не перестанет быть рассказом.
Я знала, что он, как и в прошлый раз, ждет меня в кухне. Не прислушиваясь, я чувствовала через стену, что он там, знала, что мы выйдем отсюда вместе. Мой урок кончился, я надела пальто, попрощалась с органистом и, как всегда, получила цветы. Тот, за стеной, тоже встал; мы вышли вместе. Все было, как в прошлый раз, только теперь он все время молчал. Он шел рядом со мной, не произнося ни слова.
– Скажи что-нибудь.
– Зачем? Я провожаю тебя потому, что ты с Севера. Потом мы расстанемся.
– Что ж, молчи, если хочешь. Мне правится слушать, как ты молчишь, – сказала я.
Не успела я опомниться, как он резко притянул меня к себе и взял под руку. Он держал меня крепко, может быть, даже слишком крепко, но совершенно спокойно, и молчал. Его рука касалась моей груди.
– Ты, видно, привыкла ходить с мужчинами?
– С теми, кто чувствует призвание, нет.
Мы шли и шли, пока он вдруг не выпалил:
– Ты косишь на один глаз.
– Скажешь тоже!
– Честное слово. Ты косая.
– Хорошо хоть, что не одноглазая.
– Да, ей-богу. Если внимательно присмотреться, ты косишь. Иногда я сомневаюсь, а иногда я уверен в том, что ты косая. Ну просто ужасно, как ты косишь.
– Только когда я устану. Правда, у меня глаза широко поставлены, как у совы, ведь меня и зовут совой.
– Никогда в жизни не видел, чтобы человек так косил. Что же теперь делать?
Он говорил как будто мрачно, но в голосе его была такая теплота, что во мне что-то шевельнулось.
И все-таки я была спокойна, разницу между ним и тем, другим, я чувствовала по своим коленям. Когда мы подошли к двери моего дома, я открыла сумку, но оказалось, что ключей нет. Нет и все тут. Час ночи. У меня были ключи от парадного и черного хода, и я, уходя, никогда не забывала брать их с собой: ведь иначе я не попаду в дом. Ключи всегда лежали в сумке. А тут я забыла их, или, может быть, потеряла, или они, лишившись своего материального образа, каким-то чудом или колдовством превратились в ничто. Я перерыла всю сумку, вывернула наизнанку подкладку, на случай если ключи завалились туда, но все было напрасно. Я не могла войти в дом.
– А ты не можешь постучать?
– Постучать? Что ты! Лучше уж я всю ночь простою на улице, чем заставлю таких людей открывать мне.
– У меня есть отмычка. Правда, я не думаю, чтобы ею можно было открыть этот замок.
– Ты сошел с ума! Ты что же, решил, что я соглашусь войти в этот дом с помощью отмычки? Нет уж, лучше я подожду. Вдруг кто-нибудь из домашних еще не вернулся, тогда он и меня впустит.
Он посмотрел на меня.
– Видно, тебе здесь живется несладко. То ты говоришь одно, а то прямо противоположное. По-моему, лучше всего будет, если ты пойдешь со мной.
Так это произошло. Я ушла от него только на рассвете. Надевая пальто, я сунула руку в карман – ключи, конечно, лежали там.
У него ничего не было, кроме чемодана. Кровать, стол и стул принадлежали хозяйке. Пианино он брал напрокат; он намного опередил меня в музыке и потому уже играл на пианино, я же пока и мечтать не могла ни о чем, кроме фисгармоний. В комнате был полный порядок. Пахло мылом. Он предложил мне сесть на стул, открыл чемодан и достал фляжку с водкой, которую хранил на всякий случай, как и подобает практичному и запасливому крестьянину.
– Чем еще ты собираешься меня угостить? Жевательным табаком?
– Нет, шоколадом.
Я взяла шоколад, но водку пить не стала.
– Что еще ты можешь мне предложить?
– Не торопись, – ответил он, – скоро узнаешь.