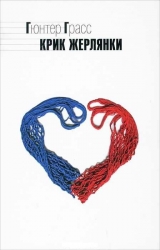
Текст книги "Крик жерлянки"
Автор книги: Гюнтер Грасс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
И все же Александра осталась в стороне. Даже самый смелый поворот сюжета не смог бы на эту пору подтолкнуть ее к Четтерджи. Она не только упорно отказывалась от поездок на мелодично позванивающих велорикшах, но и возмущается их владельцем, человеком для нее непонятным. Что-то в нем, дескать, не то. Что-то чужое. Не верит она ни ему, ни его словам. «И глаза у него вечно полузакрыты!» – говорила Александра. Решке записал ее реплику в адрес Четтерджи задолго до первых похорон: «Самозванный англичанин. Ничего, мы ему еще покажем, как показали поляки туркам под Веной…»
Что касается национальной принадлежности, то недоверчивость Александры оказалась оправданной. В одной из бесед за стойкой «рикшевладелец», как пренебрежительно называла Пентковская Субхаса Чандру Четтерджи, он признался, что является бенгальцем только по отцу. Его мать, не без смущения пояснил он, принадлежит к касте торговцев «марвари», которые пришли в Бенгалию с севера, из Раджастана, но вскоре взяли под свой контроль рынок недвижимости, потом скупили в Калькутте джутовые фабрики, за что чужаков невзлюбили. Но таковы уж марвари, деловая хватка у них в крови. Он, Четтерджи, пошел скорее в мать, а столь громкое имя дал ему отец, любитель поэзии, мечтавший о власти и славе. Однако самому Четтерджи вовсе не хотелось следовать примеру честолюбивого легендарного вождя Индии Субхаса Чандры, тем более, что кончил тот плохо; скорее уж он, любимый сын своей матери, чувствует в себе предпринимательский талант, свойственный всем марвари. «Поверьте, мистер Решке, чтобы иметь обеспеченное будущее, надо загодя вкладывать в него денежки…»
Все это, конечно, не обсуждалось в квартире на Хундегассе, где обосновался со своими шлепанцами Александр Решке. Впрочем, думаю, Александра о чем-то догадывалась. Однако те беседы в пивной принадлежали к редким исключениям; приглашений наша пара почти не принимала и жила весьма по-домоседски. Лишь на несколько минут позволялось телевизору заполнять гостиную сообщениями о кризисах и конфликтах. Александр и Александра охотно стряпали друг для друга – причем оба предпочитали итальянскую кухню, тут они были единодушны. Он выучил несколько польских слов. По очереди они забавлялись компьютером. Решке любил смотреть, как Пентковская грунтует на кухне рамы для картин, а потом покрывает их позолотой, пользуясь специальной подушечкой. Если же дело касалось эмблематики или разговор заходил о барочных надгробиях, скрытом смысле их символики, то Александра буквально глядела ему в рот. Иногда Олек и Оля слушали вместе магнитофон, именно то, что записывалось на субботних и воскресных прогулках у реки или у тростниковых зарослей кашубских озер, где хором и поодиночке ункали жерлянки.
5
На фотографиях они сняты идущими под руку или держась за руки. Так они и ходили на субботних и воскресных прогулках, одевшись по погоде и даже в тон друг другу. Прогулки прекратились, когда Решке уехал в Бохум. О том, что было дальше, свидетельствуют дневниковые записи, копии счетов, различные квитанции и письма, в которых теперь говорилось о любви лишь как бы между прочим. Что касается дел, то Решке пишет о «необходимости перераспределить средства» и «организовать систему банковских счетов». Ссылаясь на растущий курс акций ряда страховых компаний, он считает целесообразным без особой огласки создать «некоторые резервы». Впрочем, соображение о том, что «нынешний высокий уровень процентных ставок, обусловленный политической конъюнктурой, дает возможность выгодных капиталовложений», Решке не доверил письмам, а занес своим каллиграфическим почерком в дневник, из чего, по крайней мере, я могу сделать вывод: Решке умел обращаться с деньгами.
Да, Александр Решке всегда умел обращаться с деньгами; это можно подтвердить хотя бы примером из тех военных лет, когда нас, школьников, обязывали собирать картофельных жуков или, говоря тогдашним языком, мобилизовали на борьбу с американским вредителем – колорадским жуком. Сделав по-военному четкий доклад районному «бауернфюреру», Решке добился повышения премии на целых десять пфеннигов за каждую полную литровую банку колорадских жуков, то есть довел эту премию почти до одной рейхсмарки. Разницу он «без особой огласки» откладывал в качестве «резерва», и позднее на эти деньги наша «колонна» – а я, разумеется, тоже участвовал в операции «колорадский жук», – накупила себе к заключительному торжеству, состоявшемуся в амбарах поместья Кельпин, сладких пирогов, леденцов и солодового пива; у других «колонн» подобных яств не было.
Развивая те ранние навыки, профессор искусствоведения пустил в дело часть капиталов немецко-польского СП. Без согласования с наблюдательным советом он, полагаясь исключительно на собственное чутье, раздробил банковские счета, какие-то акции приобрел, потом какие-то вовремя и прибыльно продал, в результате чего образовались кое-какие финансовые «резервы», благодаря которым немецко-польское акционерное общество стало весьма разветвленным, а попросту говоря, довольно-таки запутанным «гешефтом». Впрочем, в самом бохумском секретариате царил строгий порядок, хотя, по признанию Решке: «Жить в квартире не очень-то удобно. Госпожа Денквиц взяла себе в помощь машинистку, а также человека, который будет вести усложнившийся бухгалтерский учет».
В конце сентября – начале октября Решке совершил продолжительную командировку. Дневник фиксирует важные деловые встречи во Франкфурте-на-Майне, в Дюссельдорфе и Вуппертале, пренебрегая немаловажными политическими событиями тех дней; лишь в письме, датированном четвертым октября, говорится: «Итак, объединение Германии закреплено документом. Для жителей Рура, которых я, признаться, изучил не слишком хорошо, это событие не имело особого значения, однако вызвало восторги, похожие на те, которые наблюдаешь порою на трибунах футбольного стадиона. Вероятно, ты права, дорогая Александра, мы, немцы, толком не умеем радоваться».
А затем речь вновь заходит о доверенных ему деньгах. С ними нужно обходиться бережно, но и разумно. Деньги должны работать, а не лежать мертвым капиталом. Поэтому он, дескать, собирается приумножать имеющиеся средства, излишне не афишируя тех способов, какими это будет делаться. «Пускай политика лезет себе вперед, на авансцену; нашим усопшим приличествует тишина, их покой не должен быть потревожен никакими перипетиями истории».
С этой мыслью, а также багажом иного рода – среди прочих вещей находился очередной подарок, очень красивый торшер – Решке вернулся в квартиру на Хундегассе. Но нашей паре никак не удавалось ограничить жизнь только собой и своей миротворческой идеей. Если в ноябре кладбищенские дела еще шли обычным чередом, то в декабре драматические события надвинулись и на Польшу. Премьер-министр, которого Пентковская сравнила однажды с известным испанским Рыцарем Печального Образа, проиграл двухэтапные выборы на пост главы государства, потерпев поражение уже на первом этапе и уступив поле дальнейшего сражения двум другим кандидатам, не скупившимся на предвыборные обещания. О победителе же Александра сказала: «Он был хорош во время рабочих забастовок. А теперь он решил стать маленьким Пилсудским. Посмеялась бы, да не до смеха…»
Едва ли не умиление вызывает у меня эта пара, воспарившая на крыльях своей идеи и потому оказавшаяся как бы в стороне от своих сограждан или даже над ними, что позволяло глядеть на происходящее то ли немного вчуже, то ли свысока. Из их ежевечерних бесед можно выбрать десяток примечательных суждений о немцах и поляках, например, такое: одним, богатым соседям, не хватило зрелости, чтобы повести себя после объединения, как подобает взрослой нации; другие, бедные соседи, всегда ощущали себя единой нацией, даже при отсутствии собственной государственности, однако им не хватило демократической зрелости, ибо прежде демократы имели лишь опыт политической оппозиции, поэтому теперь незрелость во взаимоотношениях соседей расцветет пышным цветом. «Плохо будет!» – резюмировал Решке. «Уже плохо!» – воскликнула Пентковская.
Оценка этих мрачных прогнозов не входит в число задач, поставленных передо мною моим бывшим одноклассником, да, пожалуй, и невозможно повысить отметки в этом двойном аттестате незрелости; к тому же по нынешним временам скептики чаще всего оказываются правы; с другой стороны, подобный пессимизм отчасти опровергается примером хотя бы нашей немецко-польской пары, которая проявила достаточную зрелость при решении насущных проблем, связанных с зимовкой в квартире Пентковской. Хозяйка снисходительно относилась к появлявшимся иногда у профессора менторским интонациям, не говоря «вечно ты со своими поучениями…», а он терпеливо сносил ее ненависть к русским, объясняя это чувство теми или иными причинами – в конце концов, он даже нашел оправдательную формулу: дескать, такая ненависть есть не что иное, как разочаровавшаяся любовь. Возможно, именно международные кризисы, заполнявшие потоками жутких теленовостей каждую квартиру, настраивали нашу пару на примиренческий лад, во всяком случае Пентковскую не раздражали профессорские шлепанцы, а Решке даже не пытался навести порядок в ее библиотеке. Более того, она любила его вместе со шлепанцами, свалянными из верблюжьей шерсти, Александру же была мила Александра вместе с неразберихой на покосившихся книжных полках. Она не собиралась отучать его шаркать ногами, он не покушался на ее дурную привычку смолить сигареты одну за другой. Полька и немец! Ах, какая бы получилась из них книжка с картинками – слишком чудесными, чтобы быть похожими на правду.
Гости наведывались к ним редко. В дневнике упоминается лишь настоятель Петровского собора с его неизменной темой: как поправить своды в центральном нефе до сих пор не восстановленного после войны храма. Дважды заходили Эрна Бракуп и Ежи Врубель. В день св. Мартина Александра продемонстрировала свои кулинарные способности, приготовив традиционного гуся, фаршированного яблоками и полынью. Магнитофонная запись, датированная серединой ноября, сохранила голос Эрны Бракуп: «Давненько я гуся-то с яблоками не едала. Вот когда тут вольный город был…» Так Врубель узнал цены в гульденах на тогдашних кашубских гусей и услышал имена всех, кто сидел за свадебным столом у младшей сестры Эрны Бракуп, когда та, Фрида Формелла, осенью 1932 года выходила замуж за Отто Прилла, мастера с маргаринового завода «Амада».
Год потихоньку завершался. Осень никак не хотела кончаться, зима обещала быть мягкой, а, значит, если земля промерзнет не глубже, чем на штык лопаты, кладбище будет разрастаться как бы само собой: ряд за рядом могил, один участок колумбария за другим. Тут можно было бы ограничиться кратким замечанием: ничего, мол, кроме обычных похорон, не происходило, если бы не дневниковая запись: «На кладбище все нормально. Однако 5 ноября на заседании наблюдательного совета разгорелась дискуссия. С тех пор чувствуется напряженность…»
Уже День поминовения, который Александр и Александра намеревались скромно отметить на Хагельсбергском кладбище, получился крайне суматошным. «Приезжих оказалось гораздо больше, чем ожидалось; многих не отпугнула даже очень дальняя дорога. Номеров в гостиницах не хватало, на наше миротворческое кладбище хлынула буквально толпа посетителей. Госпожа Денквиц загодя прислала нам предупредительные факсы и уведомила по телефону, но такого наплыва никто не предполагал… Посыпались жалобы. Скудный выбор цветов на Доминиканском рынке не мог, естественно, не вызвать нареканий. Пришлось отделываться заверениями, что в следующий раз все будет учтено, и выслушивать упреки, вроде: «Типичная польская безалаберность!» Лишь под вечер, незадолго до сумерек, мы с Александрой сумели выкроить часок, чтобы съездить на могилу ее родителей. Врубель вызвался проводить нас. Он, изучивший все ликвидированные кладбища между Оливой и Орой, позднее отвел нас на находившееся когда-то по соседству гарнизонное кладбище. Здесь обнаружились подлинные раритеты, которые Ежи показывал нам со смущением и гордостью первооткрывателя. Кое-что сохранилось тут с давних времен, например, заросший бурьяном и репейником крест из ракушечника, сработанный отменным мастером; надпись на кресте сделана в память французских военнопленных, которые умерли тут в 1870-71 годах. Окончания креста имели форму трилистника. Поодаль, также среди бурьяна, Ежи продемонстрировал нам известняковую стелу, а перед нею – заржавевший корабельный якорь. Это был датированный 1914 годом памятник матросам с крейсера «СМС Магдебург» и матросу с торпедной лодки номер 26. Наш друг приберег для нас и иные сюрпризы – например, вмонтированную в стену мемориальную плиту из известнякового туфа: на плите рельеф с дубовыми ветками и абрисом полицейского шлема времен вольного города, под ними потертая и побитая надпись: «В память наших усопших!» Александру удивила дюжина черных полированных надгробий из гранита, на которых вместе с полумесяцем и звездой были высечены имена полонизированных татар, а также даты рождения и смерти. Все они умерли до 1957 года. «Почему они очутились здесь, на военном кладбище?» – спросила Александра. Но даже Врубель, у которого, кстати, проскальзывают порою довольно-таки шовинистические нотки, как и у Александры, не знал, что ответить; он, стоя в своей неизменной ветровке, долго молчал, но, в конце концов, смущенно пробормотал: татарские могилы являются, видимо, «самовольными захоронениями». Неподалеку, на детских могилах возвышались деревянные кресты с обозначенным годом «1946» той страшной эпидемии; этот год мы видели еще в прошлый День поминовения рядом с немецкими и польскими именами. Я сказал: «Помнишь, Оля?…» – «Еще бы…» – «Я держал авоську с грибами…» – «А у папиной и маминой могилы нам пришла хорошая мысль…» Вот так мы и отметили День поминовения. Прошлое настигло нас. Я тщетно подыскивал формулировку, которая вместила бы в себя все произошедшее с нами. Вдруг Ежи и Александра, ужаснувшись, словно остолбенели – у трухлявого забора, за которым начинались садово-огородные участки, виднелась братская могила русских солдат времен первой мировой войны, измалеванная краской. Смертельная летопись истории и такое кощунство! Сколько же мертвецов погребено в чужой земле?! Разве этого недостаточно, чтобы побудить к примирению?! А листва со старых и молодых деревьев опадала и опадала. Летящий лист. До чего же все-таки прочно связана эмблематика смерти с природой! Внезапно я увидел себя и Александру ищущими свои могилы в чужой земле… Когда совсем стемнело и Врубель повез нас назад, я предложил привести здесь все в порядок, разумеется, за счет акционерного общества. Ежи пообещал поставить этот вопрос на повестку дня следующего заседания наблюдательного совета. Александра же рассмеялась, непонятно почему…»
Поначалу заседание проходило спокойно – вице-директор Национального банка сообщил, что аренда уплачена в установленные сроки, – однако затем немецкая сторона вызвала дискуссию по принципиальному вопросу, причиной которой послужило вроде бы простое изложение некоторых соображений. Дескать, приезжающие на похороны сверстники покойных вновь и вновь высказывают пожелание провести остаток дней если не в непосредственной близости от миротворческого кладбища, то хотя бы в его окрестностях, среди столь любезных сердцу родных пейзажей. Поэтому Фильбранд внес предложение о строительстве нескольких комфортабельных приютов для престарелых, желательно на берегу моря, среди кашубских дюн и сосен; предложение было поддержано Иоганной Деттлафф.
Если госпожа Деттлафф взывала скорее к эмоциям, то Фильбранд прибег к аргументам практического свойства. «Наши пожилые соотечественники готовы поселиться в местных профсоюзных домах отдыха, естественно, после их основательного ремонта, тем более что эти дома сейчас пустуют, а некоторым и вовсе грозит банкротство». Затем Фильбранд предложил уже сейчас «подумать о будущем», то есть запланировать новостройки. Мол, интерес к приютам, которые находились бы в родных краях, заметно вырос. Вполне очевидна готовность (можно даже сказать – решимость) родственников исполнить эту волю своих родителей, бабушек и дедушек или даже прабабушек и прадедушек. Деньги тут не проблема. Ряд страховых компаний намереваются участвовать в финансировании этого проекта. По предварительным оценкам, приютами захотят воспользоваться не менее двух-трех тысяч человек. Понадобится много сиделок, обслуживающего персонала. Значит, возникнут новые рабочие места. Будут обеспечены заказами мелкие мастерские, что благотворно повлияет на развитие среднего сословия. «Более всего Польше недостает сейчас именно здорового среднего сословия!» – воскликнул Фильбранд. Если же желание пожилых людей вызывает какое-то подозрение или даже прозвучавшее, например, в реплике его преподобия господина Бироньского опасение, что новый проект может повлечь за собою неконтролируемый поток возвращенцев, а потому, дескать, нужны какие-то рамки, то вся программа, уже получившая рабочее название «На склоне лет – в родном краю», вполне могла бы быть осуществлена строго в рамках положения о немецко-польском миротворческом кладбище – ведь речь идет, по существу, о создании домов, куда люди приедут умирать, о своего рода моргах, хотя, разумеется, в проспекте предлагаемого проекта таких слов не будет. Там будет говориться просто о приютах, о приютах для престарелых.
Госпожа Деттлафф с чувством зачитала несколько выдержек из писем. Консисторский советник господин Карау напомнил, что старость недаром сравнивают с возвратом к детству, с возвращением к родным истокам. Отец Бироньский неожиданно вновь заговорил о своем разрушенном и после войны до сих пор не восстановленном Петровском соборе. «Прошу не отвлекаться от темы!» – подал голос председательствующий, господин Марчак. Врубель отреагировал на изложенный проект перечислением всех профсоюзных домов отдыха на берегу залива, в котором, кстати, купаться все равно запрещено, а также на полуострове Гела, где в Ястарнии, называвшейся прежде Гайстернест, есть весьма подходящий дом отдыха «Фрегат». Кроме того, он вызвался показать членам совета несколько любопытных мест по Пелонкенскому проезду, скажем, похожую на замок летнюю усадьбу семейства Шопенгауэров или же господский дом Пелонкенов, который некогда уже служил приютом для престарелых. Будто заправский маклер, Врубель расхваливал большой дом со множеством комнат, с флигелями, описал портал с колоннадой, обсаженную ясенями кольцевую аллею во внутреннем дворе и, наконец, пруд с карпами у опушки Оливовского леса.
Все произошло так, как того и следовало ожидать. Национальный банк в лице своего вице-директора выразил заинтересованность. Польская сторона поначалу одобрила, а затем и утвердила внесенное предложение. В учредительный договор внесли дополнение, из которого явствовало, что немецкая сторона на финансирование не поскупится.
Позднее состоялись осмотры. Одни варианты отвергались, другие принимались, как, например, дом Пелонкенов с его флигелями и прудом, хотя и здание, и территория после длительного расположения там воинской части пришли в упадок.
Александр и Александра участвовали в этих осмотрах. Решке повсюду видел запустение, да ему и хотелось видеть только запустение, поэтому именно оно потом отразилось в дневниковых записях. «Жутко видеть троллейбус с выпотрошенными внутренностями между господским домом и хозяйственными постройками. Единственное, что здесь функционирует, – это солнечные часы. Еще абсурднее идея устроить приют в усадьбе Шопенгауэров. Похоже, летняя резиденция отца должна задним числом оправдать философию сына. А о современных домах и говорить нечего. По словам Александры, их построили при Гомулке. Впрочем, они развалились, едва их сдали в эксплуатацию. Лучше бы Врубель, допущенный к земельному кадастру и черпающий оттуда свою информацию, держал ее при себе. Тошно смотреть, как Фильбранд ко всему примеривается – тут по штукатурке постучит, там половицу проверит, не сгнила ли. А Бироньский помалкивает, потому что Карау обещал выделить деньги на ремонт церкви с ее «бесспорными элементами поздней готики…»
Еще до конца года были заключены первые арендные соглашения, чему Решке вряд ли порадовался, ибо ему для авансирования этих сделок пришлось изрядно опустошить несколько банковских счетов, в том числе «резервных». Остальные средства предоставили частные страховые компании и благотворительные общества. Денквиц взяла в бохумский штат еще одного человека.
Вскоре в полудюжине домов отдыха – некоторые из них имели вид на море – начался ремонт. На Пелонкенском проезде, который теперь называется улицей Полянки, удалось арендовать несколько вилл, а также упомянутую «летнюю резиденцию», после чего там сразу же приступили к их переоборудованию. Никаких осложнений с прежними арендаторами не возникло, они получили щедрое вознаграждение и легко подыскали себе новое жилье.
Все это было оформлено решением совета при одном воздержавшемся – так была расценена реплика Эрны Бракуп: «Не стала бы я остаток лет проводить в родных-то краях, а пожила бы лучше годок-другой на том острове, что немцы Махоркой зовут».
Решение совета не вызвало особого протеста у нашей пары. Насколько я могу судить, Александр и Александра остались весьма довольны тем, что предложение Ежи Врубеля по бывшему гарнизонному кладбищу было принято единогласно – достаточное количество валюты, немецких марок, поможет навести там порядок.
Возможно, они вправду считали, что приюты для престарелых – неплохая затея, или даже что они удачно дополнят первоначальный замысел миротворческого кладбища. Во всяком случае «морги» не служили темой для вечерних бесед в квартире на Огарной. Оба придерживались мнения, что досуг принадлежит только им двоим. Тому, кто обрел друг друга так поздно, жаль времени. Слишком многое нужно наверстывать. Отсюда и общие планы. Решке записал: «У Александры редко возникают желания, которые касались бы только ее одной. Ей все хочется делать вместе, все делить на двоих…»
Однако вскоре Пентковская изъявила-таки желание, которое могло быть лишь ее собственной мечтой:
– Хочу проехаться по всему итальянскому сапогу. И, если получится, повидать Неаполь.
– Почему именно Неаполь?
– Есть такая поговорка…
– Тогда уж непременно надо посмотреть Умбрию, пройтись по следам этрусков.
– Но потом – Неаполь!
На покосившихся книжных полках, среди морских лоций или под стопкой детективных романов у Александры наверняка нашелся атлас; представляю себе, как оба уселись над ним, разглядывая итальянский сапог.
– Ассизи – обязательно! Орвието – тоже! И не забыть Флоренцию!
Ей хотелось поехать в Италию вместе, ведь он столько о ней знает и не раз все там видел.
– Будешь мне все показывать.
Такими я их и вижу – счастливыми. И они мне нравятся. После свиного жаркого с панированной капустой они дружно, как полагается образцовым хозяевам, вымыли в кухне посуду. Завешанная тряпицей зеркальная оправа ждет позолоты. Вновь бьют электронные куранты на ратуше. В эту пору хорошо спокойно выкурить сигаретку. Александра теперь пользуется мундштуком. Обрел свое место красивый торшер. За руки они не держатся, но сидят на тахте рядышком, оба в очках. Атлас, унаследованный от офицера торгового флота, предлагает множество вариантов.
– Вот увижу Неаполь, можно и помирать.
Сказала она и рассмеялась.
Была ли действительная необходимость в том, чтобы наша пара предъявила себя детям? По моим представлениям, мой рассказ вполне мог бы ограничиться историей рождения одной замечательной идеи и ее скверного осуществления.
Стоило ли вообще предпринимать это путешествие? По-моему, хотя, разумеется, мое мнение в счет не идет – в таком возрасте официально представлять партнера своим родственникам уже необязательно. Возникает неловкость, получается что-то вроде просьбы о снисхождении.
Разве снятые автоспуском фотографии нашей пары – например, на пароме через Вислу или у кромки морского прибоя – не делали достаточно явственной их позднюю связь? А уж если они все-таки решили навестить все семьи своих детей, то следовало ли это делать именно в праздники?
Сочельник они провели в Бохуме. Александр подарил Александре духи с тонким запахом, она ему – пару модных галстуков. К полудню первого рождественского дня они приехали на машине в Бремен. На второй день праздников они уже очутились в Геттингене, отель «Гебхард», где у них был заказан номер на двоих.
Еще через сутки они приехали в Висбаден. Тридцатого декабря на очереди оказался Лимбург, где они решили отпраздновать Новый год и осмотреть старый город. Ничего из этого не вышло. Александра увидела лишь собор, да и то с шоссейного моста – где-то далеко в котловине. Новый год они отмечали вдвоем в бохумской квартире, которая одновременно являлась секретариатом, оба измученные и подавленные, еще обиженные, однако довольные по крайней мере тем, что все мытарства уже позади. «Хорошо, что Александра сообразила заранее поставить в вазу еловые ветки со свечками».
Все четыре визита вылились у Решке в сплошные дневниковые стенания. Ни единой мажорной ноты. Видно, плохо было обоим, хотя не всегда вместе: то хуже было одному, то другому. Нельзя сказать, что сын Александры Витольд прямо обидел или оскорбил спутника своей матери; дочери Александра – София, Доротея и Маргарета – также не отнеслись к спутнице отца с издевкой, пренебрежением или, допустим, непочтением; нет, как пару их восприняли совершенно равнодушно. Интерес к немецко-польскому кладбищу, пишет Решке, проявили лишь зятья: один иронически, другой снисходительно, третий даже принялся давать циничные советы. На угощение жалоб нет. Рождественские подарки отцу и матери забыты не были.
О первом визите – в Бремен – говорится: «Александру задело то, что Витольд вообще отказался поговорить с нами о миротворческом кладбище. Его слова «Это ваши дела. Меня это не колышет» свидетельствуют по крайней мере о том, что он вполне овладел немецким молодежным жаргоном. На мой вопрос о его занятиях на философском факультете он объяснил: «Сейчас Блоха долбаем. Ну, дерьмо его, насчет утопии. Так раздолбаем, что мокрого места не останется». Вот так, в таких тонах проходила наша беседа за ужином, который состоялся, признаться, в вызывающе шикарном ресторане нашего отеля. Витольд сказал, что простая «обжираловка» ему больше по душе.
Еще за супом он обругал мать, причем по-польски. Меня для него словно не существовало. Он вскакивал с места, опять садился. Кое-кто из посетителей оборачивался. Вначале Александра попыталась возражать, потом делалась все молчаливей и молчаливей. Позднее, когда Витольд, не дождавшись десерта, ушел, она расплакалась, но так и не призналась, чем он обидел ее. Она лишь сказала, уже снова смеясь: «Зато у него появилась девушка. Наконец-то». Запакованный в полиэтиленовый пакет рождественский подарок Витольда – дорогая барсучья кисть для позолоты – остался лежать рядом с тарелкой матери».
О пребывании в Геттингене Решке пишет: «Вполне естественно вели себя лишь дети Софии; сначала они стеснялись, потом оттаяли, стали ласковы не только по отношению ко мне, но и к Александре. Моя младшая дочь, педагог, подвизающаяся в сфере социального обеспечения, говорила только о своей работе, точнее, жаловалась на плохие условия, на коллег, на трудности, на маленькую зарплату, тем более, что имела она только полставки. Когда я спросил, не хочет ли она взглянуть на фотографии миротворческого кладбища, которые я собираю для текущего архива, она отмахнулась: «Меня праздники замотали, без фотографий тошно». Ее муж, книготорговец, сетовал на чересчур большой приток «восточников», натужно иронизировал над тем, как они хватают справочную литературу по менеджменту или трудовому праву, а о кладбище произнес лишь одну-единственную фразу: «Заманчивая перспектива!» И ухмыльнулся. Прожженный циник, раньше он был леваком, а теперь надо всеми посмеивается, например, над сторонниками мира и их протестом против войны в Персидском заливе. Хозяева дома повели с недавних пор решительную борьбу с никотином, поэтому Александре, когда ей хотелось курить, приходилось выходить на балкон. Он подарил мне книжицу о половой потенции в пожилом возрасте – смешно, очень смешно! София подарила мне шлепанцы, которые она называет «шлепками», ужас. Только их дети порадовали меня».
О визите в Висбаден читаю: «Боже, что стало с Доротеей. Профессию детского врача она забросила. Кругом сладости, она заметно толстеет, становится угрюмой, замкнутой; ей интересен разговор только о собственных недугах – одышке, чесотке и т. д.
Доротея ни разу не обратилась к Александре. Ее муж, дослужившийся до должности начальника отдела в Министерстве экологии, хотя и поддержал беседу о нашей затее, о трудностях ее реализации, однако говорил при этом, как обычно, свысока: «Поляки отдали бы все и дешевле. Аренда – чепуха. Теперь, когда граница признана, нужно требовать передачи земли в полную собственность, по крайней мере, территорию кладбища. Это вполне оправдано; в конце концов, когда-то все там принадлежало нам». Александра смолчала, а я заметил: «Не забывайте, что и мы сами, и наши покойники – там всего лишь гости». Потом мы перешли к таким темам, как гессенские мусорные свалки, становящиеся все более мелкими межпартийные склоки и предстоящие выборы в ландтаг. Подарили мне альбом, который у меня уже есть, – Дрост, «Мариинский собор», а Александре – набор кухонных ножей, купленный в какой-нибудь дешевой лавчонке «Товары стран «третьего мира». Получив эти подарки, мы промолчали».
И наконец – последний этап на этом крестном пути, который мой прежний одноклассник счел необходимым пройти шаг за шагом, так же педантично, как он исследовал напольные мемориальные плиты. Поразительна выдержка Пентковской; она крепилась до самого Лимбурга, вынесла троих дочерей Решке и их сожителей, а ведь могла бы все бросить еще в Геттингене. Сам Решке отнесся к ее выдержке так: «Любимая! Сколько тебе пришлось вытерпеть! Эта холодность! Это бездушие! – Первоначально мы собирались встретить Новый год с Маргаретой и ее Фредом. Так захотела Александра. Когда же моя дочь вдруг высказала-таки свое отношение к нашему кладбищу, то это оказалось слишком даже для Александры. Грета, как я называл ее раньше, ткнула пальцем в разложенные фотографии, прищелкнула языком. «Вы застолбили на рынке свой участок, спрос обеспечен! – воскликнула она. – А сколько вы на этом заработаете?» И тут же добавила: «Да, мозги у вас в порядке». Фред, который считает себя артистом, а на самом деле живет на содержании у моей дурехи Греты, подхватил: «Точно! Тут главное – сообразить. И греби деньги лопатой. Надо еще разрешить перезахоронение тех, кто уже раньше был похоронен здесь, тогда вам покойников до конца века хватит!» Мне захотелось влепить ему пощечину. Александра сказала потом: было бы много чести. Мы сразу же собрались и уехали. К приготовленным рождественским подаркам: коробка конфет для Александры, а для меня – симпатичный очешник – «югендстиль» – мы даже не притронулись. Маргарета, эдакая типичная училка, напоследок вдруг грубо сказала: «Не любите критики? Оскорбленных из себя строите? Да по мне, хоть сами ложитесь в могилу на своем кладбище. Миротворческое кладбище! От смеху лопнуть можно. Ведь на мертвецах наживаетесь».








