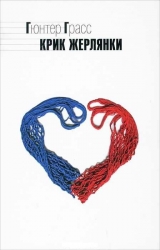
Текст книги "Крик жерлянки"
Автор книги: Гюнтер Грасс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
4
Мой бывший одноклассник описал мне немало разных людей, например, вице-директора Мариана Марчака, носившего сшитые на заказ костюмы, или священника Стефана Бироньского – в джинсах и муниципального служащего Ежи Врубеля, про которого сказано, что неустанные поиски свободных земельных участков он совершает в своей неизменной ветровке; как живая, встает передо мной Эрна Бракуп в старомодной шляпе горшком и в галошах.
Вместе с Карау и Фильбрандом из Гданьска уехала Иоганна Деттлафф, которая, по словам Решке, отличалась на переговорах женственной улыбкой и способностью считать в уме с поразительной быстротой; они уехали, чтобы вернуться назад по первому же зову Марчака, когда тот решит собрать наблюдательный совет. Александру и Александре еще часто предстоит иметь дело со всеми этими людьми, которые сочтут своим долгом вмешиваться в события, принимать решения голосованием «за» и «против», контролировать их исполнение; но пока что у нашей пары есть время для себя, только осталось его не так уж много.
Пентковская вновь приступила к работе, теперь она занималась внешней окружностью циферблата на астрономических часах. Решке продолжал переговоры с польскими членами наблюдательного совета; особенно часто он беседовал с Марчаком, который вел по либеральному экономическому курсу свой банк, расположенный в старинном здании у Высоких ворот. Гранитные колонны, кассетный потолок с орнаментом из майолики (обрамление выдержано в зеленых, белых и охряных цветах, а середина – коричневая, охряная и белая) придавали банку вид солидный и надежный, что особенно важно в период столь стремительно меняющихся валютных котировок; возможно, именно поэтому Решке охотно заглядывал сюда.
В эти же дни компьютер Пентковской регулярно пичкался накопленными в Бохуме записями информации. Из агентства «Интерпресс», находившегося по соседству с квартирой Александры, Решке вел международные телефонные разговоры, позднее он там же получил возможность пользоваться факсом. Кто-то, видимо, Врубель, посоветовал быть поосторожнее, так как телефонные разговоры могли, по старой привычке, прослушиваться, а факсы перехватываться, на что Решке невозмутимо сказал: «Нам скрывать нечего!» В его дневнике на каждое число записано множество дел, тем не менее на выходные Александр и Александра дважды выезжали на машине за город – один раз в Вердер по мосту через Вислу, другой – к морю.
В самом начале мая повсюду зацвел рапс. «Слишком рано, – пишет Решке. – Зрелище удивительное, однако это пиршество желтого цвета лишь упрочает мои подозрения: ох, недаром мне в нынешней, начавшейся февральскими ураганами ранней весне чудится подвох. Пускай Александра смеется надо мной, пускай называет это непроглядное золото Божьим даром, которому, дескать, грех не радоваться, я же остаюсь при своем мнении – не завтра, так послезавтра настанет срок расплаты за все наши деяния и упущения. Я предвижу, что произойдет с нами вскоре, уже на рубеже тысячелетий, когда, по предсказанию Четтерджи, велорикши вытеснят из городов автотранспорт. Будут установлены жесткие ограничения. Многое из того, что сегодня считается престижным, вообще отомрет, канет в прошлое. Былая роскошь! Но нашей идеи, обретшей ныне постоянную прописку, грядущие катаклизмы не коснутся, ибо она служит не живым, а мертвым. Впрочем, при озеленении кладбища, миротворческая суть которого подчеркнута самим названием, подсказанным нам консисторским советником Карау, то есть человеком церковным, а потому слегка склонным к некоторой велеречивости, следует предусмотреть отбор растений, способных выдержать будущий перегрев атмосферы. Тут я, к сожалению, не знаток, но непременно поинтересуюсь этим вопросом. Какие из растений привычны к малому количеству влаги и даже к продолжительной засухе? Все это пришло мне на ум, когда мы возвращались назад через Тухлер Хайде, песчаную и безводную местность. Увидев можжевеловые заросли, я подумал, что нам, пожалуй, более всего и подошел бы как раз можжевельник…»
Не только преждевременное цветение рапса давало пищу дурным предчувствиям моего бывшего одноклассника, которому еще в школе, на сдвоенном уроке эстетического воспитания удалось сделать жуткое пророчество, хотя речь шла всего лишь о неумелом и наивном детском рисунке, – в середине 1943 года он нарисовал, как наш город, тогда еще целый и невредимый, гибнет под градом бомб и в пламени пожаров со всеми своими старинными башнями. Теперь же нашлись места, прямо-таки вдохновляющие на пророчества, – заливные луга Вердера и морское кашубское побережье, где в болотистых низинах и камышах распевали свои свадебные песни жабы и лягушки, среди которых Решке различил голоса краснобрюхих жерлянок. «Здесь они еще сохранились! – пишет он в дневнике. – А в местных озерах и прудах водятся даже желтобрюхие жерлянки».
Когда Пентковская, гордясь своим немецким словарным запасом, воскликнула: «Настоящий лягушачий концерт!», профессор искусствоведения не хуже заправского биолога прочитал ей целую лекцию о семействе круглоязычных, о крестовках, о жабах серых и зеленых, о лягушках и квакшах, а главное – о краснобрюхих жерлянках. «Прислушайся! Их голос совершенно не похож на другие. Он звенит вроде хрустальной рюмки, если стукнуть по ней ножом. Сначала отрывистый одиночный крик, потом протяжный двойной. Это жалобный стон, пророческий плач: «Горе вам!» Не удивительно, что с жерлянкой связано столько поверий и суеверий, даже больше, чем с совой или сычом. Во многих немецких сказках – да наверняка и в польских – жерлянка предвещает несчастье. Накликает беду, как говорят в народе. Жерлянкам посвящали свои баллады Бюргер, Фосс и Брентано. [18]18
Бюргер Готтфрид (1747–1794), Фосс Иоганн Генрих (1751–1826), Брентано Клеменс (1751–1826) – немецкие поэты-романтики.
[Закрыть]Некогда жерлянкам приписывали особую мудрость, позднее, в трудные времена, именно жерлянке, а не, к примеру, серой жабе отвели роль предвестницы беды».
Вряд ли кто сумел бы сравниться с Решке, коль скоро разговор зашел об этой теме. На заросшем тростником морском берегу под Картузами, на шоссе ли между Нойтайхом и Тигенхофом, где они останавливали машину под придорожным деревом, чтобы сфотографировать безвершинные ивы над берегом Тиги или ирригационными канавами, профессор цитировал строки романтических стихов и баллад, посвященных жерлянкам, ибо они кричали повсюду, а последняя цитата из Ахима фон Арнима [19]19
Арним Ахим (1781–1831) – немецкий поэт-романтик.
[Закрыть]
вновь вернула Решке к размышлениям о ранней весне: «Ведь если здесь упомянута Иоаннова ночь, то имеется в виду конец июня, а, значит, сейчас, в середине мая унканье жерлянок до жути опережает положенные сроки. Поверь, Александра! Неспроста раньше времени цветет рапс, неспроста раньше времени разункались краснобрюхие и желтобрюхие жерлянки. Они хотят предупредить нас о чем-то…»
В дневнике написано, что на длинные монологи о чересчур рано пробудившейся природе Александра поначалу отзывалась смехом и репликами вроде «Неужели нельзя попросту сказать: Какой красивый рапс!» или «Сам ты жерлянка!», но затем она принялась курить сигарету за сигаретой, приумолкла и, в конце концов, совсем затихла. «Мне еще не доводилось видеть Александру такой неразговорчивой. По-моему, она произнесла одну-единственную фразу: «Давай вернемся в город; здесь как-то жутко»…»
Из дневника не ясно, где была произнесена эта фраза: на берегу моря или под ивами, но кое о чем можно догадаться по сохранившейся магнитофонной пленке, на которой Решке каждый раз сообщает, где установлен его высокочувствительный микрофон для записи нежного, заунывного унканья жерлянок; в Кашубии под Хмельной среди этих звуков слышен голос Александры: «Меня комары заели!», затем снова: «Хватит на сегодня. Уже поздно». – «Еще четверть часика. Надо зафиксировать соотношение интервалов…» – «Меня всю искусали…» – «Очень жаль, дорогая, но…» – «Понятно-понятно! Во всем нужна основательность…»
Вот так, с мельчайшими подробностями, записано на магнитофон это трио: бормотание Решке, жалобы Пентковской и унканье жерлянок. Теперь я знаю, что краснобрюхие жерлянки ункают с более продолжительными интервалами, чем желтобрюхие; знаю, как тепло, мягко, слегка басовито и немного насморочно звучит голос Решке и какие требовательные нотки слышатся в просьбах Пентковской, перемешанных с хоровым унканьем.
***
С помощью того же магнитофона Решке записал рассказы Эрны Бракуп, той самой польки по паспорту и немки по происхождению, которую избрали в наблюдательный совет немецко-польского акционерного общества. Эрна Бракуп являлась также полномочной представительницей гданьских немцев, неумолчно бормочущей спикершей этого национального меньшинства, которое до недавнего времени вообще оставалось немым, ибо власти не признавали его существования.
Магнитофонная пленка, сохранившая бормотание Эрны Бракуп сразу же вслед за унканьем жерлянок, освежает воспоминания моего детства. Именно так говорили бабушка и дед, родители моего отца. Так говорили соседи, возчики пивных бочек, рабочие с верфи, брезенские рыбаки, работницы маргаринового завода «Амада», кухарки, а по субботам – базарные торговки, по вторникам – мусорщики, и, наконец, пусть немного смягчая диалект, так же говорили штудиенраты, почтовые служащие, полицейские чины, а по воскресеньям – пастор на проповеди.
«Настрадались мы да намучились не только от начальства…» – в речи Эрны Бракуп – а носителей местного диалекта осталось здесь в живых совсем немного – полувековая немота сохранила некоторые редкостные диковины, так сказать, перлы, которым угрожает полное забвение. Знает ли еще кто-нибудь, что такое вязель или, например, лядвинец? Она говорила на умирающем языке, поэтому, пишет Решке, «ей по праву досталось место в наблюдательном совете. Когда придет ее час, то вместе с этой почти девяностолетней старухой похоронят и сей архаический языковой пережиток; тем больше оснований записывать на магнитофон бормотание Эрны Бракуп…»
В моем распоряжении более полудюжины магнитофонных кассет. Однако прежде чем запустить первую, мне придется обратиться к высшим политическим сферам, что, как ни странно, поможет лучше понять старческое бормотание. Сразу же после начала переговоров об учреждении немецко-польского акционерного общества состоялся государственный визит западногерманского президента, постаравшегося своими хорошо продуманными выступлениями в Варшаве, а затем и в Гданьске исправить полудюжину оплошностей федерального канцлера и посодействовать таким образом добрососедским отношениям двух народов, у которых накопилось немало взаимных обид.
Эрна Бракуп находилась в толпе любопытствующих, когда высокий гость со своею свитой прошелся по Ланггассе, делая вид, будто внимательно слушает исторические пояснения, поглядывая умными глазами по сторонам и терпеливо снося как нечто неизбежное окружение фотографов и агентов охраны, а затем поднялся по лестнице к ратуше, приветливо и скромно помахал сверху собравшимся, после чего скрылся в здании, где ему предстояло осмотреть достопримечательности, часть которых сияла новой позолотой благодаря искусным рукам Пентковской. Эрна Бракуп осталась снаружи среди туристов и местных жителей, почувствовавших на себе взгляд президента.
Позднее она сказала Александру Решке, когда тот записывал ее на магнитофон: «Охота мне было с президентом поговорить. Вот уж радость-то была бы на старости лет. Дожить бы до того денечка, когда немецкое кладбище снова будет на старом месте. Сестрица моя младшенькая после войны в Германию подалась, живет, почитай, уже пятьдесят лет в Бад-Зееберге, на Йорг-Фукс-штрассе, дом четыре. Я бы сказала президенту: низкий, дескать, вам поклон, господин президент, за то, что с немецким кладбищем пособили и исполнилась заветная мечта Фризы, сестрицы моей. Я сама, хоть долго полькой считалась, а когда Господь призовет, желаю упокоиться на немецком кладбище, а не с поляками, которые всех нас перемешали, пока немцев тут совсем не осталось. Только больно уж толкучка была большая вокруг президента, разве ж к нему пробьешься…»
Александр с Александрой, как и Эрна Бракуп, стояли перед ратушной лестницей, обрамленной каменными фонарями. Когда президент помахал сверху, блеснув на солнце сединой, туристы дружно зааплодировали. Местные жители подивились его серебряному нимбу, но хлопать не стали. Решке тоже воздержался от аплодисментов, хотя понимал, что даже объявление о предстоящем государственном визите на высшем уровне сыграло самую положительную роль для проекта миротворческого кладбища. Все учредители, от Эрны Бракуп до вице-директора Национального банка, рассчитывали теперь на правительственную поддержку. Пентковская уверяла Ежи Врубеля, что ее Александр если уж не подстроил сам президентский визит, то по крайней мере сумел приурочить к нему переговоры.
Позднее, когда государственный визит был давно позади, Александра сказала Александру – ее голос на магнитофонной пленке заглушает ункающих жерлянок: «Добрый глаз у твоего президента. Ему не нужны темные очки, как нашему. И приехал он в удачное время. А то, боюсь, ничего бы у нас с кладбищем не вышло…»
***
Из-за множества новых дел Решке ушел в отставку из университета, который ему к тому же надоел. Вернувшись в Бохум, он сначала передал ассистентам свои семинары и спецкурс профориентации для студентов-искусствоведов, а затем вовсе отказался от преподавательской работы на следующее полугодие. На первом же заседании наблюдательный совет установил распорядителям твердые оклады, тем легче было Александру Решке распрощаться с университетом и университетскими коллегами.
Разумеется, те подтрунивали над Решке, однако его это ничуть не смущало; он даже посмеялся вместе с другими, когда знакомый филолог назвал его «профессором Гринайзеном», намекая на знаменитое похоронное бюро. За долгие годы изучения барочных надгробий на северных немецких кладбищах Решке собрал большую коллекцию гробовых гвоздей ручной ковки, которую он снабдил подробнейшим каталогом; это увлечение, казавшееся раньше причудой, теперь обрело свой смысл. Гвозди прямые и кривые, изъеденные ржавчиной, целые и без шляпки, граненые гробовые гвозди длиной с указательный палец, выкованные во времена раннего барокко или позднего «бидермайера», – все они, полученные от могильщиков и церковных служек, предвосхищали то нынешнее дело, которое так захватило Александра Решке. Он написал Пентковской: «Вот уж не думал, что сей побочный продукт моей диссертации приобретет для меня когда-нибудь столь важное значение…»
В своей холостяцкой квартире Решке устроил рабочий секретариат акционерного общества, предоставив бывшей университетской секретарше одну из комнат, где освободил от книг несколько стеллажей. Книги же вместе с коллекцией гвоздей переселились в большую прихожую.
Критически проверив свой гардероб, он купил себе черный суконный костюм, черные туфли, черные носки, серый галстук, черную итальянскую шляпу «берсалино», асфальтового цвета плащ итальянского же производства и в тон ему зонтик; все покупки подтверждены чеками. На вторую половину июня планировалось торжественное освящение нового миротворческого кладбища и соответственно – первые захоронения.
На сей раз Александр привез в подарок Александре фаянсовую мойку. Решке учитывал в организационной работе каждую мелочь, но не меньшую предусмотрительность обнаружила и Пентковская. Пока сам он и его секретарша, которая поначалу работала лишь до полудня, завязывали на будущее полезные контакты с консульским отделом польского посольства, Александра зарезервировала через польское туристическое бюро «Орбис» достаточное количество одиночных и двойных номеров в гостинице для тех, кто приедет на похороны.
Перевозку покойников взяла на себя западногерманская похоронная контора, нашедшая в Гданьске партнера и подписавшая с ним договор о сотрудничестве. Восточногерманское народное предприятие «Ритуальная мебель» выбыло из дела, поскольку выпускаемые там гробы годились бы разве что для кремаций, а их предполагалось осуществлять по последнему месту жительства покойного. Восстановить старый крематорий на Михаэлисовском шоссе, печи которого были демонтированы сравнительно недавно, пока не представлялось возможным.
Хорошо, что Решке не упускал в своих записях и бытовых подробностей: «Наконец-то старая мойка заменена. Александра очень довольна, что я, несмотря на великое множество хлопот, не позабыл ее просьбы».
И вот настал долгожданный день. Правда, оливский епископ, обещавший совершить богослужение, не сумел или не захотел приехать, поэтому миротворческое кладбище освятили священник Петровского собора отец Бироньский и доктор теологии, консисторский советник Карау; получился экуменический обряд, ибо в нем участвовали священнослужители католической и евангелической церквей, что вполне соответствовало не только смешанному составу наблюдательного совета, но и его решению не делить кладбище на части по различным вероисповеданиям, как это было на прежнем Сводном кладбище.
Открытие произошло без лишней шумихи. Газетчиков было мало, телевизионщики отсутствовали вовсе; впрочем, Решке частным образом заказал снять на видеокассету освящение кладбища и, – разумеется, с надлежащего расстояния, – первые захоронения. Эта получасовая кассета присовокуплена к присланным мне материалам. Я несколько раз просмотрел ее, поэтому, хотя она и не озвучена, мог бы считать, будто сам побывал на открытии и похоронах.
Освящение кладбища и оба первые захоронения, которые состоялись в правом дальнем углу территории, там, где аллея, ведущая к главному зданию Высшего технического училища, образует границу миротворческого кладбища, пришлись на первый день лета. Несмотря на прекрасную погоду, ясное небо с редкими облачками, любопытных, к счастью, собралось немного; поодаль робко жались в сторонке несколько старух и безработных. Во всяком случае, камера снимала лишь непосредственных участников похорон. Решке был, естественно, в новом черном костюме, шляпу он нес в руке, на которой висел и зонтик. Рядом с ним шла Александра в трауре; широкополая шляпа делала ее весьма элегантной. Иное дело маленькая, сморщенная Эрна Бракуп с ее горшкообразной шляпкой и галошами. Следом шагал Ежи Врубель. По бокам его лысины свисали длинные пряди, а на лице застыло свойственное художническим натурам вечное удивление. От неизменной ветровки, которую Решке не устает каждый раз упоминать в дневнике, Врубелю пришлось отказаться – она была бы для данного случая слишком неуместной.
В тот же самый день, именно 21 июня, в ином месте происходило важнейшее политическое событие, поэтому многие укрепились во мнении, что тандем Решке – Пентковская умело приспосабливает подобного рода ситуации к своим целям. Расчет, дескать, очевиден. Дневник утверждает обратное: никакого умысла не было, все получилось случайно, впрочем, можно говорить, конечно, и о счастливом совпадении. «В тот же день, даже в тот же час, когда мы освящали миротворческое кладбище, Бонн и Восточный Берлин, бундестаг и Народная палата приняли акты о международно-правовом признании западной границы Польши; это создает благоприятный климат для дальнейшего осуществления нашего замысла. Начиная с августа, можно будет, вероятно, отпевать покойных в бывшем ритуальном зале крематория. Кстати, белорусская община обставила это весьма строгое помещение с некоторой помпезностью, к которой тяготеет православная церковь…»
Собравшиеся стояли у открытых могил. Можно было подумать, что наша пара нарочно подобрала именно этих двух покойников – старика-лютеранина и старую католичку, которых похоронили друг за другом, так что две группы родственников и близких как бы оказались участницами обеих траурных церемоний. Да и погода не располагала к тому, чтобы спешить отсюда. Солнечные лучи, отфильтрованные раскидистыми кронами, мягко ложились на скорбные лица. На видеофильме все это очень хорошо получилось.
Хоронили Эгона Эггерта (82 года; прежний адрес: Данциг, Гроссе Кремергассе, 8; последнее место жительства: Беблинген) и Аугусту Кошник, урожденную Нассенхубен (91 год; прежний адрес: пригород Данцига; последнее место жительства: Пейне). Один гроб черного цвета, другой – орехового. Бироньский и служки в белом и фиолетовом, Карау – в брыжах и рясе.
По словам Решке, на похоронах присутствовали не только родственники или друзья покойных, но и наблюдатели от ряда отделений землячества, а его руководство прислало Иоганну Деттлафф. Они хотели убедиться, что нынешняя польская реальность позволяет организовать похороны на достойном уровне, а также взглянуть на расположение кладбища, узнать, каким будет уход за ним. Особый интерес проявлялся к парным могилам. Марта Эггерт, вдова Эгона Эггерта, смогла заручиться для себя местечком рядом с могилой мужа. Вполголоса задавались вопросы, на которые Ежи Врубель, чувствующий себя должностным лицом, давал обстоятельные ответы, стараясь выдерживать приличествующую моменту интонацию.
Даже потом, сидя над дневником, Решке не может избавиться от волнения, охватившего его на тех первых похоронах. При просмотре видеофильма мне почудилось, что у Пентковской во время обоих прощаний под широкими полями шляпы блеснули слезы. Молодой долговязый священник из Петровского собора в начале надгробной речи трогательно попросил извинения за свой «очень плохой немецкий». Немного затянулась проповедь консисторского советника Карау, который, пожалуй, чересчур часто и с излишним нажимом употреблял выражения «родимая земля» и «возвращение на родину». Приветствие от имени Союза данцигских беженцев по случаю торжественного открытия кладбища подготовила госпожа Деттлафф – если я при просмотре видеофильма угадал верно, то это была статная, со вкусом одетая дама в черном, – однако Решке уговорил ее произнести заготовленную речь в другой раз, когда возможные, пусть даже маленькие недоразумения будут менее неприятны.
Обе стороны проявили такт. Во всяком случае, пресса оценила первые похороны на миротворческом кладбище как вполне благопристойные и свободные от политических наслоений. Когда присутствующие подходили к ближайшим родственникам покойных, чтобы выразить соболезнование, видеокамера дала панораму парка, обвела перекрестье аллей, кольцевую дорожку, отдельные группы деревьев, вязы и каштаны, плакучие ивы и буки, а поскольку оператор был поляком, то вольно или невольно он проставил при этом свои акценты, захватив объективом обычных посетителей парка, женщин с малышами, пенсионеров, студентов с учебниками, играющих в карты, безработных, одинокого пьяницу, – и все они не обращали на траурную церемонию ни малейшего внимания. Затем в видеофильме появляется похожий на игрушку домик у входа в парк или на кладбище, а на желтой стене из клинкерного кирпича – латунная табличка с указанием по-немецки и по-польски будущего предназначения нынешнего парка: «Миротворческое кладбище» – «Cmentarz Pojednania».
Пожилым участникам похорон не понравилось, что молодежь, в том числе правнуки покойных, приехали на кладбище и вернулись оттуда в отель на велорикшах, хотя, по мнению Решке, «ничего неприличного не произошло; коляски были даже обвиты траурными лентами, как и такси, зато проезд стоил дешевле…»
То, что раньше называлось поминками, состоялось в отеле «Гевелиус». Обе группы разместились за длинными столами в ресторане. Судя по дневнику, госпожа Деттлафф произнесла все-таки свою речь, впрочем, вполне корректную. Видеосъемка, к сожалению, не производилась, а текст не сохранился. Но позднее, когда разговорилась Эрна Бракуп, Решке включил магнитофон. Слышу ее голос среди сопутствующих шумов и звуков: «Возьму-ка еще свининки. Коли послал Господь, грех отказываться… А похороны удались на славу. Все, конечно, по-другому, не так, как было на Сводном-то кладбище. А все одно – хорошо, так бы сама и легла в могилку. Эх, Йезус-Мария! Только я еще чуток погожу…»
***
Не знаю, о чем думал Решке, сопровождая записи о поминках в «Гевелиусе» сравнительным описанием погребальных обрядов у мексиканцев и китайцев, а также перечислением достоинств индуистского ритуала кремации. При этом он положительно отмечает «минимизацию останков» и даже рискует говорить об «экономии места». Неужели Решке опасался, что на миротворческом кладбище станет тесно и оно окажется переполненным? Или, возможно, он, выступающий против братских могил («Это не должно повториться!»), предвидел неизбежность тех или иных форм коллективных захоронений?
Побывав (в новом костюме, а при дожде – под зонтиком) еще на нескольких похоронах, чтобы вместе с Пентковской выразить соболезнование, а заодно приглядеть за порядком и, если понадобится, кое-что поправить, Решке уехал из Гданьска в Бохум, где ему предстояло обеспечить регулярное поступление покойных на миротворческое кладбище. В коротеньком, поспешном письмеце говорится: «Я поступил абсолютно правильно, дорогая, когда загодя обзавелся секретариатом. Госпожа фон Денквиц очень помогает мне в нашем деле. Она долгие годы работала моей секретаршей, ей я могу довериться целиком. Рад сообщить об отличном состоянии наших банковских счетов. Скоро наберется четвертый миллион. На особый счет для благотворительных пожертвований поступают наряду со скромными денежными переводами и весьма значительные суммы, в том числе из-за океана. Госпожа фон Денквиц работает теперь не по четыре часа, а полный день…»
Дела, таким образом, продвигались успешно, однако не обходилось без неприятностей; среди почты накопилось довольно много злых писем. Порою и газетчики соревновались в «ехидности и цинизме». Решке переживал это столь болезненно, что я задаюсь вопросом – не был ли мой прежний сосед по парте тем долговязым, прыщавым юнцом, который отличался ужасным самолюбием: малейшая критика доводила его до слез. Круглый отличник, он всем давал списывать, однако хотел, чтобы его везде и всегда хвалили, непременно хвалили. Когда же он нарисовал наш город разбомбленным и горящим, и этот, действительно не слишком удачный рисунок вызвал порицание учителей и насмешки товарищей, он разревелся. А ведь он оказался провидцем…
Во всяком случае, ярлык «неисправимого реваншиста» Решке счел попросту смехотворным. Обвиняли его и в стремлении «нажиться на покойниках». Одна из газетных статей под заголовком «Немецкий порядок кладбищу обеспечен!» дошла до упрека в том, что Решке, дескать, захотел «с помощью мертвецов отвоевать назад утраченные земли». На эту статью Решке, будучи завсегдатаем газетных колонок с читательскими письмами, ответил решительным протестом, а свою работу назвал «последней попыткой достичь взаимопонимания между народами».
Нет, вряд ли Решке был тем самым долговязым прыщавым мальчиком, который болезненно жаждал всеобщих похвал. К тому же, помнится, мой сосед по парте бойко командовал нашим гитлерюгендским отрядом и отличился не только в охоте за картофельным жуком, но и на сборе теплых вещей для солдат; в первую и вторую зиму русской кампании он организовал спецпункт, куда люди приносили шерстяные вещи, свитера и напульсники, кальсоны, даже шубы, не говоря уж о наушниках или лыжах. Все это упаковывалось и отсылалось на Восточный фронт. И все-таки злополучный рисунок был нарисован тем же самым мальчиком, командиром отряда Александром Решке; только он один обладал даром предвидения.
Впрочем, некоторое количество критических статей вполне уравновешивалось одобрительными откликами и письмами, исполненными признательности. Соотечественники писали даже из Америки и Австралии. Вот характерная цитата: «…меня очень порадовала последняя газетка нашего землячества, которая приходит сюда с большим опозданием. Она сообщила, что на Аллее Гинденбурга вновь открывается Сводное кладбище. Поздравляю! Для своих семидесяти пяти лет я еще бодр, до сих пор помогаю на стрижке овец, однако подумываю, не воспользоваться ли и мне замечательной возможностью, которую вы предоставляете. Не желаю лежать в чужой земле! Ни за что!» Со временем покойников, действительно, стали привозить и из-за океана.
На это письмо Решке ответил сам. Однако подавляющую часть корреспонденции он передоверил секретарше, которая за долгие годы совместной работы в совершенстве овладела его эпистолярным стилем. Иных интимностей между ними не было и вообще, ничего такого, что могло бы повредить Александре; признаться, и мне побочный сюжет был бы ни к чему.
Эрике фон Денквиц, чьей фотографии у меня нет, было всего пять лет, когда ее мать с тремя детьми, а также вместе с семьей управляющего имением отправилась на двух конских повозках, груженных поклажей, из Штума на запад. Участь беженцев оказалась ужасной, брат и сестра Эрики и жена управляющего умерли в дороге. Уцелела лишь одна конская повозка. Свои куклы маленькая Эрика потеряла.
Решке удивляется в своих записях тому, насколько глубоко засели в памяти его секретарши образы детства и подробности деревенской жизни в западной Пруссии: впрочем, госпожа фон Денквиц не захотела встать на компьютерный учет желающих получить место на данцигском кладбище. Причины ее сомнений понятны, и я не пытаюсь переубедить ее, пишет Решке, который продолжает «высоко ценить ее преданность, несмотря на отдельные разногласия». Спустя неделю Решке полностью передал секретариат в ее ведение. Что-что, а доверять мой одноклассник умел, иначе не сидел бы я сейчас над этими страницами.
***
Вернувшись в Гданьск, Александр первым делом успокоил свою Александру, встревоженную недавним введением единой валюты в обеих частях Германии. Ей чудилось, что западногерманская марка, подступая непосредственно к границе бедной Польши, несет с собою большую угрозу. «Ваши богачи купят нас с потрохами. И пикнуть не успеем!»
Решке же полагал, что немецкой марке хватит пока хлопот с экономикой ГДР. «Вряд ли останется много денег на Польшу. Ситуация, конечно, осложнилась, но наше акционерное общество практически не пострадает. Когда люди думают о смерти и откладывают на это деньги, то о рыночной конъюнктуре забывают. На собственных похоронах не экономят, поверь мне, дорогая!»
Этот разговор состоялся вскоре после возвращения Решке из Бохума, когда наша пара отправилась на выходные в Кашубию. Поехали на машине. Рапс уже отцвел, а погода оставалась хорошей. Кругом алели маки, желтели подсолнухи; крестьяне пахали на лошадях. С навозной кучи горланил петух, будто нарисованный в детской книжке.
Александра купила для пикника провизию, которую, устроившись у озерца под Цукау, они разложили на нарядной сине-голубой скатерке: чесночная колбаса, творог с репчатым и зеленым луком, банка маринованных огурчиков, редиска, крутые яйца (их было чересчур много), маринованные грибы, масло, хлеб и, разумеется, соль в солонке. Четыре бутылки пива охлаждались на поплескивающем мелководье. Среди камышей нашлась укромная песчаная проплешинка, как раз для двоих. Они примостились на складных стульчиках, он подвернул брючины.








