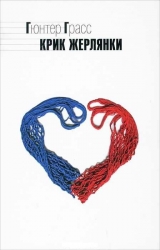
Текст книги "Крик жерлянки"
Автор книги: Гюнтер Грасс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
3
Отсюда мог бы начаться эпистолярный роман, похожий на обмен электрическими разрядами. Голоса звучат отчужденно, а молчание красноречиво и постоянно заставляет доискиваться до его смысла. Откровенность, не ведающая никаких ограничений, кроме знаков препинания. Истома вопросительных предложений. Любовь по переписке, не терпящая посторонних.
Впрочем, наша пара поспешила предать свой замысел огласке, поэтому на сцену выходят новые действующие лица, которые – в соответствии с учредительным уставом – захотят воспользоваться правом голоса и не пожелают оставаться статистами. Вскоре эти новые действующие лица потребуют установить, а главное – соблюдать регламент.
К отосланным мне вещам мой бывший одноклассник приложил свою авторучку, поэтому тут – в отличие от машины – можно оценить его выбор. Это черная авторучка марки «Монблан» с золотым пером, толстая, как бразильская сигара; он даже заполнил ее для меня фиолетовыми чернилами. Ах, Решке, пишу я его авторучкой, во что же ты меня втравил…
Свое первое письмо Александре он отправил еще из Польши, из познанского отеля «Меркурий», где остановился передохнуть. Проще всего было бы привести целиком это многостраничное послание, в котором соблюдены ровные поля, а почерк столь аккуратен, что хоть сейчас выставляй отличную оценку по чистописанию. Но нет, эпистолярного романа не будет. Кроме того, процитировать письмо целиком невозможно хотя бы потому, что три из пяти исписанных с обеих сторон листов занимают неоднократные обращения к любовным сценам, разыгравшимся минувшей ночью в узкой кровати одноместного гостиничного номера, причем значительную роль играет порою весьма поэтичная, а порою довольно пошлая генитальная метафорика.
Выспренность безудержных словоизлияний мешает понять, что же происходило на самом деле в слишком узкой для любовников постели, во всяком случае зрелый мужчина потерял голову, будто юнец. Поток непристойностей, словно прорвав запруду долголетнего воздержания, устремился на бумагу, испещряя страницу за страницей безукоризненно четким почерком и оставляя ровные поля. Да, эти эмоциональные перехлесты можно объяснить, недаром сам он – после барочно-длинной вереницы эпитетов – называет свой пенис «инфантильным переростком». Александра прямо-таки распирает мальчишеское желание срамословить, а в двух-трех местах письма он не может удержаться от напоминаний Александре тех фраз, которые она шептала ему в порыве страсти или потом, когда она просила не уходить от нее.
Вполне понятен протест Александры в ответном письме, которое, проплутав по неисповедимым почтовым путям Польши, дошло до Бохума лишь через десять суток. Дескать, та ночь, проведенная в узкой кровати, незабываема, и хотелось бы, чтобы она скорее повторилась, однако негоже впредь цитировать в письмах чересчур откровенные слова, подсказанные сильным чувством. «Цензуры я не боюсь, но не будем бестактны».
Последняя часть его письма выдержана во вполне деловом тоне и практически обходится без восклицательных знаков. Осторожно, делая всяческие оговорки, Решке тем не менее уверен, что у их общей идеи есть шансы на успех: «Люди достаточно настрадались от несправедливостей, в которых сами же и повинны, и вот теперь, когда горизонты светлеют и становится реальным то, что еще вчера казалось несбыточным, необходимо добиваться не только лучшего будущего для живых, но и дать возможность мертвым воспользоваться своим человеческим правом. В словах «кладбищенский покой» обычно чудится отрицательный смысл, ныне было бы возможно – ах, милая Александра, я уже вижу, как сослагательное наклонение вновь заставляет тебя недовольно наморщить лоб – нет, ныне совершенно необходимо наполнить эти слова новым содержанием. Пусть век изгнаний закончится под знаком обретения родины. Лишь тогда можно будет праздновать его завершение. Итак, никаких промедлений. Любимая, как я и обещал, сразу же по возвращении я свяжусь с некоторыми людьми и организациями, в том числе близкими к церкви, а также начну составлять картотеку…»
Пентковская планирует примерно то же самое: «Учти, почти каждый житель Гданьска и Гдыни, да и всего воеводства, является уроженцем виленского края и хотел бы, когда настанет срок, быть похороненным на родине. В церкви св. Варфоломея, что находится рядом с твоим отелем «Гевелиус», часто устраиваются встречи земляков из Вильно и Гродно. Я собираюсь написать оливскому епископу. Но действовать буду осторожно; с церковью всегда нужна осторожность, потому что здесь от нее зависит все…»
В последующих письмах Решке сумел обуздать свой темперамент, однако тема личных отношений или, как он выражается, «нашей несравненной любви» по-прежнему занимает в них существенное место. Буйство генитальной метафорики теперь поутихло, но мотив «слиянности» продолжает звучать то многоголосным органом, то одинокой струной. «Я вновь и вновь слышу внутри себя наш единый финальный аккорд, похожий на литургические «gloria» или «credo». Даже твой смех – хотя порой мне и кажется, будто ты смеешься надо мной, – не смолкает во мне. Я с болью прислушиваюсь к его отголоскам, потому что они обостряют чувство разлуки, которое стало теперь для меня радостным и одновременно томительным лейтмотивом».
Воздав похвалу каллиграфическому почерку Решке, не могу не пожаловаться на неразборчивость каракулей Пентковской. Она не ладит с немецкой орфографией и грамматикой, но беда не в этом, а в самом ее почерке – буквы то заваливаются на спину, то, наоборот, клонятся вперед так сильно, будто они стремятся опередить пишущую руку. И буквы, и слова страдают какой-то удивительной неустойчивостью. Они лезут друг на друга, теснятся, наступают соседям на пятки, не дают просвета и воздуха ни словам, ни строчкам. Но в то же время не могу отказать этой нестройной пляске букв в неизъяснимой визуальной прелести.
Удивительно, но вычитанный из этой кромешной неразберихи текст оказывается вполне связным, разумным и резонным. Если Решке дает слишком большую волю чувствам, то она пытается их осмыслить: «Может, мы столкнулись на рынке и случайно. Но когда мы не поделили цветы, а потом заспорили про деньги, я поняла, что этот странный господин оказался там не просто так…»
Признаюсь, Александра мне симпатична и мое отношение к ней нельзя считать непредвзятым, поэтому моим мнением, что вместо Решке ей больше подошел бы кто-либо другой, вполне можно пренебречь.
Пентковская никогда не называет Решке в письмах как-либо по-приятельски, например, – Алекс. Нет попыток ласково поддразнить его неким прозвищем, как это бывает у некоторых пар (возможно, тогда Решке получил бы, скажем, шутливое прозвище «Шаркун»). Лишь изредка в ее письмах появляется обращение «профессор, голубчик» как ответ на его чрезмерную увлеченность профессиональной тематикой.
Из предрождественских, рождественских и новогодних писем более или менее ясно, в каком направлении Пентковская и Решке ведут свою организационную работу. Александра, например, сообщает, что католическая церковь в лице оливского епископа «одобрила нашу идею и даже сочла ее «богоугодной», хотя отметила и трудности по ее реализации». «Это очень важно, – подчеркивает Александра. – Ведь правительства в Польше приходят и уходят, а церковь остается». Что же касается земляков польско-литовского происхождения, то они «лишь недоверчиво качают головами, когда слышат о нашем плане. Впрочем, он им по душе. Многие хотели бы быть похоронены на виленском кладбище. Некоторые плакали, так они были растроганы».
Решке рассказывает о своих первых контрактах с землячествами беженцев. «Эти люди куда менее реакционны, чем можно подумать по некоторым передовицам земляческих газет». Многие местные отделения из нижнесаксонских и шлезвиг-гольштайнских городов ответили на мой запрос вполне положительно, кое-кто проявил определенный скепсис. В одном письме был засвидетельствован «самый живой интерес к возможности вернуться на родину, пусть даже речь идет пока лишь о покойниках». Идея акционерного общества, которое возьмет на свое содержание кладбище для репатриантов, встречала, по словам Решке, на удивление доброжелательный отклик. «Разговоры с видными деятелями лютеранской церкви – беседа с католическими священнослужителями еще не состоялась – завершились успехом. Консисторский советник, уроженец Эльбинга, сказал мне, что подобный проект вызывает у него чувство оптимизма. Как видишь, дорогая Александра, имея дело со смертью, наш замысел несет в себе жизнеутверждающее начало, ибо внушает людям надежду. Как тут не вспомнить Пляску смерти, средневековый мотив, символизирующий мечту о равенстве перед лицом вечности. Сочетание гибельности и оптимизма; вспомни любекскую «Пляску смерти», к сожалению, уничтоженную войной, или произведение того же мастера Бернта Нотке, [14]14
Нотке Бернт (1440–1509) – художник, автор многих церковных росписей, в т. ч. знаменитого фриза «Пляска смерти».
[Закрыть]сохранившееся в Ревеле, – эта бесконечная вереница представителей всех сословий от патриция до ремесленника, от короля до нищего; все они несутся в разверзтую могилу, и так по сей день. Это характерно для эпох великих перемен с непредсказуемым исходом. Окольными ли, прямыми ли путями, но до нас дошли свидетельства тех колоссальных переворотов. Одни из них были разрушительны, другие, возможно, благотворны. Во всяком случае, я не могу безоговорочно разделять нынешнюю эйфорию, тем более, что для многих ей суждено смениться разочарованием. Я встретил закат «эры берлинской стены» с глубоким удовлетворением, однако меня беспокоят дурные предчувствия. Да, я колеблюсь, меня бросает из жара в озноб; слава Богу, у нас в отличие от Румынии обошлось без кровопролития, однако я не могу исключить мысли о жестокостях особого рода, ибо Германия всегда…»
Из этих строк видно, что переписка Александра и Александры испытывала на себе немалое влияние текущих политических событий. В одном из декабрьских писем – а всего их было четыре – Решке подробно информирует Пентковскую о дальнейших успехах совместного плана и тут же добавляет: «Намечающееся объединение Германии, как бы я его ни желал, начинает меня пугать».
Пентковская отвечает ему с поразительной твердостью, будто чем сильнее обесценивался злотый, тем меньше поляки боялись будущего: «Не понимаю тебя, Александр! Я, полька, ото всей души рада за твой народ. Тот, кто хочет единства польской нации, обязан приветствовать такое же единство немецкого народа. Неужели, по-твоему, в Гданьске должно быть два кладбища – одно для восточных покойников, а другое для западных?» Однако она тут же замечает, что необходимо решить проблему немецко-польской границы: «Иначе единство твоей нации станет опасным для всего мира, как это уже не раз бывало в истории».
Можно предположить, что натиск исторически значимых событий, которые будут увековечены календарями, грозил помешать зарождающейся любви; политика вмешивалась в интимную жизнь нашей пары, ибо даже до сновидений долетали «галоп мирового духа» и призывы с транспарантов. Усиленный мегафонами рев толпы «Мы – единый народ!» заглушал шепот влюбленных и их тихий обет: «Мы – единая плоть!»
Фотографии лейпцигского понедельника [15]15
9 октября 1989 года в Лейпциге состоялась семидесятитысячная демонстрация протеста, крупнейшая после июньского восстания 1953 года.
[Закрыть]облетели планету. Новогодний праздник у открытых Бранденбургских ворот вызвал сочувствие в индийских и бразильских трущобах, мировое сообщество глядело на Германию и удивлялось. Александра в Гданьске и Александр в Бохуме следили за этими событиями по телеэкрану. Разве мыслимо в такие часы оторваться от телевизора ради того, чтобы лишний раз взглянуть на фотографию с белыми грибами или же подержать на просвет кусочек янтаря величиною с грецкий орех?
Нет, любовь ничуть не пострадала. В своем рождественско-новогоднем письме Пентковская, которой обычно присущ более деловой тон, вспоминает худощавое тело Александра рядом с собою, над и под собою. Все осталось в ее памяти до осязаемости живо, уверяет она, например, то, как ее пальцы пересчитывали его «ребрышки». «Ты похож на мальчика!» – восклицает Александра. Даже скудость поросли на его груди умиляет ее. Однажды она употребляет словечко, подхваченное не иначе, как во время командировок в Трир или Кельн: «Ты меня замечательно трахал, и мне хочется этого еще и еще…»
Решке же теперь, напротив, избегает плотских нескромностей, он описывает свои чувства понятиями высокими, как бы вознося любовь на пьедестал. Эпохальные исторические события используются при этом вроде подъемного устройства. Так, в первые новогодние дни он пишет: «Встреча Нового года, состоявшаяся у знаменитых Бранденбургских ворот, архитектурного памятника классицизма, куда долгие годы вплоть до самого недавнего времени доступ был закрыт; завершение ровно в полночь прежнего десятилетия, кровавого, до конца бряцавшего оружием и потерпевшего неожиданный крах; начало нового десятилетия, с которым связаны мои тревоги и волнения, а вслед за его первым, уже необратимым мгновением буйное ликование и рев толпы, ибо берлинцы, да и жители других наших городов словно с ума посходили – все это самая читаемая газета, каждодневно обращающаяся к немецкому народу, охарактеризовала одним-единственным словом, вынесенным в заголовок: «НЕВЕРОЯТНО!» Да, Александра, этим словом положено начало следующему десятилетию. Оно звучит сегодня вместо приветствия, когда люди встречаются друг с другом. «Невероятно! Не правда ли?» – «Правда! Невероятно!» Все пронизано невероятностью. Где бы и что бы ни происходило, это слово заменяет любые объяснения случившемуся. И даже наша встреча – невероятная, безумная случайность, из разряда тех безумий, что возвышают и окрыляют любовь, но все же именно случай привел нас обоих к цветочнице, отправил на кладбище, усадил за стол с жареными грибами, позднее свел опять и, наконец, уложил нас вместе в узкую кровать. Я благословляю это невероятие и эту веру и говорю им – «да!», «да!» и еще раз «да!»…»
***
Позднее, примерно с середины января, все становится каким-то неопределенным. Мне трудно отчетливо представить себе мою пару, вижу лишь ее расплывчатую тень. Сохранились все письма этого периода; кого-либо другого, возможно, развлекло бы их воркование, постоянное возвращение к совместной идее-фикс, но мне нужна конкретика, а ее-то как раз и не хватает. Приходится цепляться за каждую деталь, выжимать до последней капли ту или иную подробность, чтобы сюжет развивался подинамичней.
Впрочем, такая ситуация вполне объяснима. Теперь Решке и Пентковская больше разговаривали по телефону, нежели переписывались, а от телефонных бесед в архиве ничего не сохранилось, если не считать обмолвок из писем или дневника о том, как сложно бывало дозвониться до Востока с Запада и наоборот. Эти слова оказываются не нейтральными обозначениями сторон света, а едва ли не олицетворением добра и зла: даже не названные, они присутствуют в письмах, подобно водяным знакам на бумаге. Но каждый из адресатов вкладывает в них свой смысл. Для Пентковской «Восток» связан с тяготами жизни, дороговизной, со столовыми для бедных – теперь поляк, предъявив «куроневку», то есть справку, названную по имени министра социального обеспечения Яцека Куроня, мог получить бесплатно тарелку супа; Решке же жалуется на западное потребительство, роскошь, грабительский курс немецкой валюты. Пентковская упрекает себя за то, что слишком долго не выходила из партии, и обвиняет коммунистов во всех смертных грехах, даже в косности католической церкви, чей догматизм оправдывался, дескать, противостоянием идеологическому догматизму коммунистов; Решке же возлагает на капитализм ответственность за все зло мира, а заодно и за собственные слабости: купив компьютер из соображений налоговой выгоды («это связано у нас с определенными льготами»), он корит себя за то, что поддался капиталистическому соблазну потребительства – «Ведь у нас в университете вполне достаточно вычислительной и информационной техники».
Решке сообщает о своей покупке как бы мимоходом, а между тем этому компьютеру предстоит сыграть немалую роль при создании акционерного общества, хотя поначалу Решке чувствует себя в компьютерных делах дилетантом. Речь идет, вероятно, о модели фирмы «Apple». Впрочем, точных данных, технических характеристик у меня нет, а поскольку сам я упрямо пренебрегаю этой штуковиной в собственной работе, то мне неохота высасывать их из пальца.
Так или иначе, Решке вскоре уже называет свой безымянный компьютер «полезным приобретением», и оно действительно оправдывает себя тем, что на основании статистики и сведений от местных организаций союзов беженцев удалось спрогнозировать, сколько «желающих», как называет их Решке безо всякой иронии, хотело бы приобрести место на кладбище в Польше. «Таковых набралось около тридцати тысяч, – пишет Решке, – и они готовы внести по тысяче марок задатка, не говоря уж о последующих выплатах из больничных и страховых касс. При надежных гарантиях для создания нашего кладбища можно рассчитывать на стартовый капитал в 28 миллионов, не меньше. Правда, треть нужно зарезервировать для виленского кладбища и положить на особый счет, ибо литовцы, несомненно, захотят твердую валюту за предоставление полякам возможности быть похороненными на родине. Тут уж, милая Александра, ничего не поделаешь. Мы сумеем исполнить наш замысел лишь благодаря немецкой марке…»
Прежние жители Данцига, бывшего до 1939 года вольным городом и позднее присоединенного к рейху, а также прежние жители данцигских окрестностей нашли свою вторую родину преимущественно в Шлезвиг-Гольштайне, Гамбурге, Бремене и Нижней Саксонии – ну, если не вторую родину, то по крайней мере приют и сносные условия жизни; добавив запад и юг Германии, компьютер насчитал еще пятнадцать тысяч «желающих». Мой одноклассник прогнозировал и дополнительный контингент, который может появиться после воссоединения Германии, правда, «для восточных немцев первичный взнос придется снизить до пятисот марок, ибо здесь население столкнется с теми же застарелыми проблемами, что и в Польше, хотя возможно, у восточных немцев дела пойдут лучше. Ведь у вас нет «старшего брата», который знает ответ на любой вопрос…»
Решке явно увлекся своим компьютером. Его письма запестрели терминами «монитор», «сеть», «дисплей». Он объяснял Александре, что ROM или Read Only Memory – это постоянное запоминающее устройство, то есть рабочая память с набором инструкций. Поскольку идея создания кладбища находила положительный отклик, к Решке начали стекаться различные материалы, которые он с помощью keyboard (клавиатура) вводил в компьютер или записывал на hard disks (жесткие диски). Нельзя сказать, чтобы компьютер заменил Александру далекую возлюбленную, но говорит он о нем с нежностью: «…как поведал мне тихонько гудящий, ритмично пощелкивающий и такой деликатный собеседник, начальный капитал нашей фирмы превзойдет, судя по всему, мои предварительные оценки…»
Никогда бы не предположил у Решке подобных технических способностей. Поначалу он еще оправдывал необходимость компьютера своей научной работой и перечислял, сколько полезных сведений умещается в электронной памяти: цитаты, библиография, подробности всего завитушечного многообразия барочной эмблематики, но вскоре профессор стал пичкать сей «продукт капиталистического развития» почти исключительно информацией, связанной с экономическими предпосылками польско-немецко-литовского акционерного общества.
Посмотрев полученные через университетскую библиотеку годовые подшивки ежемесячного журнала «Наш Данциг», Решке занес в память компьютера – вижу, как он сидит в домашних тапочках перед дисплеем своего Apple – сведения, почерпнутые с последних страниц этого издания. Там публиковались извещения о смерти, поздравления к юбилеям, к серебряным, золотым или бриллиантовым свадьбам, а также в связи с «уходом на заслуженный отдых». Фотографии встреч бывших выпускников и подписи под этими фотографиями позволяли подсчитать, скольких тогдашних учеников, а ныне весьма пожилых людей «тянет навестить покинутую родину». Здесь же публиковались старые фотографии целых классов из начальных и средних школ, училищ, лицеев, гимназий, которые запечатлели ряды сидящих на полу, на скамье, стоящих позади скамьи и, наконец, стоящих на скамье мальчиков и девочек, указанных в пофамильных списках под каждой фотографией. Проборы у мальчиков и косы у девочек, отложные воротнички и банты, гольфы и носочки, ухмылки, улыбки и скованность, серьезность, а по бокам от ребят – директор и учителя. По этим материалам Решке мог судить о долголетии многих из беженцев. Кстати, он нередко колеблется между понятиями «переселенец» и «беженец»; подразумевая одно, он говорит порой совсем другое и даже называет наших постаревших соотечественников «переселенными беженцами».
В доказательство завидного долголетия Решке выслал Пентковской несколько скопированных из журнала поздравлений ко дню рождения, к юбилею, а также несколько извещений о смерти: например, Аугустин Хабернолль одновременно отпраздновал свое девяностопятилетие и семидесятипятилетний профессиональный юбилей в качестве органиста; Фрида Книппель отметила в полном здравии свой восемьдесят шестой день рождения, а Отто Машке скончался после продолжительной болезни на девяносто втором году.
Вот что читала Александра: «Разве подобное долголетие бывших переселенцев не подает нам знака о том, с каким нетерпением, страстным желанием дожидаются теперь эти люди нашего кладбища? По-моему, именно страх перед до сих пор неизбежным погребением в чужой земле и надежда дожить до возможности обрести последний покой на родине продлевают век моих земляков. Растет число столетних мужчин и женщин. Очередь становится все длиннее. Мне слышится зов стариков: «Спешите! Не заставляйте нас долее ждать!» Мне нравится, что в данцигском журнале, довольно консервативном (его издатели все еще надеются повернуть историю вспять), вместе со старым адресом юбиляра, допустим: «Прежнее место жительства: Данциг, Ам Браузенден Вассер, 3б», указывается и новый адрес: «Ныне: 2300 Киль 1, Лорнзенштрассе, 57». Мне удалось собрать таким образом более тысячи адресов, и мой компьютер получает ежедневно все новую пищу. Большинство землячеств и их местных организаций откликнулись на мою просьбу о распространении среди своих членов подготовленной мною анкеты. Семьдесят два процента желают быть похороненными на родине и поддерживают нашу идею о создании кладбища. При этом пятьдесят один процент хотели бы как можно скорее выплатить свой взнос целиком, тридцать пять процентов предпочитают оплату долями, а остальные пока не приняли определенного решения. Я несколько раз перепроверял расчеты и неизменно поражался замечательным возможностям моего компьютера, который раньше считал бездушной железякой и поэтому не слишком ему доверял. Вскоре мы обязательно поставим такое же чудо современной техники в твоей квартире на Хундегассе. Уверен, что моя Александра научится обращаться с ним гораздо быстрее меня».
По поводу возможных перемен у себя дома Пентковская заметила: «Всегда-то немец знает, чему нам, полякам, следует научиться…»
Это было в конце февраля, когда Восточная Германия стремительно разбегалась на Запад, а Решке ежедневно суммировал данные о нынешних беженцах. Подсчеты показали, что за короткий срок восточная часть готовой к воссоединению Германии может вконец обезлюдеть. В дневнике говорится: «Последние события вызывают у меня тревогу за наш общий замысел, который может погибнуть под тяжестью проблем внутринемецкой несовместимости…»
От Пентковской незамедлительно пришел ответ, в котором она, желая, видимо, успокоить Решке, сравнивает постоянно хмурую физиономию своего премьер-министра с обычно жизнерадостным выражением лица западногерманского канцлера: «Тебе ли жаловаться, Александр? Если бедной Польше достался Рыцарь Печального Образа, то ваш толстый Санчо Панса вечно улыбается…»
***
По-моему, пора дать волю моей досаде. Какое мне, собственно, дело до их переписки? Какое отношение имеют ко мне его компьютерные забавы? Почему этот сюжет до сих пор занимает мое воображение? Разве не ясно, что их история стала банальной, а бизнес на покойниках обречен на успех? Неужели я должен снова глотать по чужой прихоти лягушек? Ради чего?
Аккуратные или неряшливые, их февральские письма оправдывают мое раздражение. Пентковская сообщает, что ее сын, ныне бременский студент, осудил планы матери и ее ухажера создать акционерное общество, то бишь кладбище, как «типичный продукт мелкобуржуазного идеализма». «Витольд любит позлить меня. Он уверяет, будто стал троцкистом в отместку за то, что я слишком долго пробыла в партии. И подружки у него, мол, нет, потому что мне бы этого очень хотелось. А еще он называет наш план результатом извращенного мировоззрения».
Решке отвечает ей жалобами на «эгоистическую нечуткость» по крайней мере двух из трех своих дочерей: старшая упрекает отца в «пережитках патриотического культа», средняя и того пуще – в «некрофильствующем реваншизме». Младшая дочь отмалчивается, но, видимо, лишь из-за полнейшего равнодушия к отцовской затее.
Далее он досадует на университетских бюрократов, на поражение сандинистов в ходе последних выборов, на погоду и на неонационалистические настроения среди своих коллег. Пентковская же обходится без сетований, когда рассказывает о нынешней работе в Мариинском соборе: «Там стоят большие астрономические часы. Сделал их, как тебе известно, Ганс Дюрингер. По преданию, он сам же их и сломал, после того, как патриции велели ослепить его, выколоть глаза, чтобы он никогда больше не создал столь же чудесных часов. Теперь я занимаюсь их реставрацией…»
Работа Александры состояла в восстановлении позолоты на разных кругах циферблата, например, на числах церковных праздников. Когда Александра писала это письмо, она как раз занималась декабрьскими праздниками – днем св. Барбары, св. Николая, св. Люции и Непорочного зачатия. А впереди были еще Золотое число, Лунный круг с числами от единицы до девятнадцати, двенадцать часовых делений с золотыми цифрами на внешней окружности циферблата и золотые знаки зодиака на его внутренней окружности. «На Льве осталось больше всего следов первой позолоты. Предвкушаю удовольствие от работы над ним. Ведь я родилась под знаком Льва…»
Итак, наша пара прилежно трудилась. Опять меня потихоньку разбирает любопытство. К счастью, ни его, ни ее жизнь не была подчинена одной лишь идее-фикс. Пока Пентковская золотила остановившееся время, профессор Решке придумывал темы для занятий со своими студентами. «Твой подарок, который мне очень дорог, навел меня на одну мысль, отвлекшую меня от университетских дрязг и интриг; я затеял семинар по предметам бытового обихода, которые использовались для покупок того, что потребно в домашнем хозяйстве. Подразумевалось все, что так или иначе запечатлено произведениями изобразительного искусства: корзинки, короба, мешки, кошели, авоськи, сумки, котомки, рюкзаки, которые снова вошли в моду у молодежи, к сожалению, вместе с безобразными полиэтиленовыми пакетами. Особенно много материала дают, конечно, малые голландцы. Начиная с позднеготического периода на ксилографиях появляются поясные кошельки, сделанные порой весьма искусно. Современные же художники, вплоть до Бойса, [16]16
Бойс Йозеф (1921–1986) – немецкий художник и скульптор.
[Закрыть]прямо-таки упиваются бытовыми предметами; тут все идет в ход, даже войлочные шлепанцы. Между прочим, Ходовецкий – помнишь наш спор? – изобразил на своих гравюрах и рисунках немало полезных вещей из домашнего обихода, особенно на листах, созданных во время путешествия из Берлина в Данциг, а также в самом Данциге – взять, к примеру, прелестный набросок служанки с корзиной. Эти работы привели в восторг моих студентов. Они совсем обезумели от восхищения, когда я принес им – надеюсь, ты не возражаешь? – твой подарок. Мне хотелось дать им наглядный пример, перекинуть мостик между искусством и бытом. Не удивительно, что две студентки, а за ними один студент принялись плести авоськи с зубчатым узором. За образец взята твоя авоська – впрочем, я ведь уже могу считать ее моей, не правда ли?..»
Вероятно, повседневный контакт с астрономическими часами пробудил у Пентковской, натуры довольно-таки приземленной, тягу к отвлеченным философским размышлениям, ибо в ее первом мартовском письме говорится: «Надо спешить. Ведь время идет. Дело не только в том, что немцы после объединения могут забыть про наше кладбище. Все идет на убыль. Понимаешь, наступает дефицит времени, как раньше у нас был дефицит мяса или сахара. Сейчас в магазинах полно продуктов, только больно уж все дорого. Теперь не хватает денег. Нам тоже не хватит времени, если мы не будем спешить…»
Такие же тревоги испытывал и Решке, правда, в те дни его больше беспокоили капризы погоды, нежели быстротечность времени. «25 января через Англию, Бельгию и север Франции пронесся ураган, натворивший немало бед. Есть жертвы. А за этим первым ураганом последовали еще пять. Они учинили в и без того больных лесах жуткий бурелом. Людям страшно. В Дюссельдорфе и других городах отменены традиционные карнавальные шествия. Прежде такого никогда не бывало. Зато между ненастьями погода стоит теплая, даже слишком теплая для февраля. Настоящей зимы у нас давно не видали. С середины месяца в палисадниках и парках распустились шафран и другие цветы. Видишь ли, Александра, подобные аномалии тревожат не только меня, но и моих университетских коллег, которые занимаются климатологией; причиной мощных ураганов они, при всей осторожности оценок, свойственной серьезным ученым, считают так называемый парниковый эффект. Прилагаю несколько статей на эту тему, поскольку не знаю, пишут ли ваши газеты о глобальных изменениях климата. У нас слышны серьезные опасения… Впрочем, догадываюсь, у вас сейчас иные заботы…»
***
Решке и университет. Следует, пожалуй, охарактеризовать моего бывшего одноклассника более полно, нежели это делает его переписка. Отчасти такую возможность дает другой присланный мне материал, иначе пришлось бы прибегнуть к изысканиям и расспросам. Кое-что можно позаимствовать из моих собственных школьных воспоминаний, правда, довольно смутных: вот мы оба, хоть и соседи по парте, стоим в разных отрядах на утренней линейке «гитлерюгенда» или перед трибуной для руководства и почетных гостей на Майском поле, которое называлось раньше Малым плацем и находилось рядом со спортзалом.
Решке учился в Гейдельберге, защитился в Гамбурге, где вскоре после депортации поселился его отец, почтовый служащий. Позднее, уже в сорок лет, Решке стал профессором. Он получил профессуру в Бохуме, в Рурском университете. Возможно, этому способствовали политические перемены конца шестидесятых годов; не один ассистент, доцент или профессор обязан успешной академической карьерой тем временам. Решке казался тогда радикалом по своим взглядам на реформу высшего образования, на участие студентов в управлении учебным процессом и особенно по своей трактовке исторического искусствознания. Он настаивал на изучении мира труда, каким тот запечатлен в изобразительном и прикладном искусстве. Докторская диссертация о надгробиях содержит основные положения его концепции, получившей позже свое развитие. Диссертация рассматривала детально описанные погребальные обряды как модель, отражающую социальную структуру общества с его полюсами, которым, с одной стороны, соответствует нищенский погост, а с другой – родовой княжеский склеп.








