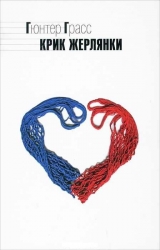
Текст книги "Крик жерлянки"
Автор книги: Гюнтер Грасс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Позднее Решке написал: «Не знаю, откуда у Александры берутся душевные силы, чтобы сохранять в таких случаях спокойствие и быстро приходить в отличное настроение. Когда мы, наконец, вернулись домой и, чокнувшись, пожелали друг другу счастья в Новом году, она попросила меня включить хорошую музыку. Пока я искал что-либо подходящее, Александра зажгла на еловых ветках две свечки и сказала: «А я понимаю твоих дочерей. Отчасти и Витольда. Они – совсем другое поколение. Им не довелось пережить того, что пережили мы, когда тебя выгоняют из дома на улицу в холод. Все у них есть, и ничего-то они не знают». Мне остается лишь гадать, какую музыку подобрал Решке. Наверняка что-нибудь классическое. В дневнике о музыке почти ничего не говорится. Не упоминается ни один из композиторов, даже Шопен. Впрочем, и о праздниках больше ничего не сказано, если не считать замечание о том, что погода была теплой, слишком теплой: «Опять Рождество без снега…»
***
Когда по истечении первой январской недели наша пара вернулась в трехкомнатную квартиру на Хундегассе, зима все же взяла свое. Похолодало, выпал снег и не стаял, а остался лежать. Решке замечает: «Природа как бы извиняется за долгое бесснежье. На крышах старых домов – белые шапки. Ах, до чего я соскучился по скрипу снега, по отпечаткам подошв на снегу. Александре пришлось отказаться от своих туфелек на шпильках…»
Эта дневниковая запись достаточно оправдывает покупку «ужасно дорогих сапожек на меху» для Пентковской, себе Решке также купил теплую обувь. Снарядившись таким образом, они совершали прогулки к Леегским воротам или отправлялись вместе с Врубелем на старое Сальваторское кладбище на берегу Радауны, которое хотя и было ликвидировано, тем не менее его территория в полтора гектара вполне угадывалась даже под сугробами; вероятно, порою, когда занятость мешала Врубелю присоединиться к ним, они ходили вдвоем по левой стороне Большой аллеи к миротворческому кладбищу. Хорошо представляю их себе: она – кругленькая, в меховой шапке, он – в черном пальто свободного покроя; Решке идет, наклоняясь вперед, будто против ветра, хотя никакого ветра нет, зато морозно. Поскольку и на нем меховая шапка, возникает вопрос – обновка ли это, или же Александра достала ему шапку из старых пронафталиненных запасов?
Глядя на фотографии, можно строить догадки, выдвигать предположения. Пентковская и Решке не раз фотографировались на улице, на миротворческом кладбище, многие из фотоснимков – цветные.
Захоронения пришлось приостановить. Земля сильно промерзла, и копать ее было невозможно. При минус семнадцати не удавалось захоронить, как следует, даже урну. Решке пишет: «Хорошо побыть среди могил вдвоем. Удивительно, до чего быстро заполнились ряды. Холмик за холмиком. Весною будет занята вся правая верхняя четверть кладбища. Нижняя четверть, отведенная под урны, тоже будет заполнена. Хотя каждая могила оформляется по желанию семьи индивидуально, однако снег делает их однообразными. Впечатление однообразия усиливается скромными временными крестами, на которых значатся только имена и даты; все плотно укутано снегом – самшитовые бордюры, еловый лапник, которым на зиму прикрыты могилы. На урнах тоже белые шапки, которые рассмешили Александру. Впервые слышу, как она смеется, когда кругом снег. Она опять весела. «Смешные у вас горшки. На польских кладбищах таких нет. У нас все делается строго по католическому обряду». Позднее наше уединение было нарушено. Очень тепло одетая, к нам приплелась в своих валенках Эрна Бракуп, которая без остановки что-то бормотала..»
Я весьма признателен Решке за то, что, вернувшись с кладбища, он сразу же записал словоизлияния этой старой женщины, не пытаясь стилистически выправить ее бормотание.
«Видали по телевизору войну с арабами?» Эту фразу Эрна Бракуп выкрикнула вместо приветствия. Именно ее словами отмечено в дневнике начало войны в Персидском заливе. «От веку так повелось. Ежели те, кто наверху, не знают, что дальше делать, так затевают войну. Сперва-то я думала, что фейерверк показывают. Раньше в Домиников день завсегда фейерверки пускали. Потом уж скумекала: это они всех арабов перебить решили. А за что, спрашивается? Не люди они нешто, арабы-то? Может, они и сотворили что не так… Только ведь и всяк не без греха. Вот я и спрашиваю вас, господин профессор! Неужто на свете вовсе милосердия больше нету?..»
Не знаю, кто взялся объяснить старой, уже пережившей свой век женщине смысл войны в Персидском заливе, Решке или Пентковская. Прямого указания на сей счет дневник не дает. Замечание Решке о том, что Бракуп опять в курсе новейших событий – «Удивительно, до чего живо интересуется она происходящим вокруг…» – никак не характеризует его отношения к современной разрушительной технике, которая торжествовала на телеэкране свой триумф. Судя по дневнику, мнение Решке, как всегда, раздваивалось: с одной стороны, он оправдывал эту войну, а с другой – называл ее варварской бойней. Пока не истек срок ультиматума, его, главным образом, возмущали поставки немецкого оружия Ираку, причем это возмущение носило довольно общий характер – например, Решке именует боевые химические вещества «немецкой отравой», но одновременно пишет: «Похоже, люди сознательно стремятся истребить друг друга, чтобы на земле вообще никого не осталось…»
Решке сфотографировал Эрну Бракуп в снегу, а та сняла нашу пару между могильных холмиков, заснеженных урн и как бы обсыпанных сахарной пудрой кладбищенских лип. Все эти фотографии напоминают мне о январских морозах, январском солнце, белом снеге с голубыми тенями. Как выглядела наша пара на фоне зимнего пейзажа, уже известно; новой тут оказалась Эрна Бракуп.
В несколько слоев обмотанная платком, маленькая, уже ссохшаяся старушечья головка, из-под этого мотка выглядывают лишь узко посаженные глаза, покрасневший нос и впалый рот, который бормочет в кладбищенскую тишину: «Когда война кончится, будет там то же самое, что было тут, в Данциге. Кругом разруха. И мертвецов бессчетно…»
Странной и совершенно не подходящей для архива представляется фотография, которую, вероятно, сняла Пентковская. Решке вместе с Бракуп – на кольцевой аллее. Они застигнуты в движении, поэтому изображение получилось немного смазанным. Эрна Бракуп, прочно расставив ноги в валенках, оставшихся еще с военной поры, бросила снежок и попала в цель. Снежок аж рассыпался. Решке замахнулся для ответного броска, шапка съехала набок. Детская война, игра в снежки.
***
Холода стояли до середины февраля. Кладбище будто вымерло. Однако вынужденное затишье отнюдь не оставалось бездеятельным. Несколько бывших профсоюзных домов отдыха начали работать как приюты для престарелых. В других – неплохими темпами продвигался ремонт. Медленнее шли дела с виллами и особняками на Пелонкенском проезде. Решке упоминает их лишь вскользь; у него с Пентковской не находилось аргументов против все новых и новых арендных договоров, а правом решающего голоса в наблюдательном совете распорядители не обладали.
Теперь этот проект под названием «На склоне лет – в родном краю», вовсю разрекламированный роскошными проспектами, приобрел вполне самостоятельное значение. Росло количество желающих. Пришлось завести списки очередников. Были заключены арендные договоры еще на восемь зданий, в том числе на обанкротившиеся гостиницы; разумеется, договоры предусматривали преимущественное право на приобретение арендованного здания. Фильбранд отдавал немало времени новому делу, тем более что его собственная фирма, специализирующаяся на системах подогрева полов, получила для себя широкий фронт работ.
На какое-то время этот проект увлек даже Решке с Пентковской. Их поразила жизнерадостность многих стариков, – а в первых пяти приютах разместилось более шестисот человек, – поэтому задним числом распорядители одобрили решение наблюдательного совета. Решке выделил дополнительные суммы из своих хранимых в тайне «резервов», когда решался вопрос о строительстве геронтологической клиники, которую собирались оборудовать по западным стандартам. После непродолжительного подъема сил, связанного с радостью возвращения на родину, старикам и старушкам вновь напомнили о себе их возрастные недуги, больше того, кое у кого перемена места, пусть долгожданная и желанная, в конечном счете отрицательно сказалась на состоянии здоровья. Геронтологическая клиника была необходима из-за ненадежности польских больниц, однако на переходный период к их услугам пришлось все-таки обратиться. Так или иначе, смертность в приютах возрастала. К концу февраля, по признанию даже Фильбранда, возникла критическая ситуация.
Решке, первоначальные опасения которого подтвердились участившимися смертями, тем не менее отверг упрек одного западногерманского журнала, пришедшего к выводу, что «ради извлечения прибыли из ностальгии стариков им строят мрачные ночлежки и едва ли не «покойницкие», которые необходимо прикрыть». В своем опровержении Решке, как распорядитель немецко-польского акционерного общества, указал прежде всего на преклонный – или, по его выражению, «библейский» – возраст умерших. Из тридцати восьми смертных случаев, имевших место со дня открытия первого приюта, семь человек умерли в возрасте от девяноста до почти ста лет; ни один из покойных не был моложе семидесяти. Важно далее учесть, что переезд в Польшу был неизменно исполнением твердой воли покойного, которая повторяется во множестве писем и может быть выражена словами: «Хотим умереть на родине».
От имени наблюдательного совета Фильбранд поблагодарил Решке за четкое опровержение. В дневнике читаю слова, отчасти оправдывающие Фильбранда: «Недавно у нас состоялась беседа с глазу на глаз. Поразительно, до чего серьезна его заинтересованность в экономическом оздоровлении Польши. Трогательна готовность не щадить своих сил. Когда Герхард Фильбранд повторяет «Польше не хватает здорового среднего сословия», то не только Марчак с Бироньским начинают утвердительно кивать головами, но и Врубель с Александрой; кивают все, а потому иногда киваю даже я».
И все же конфликт назревал. Уже на заседании в начале марта почувствовалась нервозность. Фильбранд внес предложение – как всегда, в форме сопоставления затрат и прибыли, результат которого, естественно, оказывался положительным; этим предложением поначалу заинтересовался лишь вице-директор Национального банка. Предусматривалось выделить место для перезахоронения останков, привозимых из Германии в Польшу. Марчак, сразу же поддержавший это предложение, даже назвал дату, с которой мог бы начаться отсчет, – 1 декабря 1970 года, день, когда в Варшаве был подписан первый немецко-польский договор. Всем переселенцам, умершим позднее этой даты, предоставилась бы возможность перенесения их останков на родину. В заключение Фильбранд сказал: «Можно смело рассчитывать на тридцать тысяч заявок и даже больше. Все это, несомненно, окупится. Естественно, я тоже намереваюсь перезахоронить моих родителей, которые умерли в конце семидесятых годов. Наши польские друзья могут быть уверены, что я вполне сознаю, о сколь солидных суммах идет речь. Однако когда дело касается примирения наших народов, то это стоит любых затрат».
Были названы числа с изрядным количеством нулей, хотя имелась в виду твердая валюта. Говорилось о том, что оплата перезахоронения должна быть существенно выше, чем оплата обычных похорон. Тем не менее польская сторона, если не считать вице-директора, проявила сдержанность. Стефан Бироньский как священнослужитель решительно высказался против. Ежи Врубель тихим, но явно взволнованным голосом сказал, что в подобных планах есть «антигуманный элемент». Пентковская, громко рассмеявшись, спросила Фильбранда, насколько его предложение «послужит оздоровлению среднего сословия в Польше». Возник спор, даже перебранка. Короче, то, что было названо Фильбрандом «Проект перезахоронений» и что было дипломатично переименовано Марчаком в «Расширение спектра ритуальных услуг, предоставляемых кладбищем», не получило бы большинства голосов и оказалось бы погребено под лавиной возражений, если бы в Александре Решке вновь не победил профессор.
Он не удержался от того, чтобы прочитать наблюдательному совету целую лекцию, которая названа в дневнике «кратким экскурсом». Последовало довольно нудное изложение имевшихся у Решке сведений о том, как осуществлялись захоронения в церквях. Решке подробно рассказал о высеченных на напольных надгробиях определенных сроках, по истечении которых останки переносились в иное место, а также о перезахоронении праха из семейных могил в родовые склепы приходских церквей; но место там было ограниченным, поэтому небольшие погребальные лари доверху заполнялись черепами, костями и тем самым, по выражению Решке, становились «наглядными символами смерти».
Уверен, что свою лекцию, которая, в конце концов, все испортила, профессор приукрасил рассказами о находках, показанных ему Ежи Врубелем в развалинах церкви св. Иоанна сравнительно недавно, в середине февраля, когда поослабли морозы.
Они пролезли через ограду, легко отодвинули доски, прикрывающие вход в правый портал; Врубель шел впереди. Решке с восхищенным ужасом пишет: «Какое зрелище! В полумраке среди строительных лесов, балок, треснувших могильных плит, превратившихся в щебень готических сводов лежат свидетельства людской бренности: мелкие косточки, осколки черепов, тазовые кости, ключицы и позвонки. Впечатление было таким, будто война свершила все это лишь вчера, когда город разрушился под градом бомб, снарядов и погиб в пламени пожаров. Я явственно представлял себе эту картину, хотя покинул город, пока он оставался целым… Слава Богу, в центральном нефе кто-то уже начал собирать кости в ящики.
Надпись с одного из них Ежи мне перевел: «Осторожно: стекло!» Но куда их деть? Не могут же эти ящики оставаться здесь, среди окурков и пивных бутылок. Если уж невозможно оборудовать настоящий костник, надо хотя бы вырыть особую яму, а потом закрыть ее. Например, у основания церковной колокольни… Позднее я обнаружил под щебнем, справа от разрушенного главного алтаря полупровалившиеся в могилы надгробные плиты, на одной из которых значились фамилии двух капитанов – церковь св. Иоанна покровительствовала морякам, парусных дел мастерам и рыбакам – и известняковую плиту с неразборчивым именем и барельефом: две руки, обхватившие чашу. Там тоже лежали кости и осколки черепов…»
Вот этими-то подробностями, освободив их от барочной мрачности, и воспользовался Фильбранд после того, как он поблагодарил господина профессора за обстоятельное сообщение: дескать, перезахоронения ставили и ставят прежде всего проблему экономии места. Большое количество заявок потребует такой экономии. Можно было бы устроить, например, общую могилу для каждых пятидесяти вторичных захоронений. При этом фамилии перезахороненных будут высечены на скромном камне, в алфавитном порядке. Или же, что, вероятно, больше понравится господину профессору, надпись можно сделать на намогильной плите. Можно предусмотреть традиционную символику, вроде упомянутой чаши. Каждая проблема имеет свое решение. Нужно только желание, а выход всегда найдется».
Однако пока никто своего желания не изъявлял. Решке возразил против произвольного истолкования строго научных данных; и вообще, исторические «костники» – это, так сказать, «устаревшая модель». Консисторский советник Карау признался, что его «терзают сомнения». Госпожа Иоганна Деттлафф заявила: «Меня до сих пор смущает внесенное предложение; какое-то оно жутковатое». Бироньский и Врубель подтвердили свое решительное несогласие. Марчак проговорил неуверенно: «Возможно, со временем…» Александре удалось прекратить эти прения, возникшие после выступления Решке; она напомнила о парной могиле своих родителей на Хагельсбергском кладбище и высказала категорическое мнение, что даже если бы перенос их праха в Вильно был и впрямь возможен, то она бы на это никогда не согласилась: «Кто уже погребен, должен оставаться в своей могиле».
Так что поначалу предложение не приняли. Марчак отложил голосование. В последнем пункте повестки дня обсуждалось «разное», а именно сообщения о реакции общественности. С удовлетворением был воспринят положительный итог дебатов в сейме по вопросу о немецко-польском акционерном обществе. Бывший депутат от коммунистов заподозрил в этом миротворческом начинании «замаскированный реваншизм». В пылу полемики была произнесена даже такая фраза: «Полчища немецких мертвецов ринулись отвоевывать наши западные провинции!» Марчак доложил, что целый ряд депутатов сейма отверг подобные заявления и разоблачил их как «сталинскую пропаганду», после чего Марчак пригласил собравшихся в бар отеля на бокал вина.
Конференц-зал на последнем этаже семнадцатиэтажного отеля «Гевелиус» представляет собою помещение, составленное из двух обычных гостиничных номеров, между которыми убрана стенная перегородка. Замечателен был разве что вид сверху из окон на все башни Старого и Правого города. Благодаря Марчаку, его шарму заседания наблюдательного совета проходили вполне корректно и даже при острых разногласиях не превращались в обмен личными выпадами, хотя словесные перепалки на двух языках, а порою еще и по-английски, оказывались довольно-таки взрывоопасными. Всегда со вкусом одетый, сияющий большими залысинами, очень высоким и словно отполированным лбом, Марчак, которому было лет сорок пять, умел погасить страсти своих разноязыких собеседников, смягчить резкость их реплик; делал он это с помощью жестов, будто дирижер: тут приглушит, там успокоит, порой даже скажет несколько слов по-французски. Длинноты Врубеля он сокращал промежуточными вопросами. Карау, с его проповедническим жаром, услышав от Марчака подходящую цитату из Библии, остывал и приходил в себя. Настойчивое требование госпожи Деттлафф запретить курение во время заседаний нейтрализовывалось объявлением перекуров, чем могла воспользоваться Пентковская. Когда Эрне Бракуп случалось вздремнуть, Марчак без тени иронии, тем более издевки, обращался к ней, чтобы вернуть ее к обсуждению очередного пункта повестки дня. Ему удалось значительно сократить количество претензий Фильбранда к мелким отклонениям от регламента; Стефана Бироньского, на которого частенько нападала скука, удавалось приглашающим жестом заставить прислушаться даже тогда, когда Решке вновь считал необходимым напомнить собравшимся об изначальной идее миротворческого кладбища. Марчак уверенно держал в своих руках все нити; не было исключением и то заседание, где обсуждался вопрос о перезахоронениях, но не удалось принять решения. Бироньский со вниманием поднял голову, Бракуп встрепенулась, отгоняя дремоту, когда Решке, рискуя вызвать протест со стороны Фильбранда и Карау, добавил к своей излюбленной теме «век изгнаний» новый аспект, заявив, что «перенос праха – также своего рода изгнание». Врубель зааплодировал. «Ну, это уж слишком!» – воскликнула госпожа Деттлафф. Фильбранд пригрозил уходом с заседания. Бракуп что-то забормотала себе под нос, хотя на магнитофон ее никто не записывал. Пентковская закурила, несмотря на то, что перекур не объявлялся. Однако Мариан Марчак всех обезоружил своей беспомощной и милой улыбкой.
Позднее, в баре, установилась дружелюбная атмосфера, напряжение спало, настроение у всех сделалось едва ли не веселым. Представляю себе, как забавно выглядела Эрна Бракуп на высокой табуретке за стойкой бара.
Спустя неделю после того заседания Решке вновь встретился с Четтерджи, но теперь уже не в фахверковом домике на берегу Радауны, а конспиративно – на заброшенном кладбище за церковью Тела Христова, где явкой им послужил забытый или сбереженный временем семейный памятник Клавиттеров.
«Черный, до блеска отполированный гранит на сером цоколе. Ржавая железная решетка огораживает довольно большое пространство. Имя последнего Клавиттера, президента Торговой палаты, высечено в самом низу. Этой находкой я обязан, разумеется, Врубелю. Мистер Четтерджи очень внимательно слушал меня, когда я рассказывал об Иоганне Вильгельме Клавиттере, который заложил в здешних краях первую верфь…»
Мой бывший одноклассник описал эту тайную встречу в своем дневнике; я воспроизвожу ее очень сжато, на самом же деле она длилась более получаса. «Он поджидал меня, прислонившись к ограде. Меня вновь и вновь очаровывает этот бенгалец, которому, казалось бы, должна быть чужда наша работа, работа, имеющая дело со смертью, ибо сам он по натуре человек прямо-таки утомительно живой, неподдельно жизнерадостный и жизнелюбивый, что неизменно подтверждается делом; в общем, Четтерджи должен бы быть чужд наш пафос служения смерти. Он вообще считает кладбища напрасным расходом земли. Я мог бы по-настоящему подружиться с ним, если бы интуитивно не ощущал, что от него исходит какая-то угроза. Я абсолютно принимаю на веру все его пророчества относительно транспортных проблем, и сам, как автолюбитель, готов к полному самоотказу и переходу на велоколяску, которая призвана спасти крупные города, однако я совершенно не могу согласиться с его взглядами на нынешнюю войну и ее глобальные последствия. Его выводы меня ужасают. Четтерджи считает, что война в Персидском заливе необходима, чтобы показать, сколь невыносимых масштабов достигло обнищание в странах Азии и Африки. Военная мощь Запада одновременно служит доказательством немощи западного мировоззрения. То, что сейчас пришло в движение, уже не остановишь. Жребий брошен. С этим он хотел примирить меня словами Ницше о переоценке всех ценностей. «Мы уже в пути. Пока еще только сотни тысяч. У нас маловато скарба, но полно идей. Вы пришли к нам, чтобы научить нас двойной бухгалтерии, мы же придем, чтобы совершать с вами сделки на взаимовыгодной основе». Тут он опять заговорил о велорикшах, поскольку успех его предприятия действительно красноречив. Внезапно Четтерджи перескочил, будто через гимнастический снаряд, через железную ограду высотою по пояс, после чего выразил мне признательность за вложенные в его бизнес средства и, указывая на могильный камень основателя верфи, пообещал возродить к жизни его предпринимательский дух. Затем Четтерджи опять перепрыгнул через ограду и начал сыпать множеством цифровых выкладок, а после следующего прыжка без помощи рук он поклялся именем Клавиттера превратить верфь в золотое дно. Конечно, было тут много театральности, однако нельзя не признать, что производство велоколясок идет в трех цехах прежней верфи полным ходом. Поначалу предусматривается удовлетворить потребности внутреннего рынка, затем продолжить выпуск на экспорт. Поскольку управленческая работа является преимущественно сидячей, мой партнер заметно поправился. К сожалению, он не может служить у самого себя по найму, поэтому перестал водить велоколяску и подрастерял спортивную форму. Приходится поддерживать ее гимнастическими упражнениями. Тут он снова перепрыгнул через ограду к памятнику, потом опять ко мне, чтобы сообщить, что вызвал себе на помощь шестерых из своих многочисленных племянников – четверых из Калькутты, двоих из Дакки; оказав кое-кому некоторые услуги, удалось добиться разрешения на въезд племянников и на их пребывание. Трое племянников – марвари, которые, как известно, отличаются особыми предпринимательскими способностями».
Свидетелем этого разговора стал забытый или сохраненный временем памятник основателю Клавиттеровской верфи, а могильная ограда служила бенгальцу гимнастическим снарядом: снова и снова прыгал он через решетку безо всякого разбега. Кругом кустарник, ржавые железки, рядом развалившийся сарай, дальше – огородные участки. Здесь, не доходя до Шихау, начинал Клавиттер свое дело. Здесь был построен первый пароход. И лишь гораздо позднее объявился Ленин, пароходов он не строил, лишь провозглашал идеи.
И опять: хоп! И снова: хоп! После двенадцатого прыжка – Решке считал их про себя – Четтерджи указал на полированный гранит, тронул пальцем самое верхнее имя, потом даты «1801–1863»: «Вот кого бы взять в партнеры». А Решке, бедный Решке, который ни за что не сумел бы перескочить через решетку, зато хотел бы вместо Клавиттера стать настоящим партнером бенгальца, вновь предложил ему кое-какие дополнительные средства из своих тайных «резервов». Были названы конкретные суммы, счета и банки. При свидетеле, коим являлся стоящий за их спинами могильный камень высотою с человеческий рост, фирма по производству велоколясок и немецко-польское акционерное общество при миротворческом кладбище, динамика и покой, живые и мертвые, вновь заключили сделку, как сказал Четтерджи, на взаимовыгодной основе.
Решке поинтересовался у Четтерджи, как идут дела зимой, и узнал, что даже в январе, когда ударили морозы, многие поляки пользовались велорикшами, оценив выгоды невысокого тарифа, среди них – вице-директор Национального банка. «Мистер Марчак является нашим постоянным клиентом и доволен нами», – сказал бенгалец, совершив заключительный прыжок через железную ограду.
***
Эрна Бракуп также с удовольствием пользовалась велорикшей. Когда заседал наблюдательный совет, ее подвозили к самому входу в отель, что всегда вызывало любопытство прохожих. Между прочим, именно она подала Четтерджи идею использовать велоколяски для нетяжелых грузовых перевозок, например, чтобы доставлять вещи при переезде на новую квартиру. Вскоре фирма стала также предлагать курьерские услуги и развозку посылок.
С приближением весны деятельность миротворческого кладбища оживилась, поэтому Эрна Бракуп теперь часто проезжала по Большой аллее к старому домику у входа на кладбищенскую территорию. Она не пропускала ни одних похорон. Всем родственникам и близким она высказывала свои соболезнования одной-единственной фразой: «Вечный ему (или ей) покой!» А Четтерджи, который установил для нее льготный тариф, она заявила: «Мы оба с тобой – национальное меньшинство. Значит, надо друг дружке пособлять. Особенно против поляков и тамошних немцев. А то они нам на шею сядут». Она даже заставила Решке, как тот ни упрямился, перевести свою тираду на английский, добавив: «Скажи: ты, мол, мне, а я – тебе. Вот как нам жить-то надо!» Предложенные ею грузовые перевозки сделались настолько популярными, что Четтерджи наладил в своих цехах выпуск специальной конструкции велоколясок, а Эрну Бракуп одарил целой пачкой бесплатных проездных билетов. Когда Бракуп подъезжала к воротам кладбища, всегда собирались зеваки. Она же заходила в домик, где могильщики и садовники хранили инвентарь и где сидели смотрители, брала свою лейку и лопаточку с грабельками.
У меня есть фотография, на которой Эрна Бракуп сидит в велоколяске с поднятым верхом, хотя, судя по всему, на улице неплохая погода. Она сидит, будто в раковине; на ней все та же шляпа горшком и оставшиеся еще от военной поры валенки. Пальцы переплетены. Лицо серьезное, неулыбчивое.
Водитель белокур и, стало быть, не пакистанец, а поляк или, если уж не поляк, то кашуб. К сожалению, у меня мало фотографий, которые запечатлели работу велорикш. Зато это подлинный документ, как и те черно-белые снимки из Варшавы времен немецкой оккупации, когда едва ли не все было запрещено и полякам не разрешалось иметь автомашины или работать таксистами; тогда существовали велорикши, их водили поляки и возили они поляков, а также разные грузы. Велосипеды и коляски выглядят на тех снимках обшарпанными, водители мрачными, пассажиры озабоченными. На одном снимке велорикша везет ящики. Казимеж Брандыс в своем романе «Рондо» описывает это тогдашнее транспортное средство.
У писателя Анджея Щепиорского также упоминается велорикша…
Зато на цветной фотографии с Эрной Бракуп в центре поблескивает новехонькая велоколяска, изготовленная в цехах бывшей верфи. Сбоку от водителя читается зеленая по белому лаку надпись, причем сделанная не по-польски, а по-английски, видимо, чтобы быть понятной туристам: «Chatterjees Rikscha-Service». Подъемный верх коляски выкрашен в национальные цвета: белая полоса – красная полоса, белая – красная. На водителе форменная, но вполне спортивная одежда: гоночная кепочка, рубашка навыпуск и без воротника, брюки до колен, похожие на стародавние бриджи, все серо-голубого цвета. Нагрудную полоску украшает название фирмы и номер водителя. У того, что сфотографирован, номер 97.
На черно-белых снимках военной поры у седоков застывшие лица, вот и Эрна Бракуп глядит прямо в объектив, неподвижная, будто вросла в коляску. Снимал ее, вероятно, Решке; он же иронически пометил на обороте: «Представительница немецкого меньшинства в Гданьске ездит теперь к миротворческому кладбищу, будто барыня».
Снимок датирован концом марта. После краткого периода стабилизации курс злотого вновь начал падать, усилились инфляционные тенденции, цены продолжали расти, объемы производства сокращались, а зарплаты оставались на низком уровне. Новый президент, о котором Пентковская сказала: «Теперь электрик хочет стать королем Польши», взял себе нового премьер-министра, лишенного меланхолической ауры своего предшественника. Впрочем, в стране от этого веселее не сделалось, зато кругом росли церкви – множество новых уродливых церквей.
Решке отмечает: «Совместные предприятия, которые прежде отличались напористостью и оптимизмом, ныне терпят крах. Если год назад американцы не решились взять обанкротившуюся верфь им. Ленина, то сейчас голландцы сомневаются, стоит ли вообще вкладывать деньги в переживающую такой же глубокий кризис верфь им. Парижской Коммуны, которая находится по соседству в Гдыне. Впрочем, за это же время имели место многочисленные махинации, позволившие подставным иностранным фирмам и старой номенклатуре местных хозяйственников нажить немалые капиталы. Возможно, поэтому фирма Четтерджи, пусть средняя по масштабам деятельности, зато солидная, пользуется растущим авторитетом…»
Фотография Эрны Бракуп в велоколяске говорит мне больше, чем это может сделать обычный снимок. Бенгалец с британским паспортом прижился в Польше. Шестеро его племянников, среди них – трое марвари, имея хороший задел, открыли филиалы в Варшаве, Лодзи, Вроцлаве и Познани. Решке поступил абсолютно правильно, вложив более или менее крупную часть капитала своего акционерного общества в производство велоколясок. Вероятно, рано или поздно прежняя верфь им. Ленина (а когда-то верфь «Шихау», первоначально же Клавиттеровская верфь) будет переименована в честь бенгальской Черной богини Кали или бенгальского национального героя Субхаса Чандры Босе.








