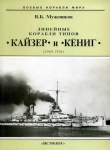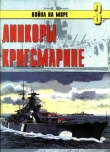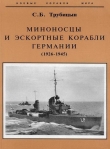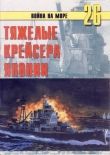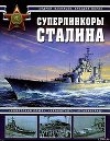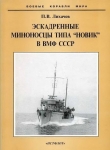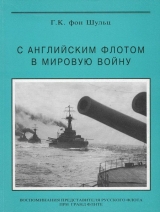
Текст книги "С английским флотом в мировую войну"
Автор книги: Густав Шульц
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
Возвращение в Скапа-Флоу. Взрыв крейсера «Natal».
В середине декабря я передал мою докладную записку первому лорду Адмиралтейства Бальфуру и вскоре после этого отбыл обратно на флот. Новый год я встретил на корабле, в офицерской кают– компании. Там собралось несколько шотландцев, которые обычно празднуют этот день, тогда как англичане относятся к нему безразлично. Командир Клинтон-Бейкер лёг по обыкновению спать в 11 часов. В кают-компании присутствовала едва ли половина офицерского состава. Были приглашены гардемарины, им предложили стакан вина, и, пожелав друг другу счастливого нового года, все разошлись по каютам. Не было никаких речей, и вообще все сошло просто и без торжественности.
В тот же вечер мы получили печальное известие о гибели броненосного крейсера «Natal» в гавани Инвергордона, и это событие, естественно, отразилось на общем настроении. По радио не сообщалось подробностей. Было только сказано, что крейсер взорвался на рейде и что при этом погибла половина офицеров и команды, а также большое число гостей. Через несколько дней мы узнали, что взрыв произошел от пожара, который проник в один из зарядных погребов. Огонь возник во время киносеанса, на котором присутствовало много гостей с берега. По другой версии, вина приписывалась запасам японских патронов, которые незадолго до этого были приняты на корабль, и не были подвергнуты соответственному осмотру.
У нас, а также на других кораблях, где имелись японские патроны, их немедленно вынесли из бомбовых погребов и разложили на верхней палубе. Через несколько времени было, однако, объявлено приказом по эскадре, что, хотя причина взрыва на «Natal» не вполне выяснена, нет оснований приписывать ее самопроизвольному взрыву японских патронов. В то же время были запрещены на флоте всякие кинематографические представления в палубных помещениях. Были также введены особые правила предосторожности на случай пожара, порядок хранения фильмов и т. п. Из этого следовало, что катастрофа все же приписывалась пожару, возникшему в связи с киносеансом.
В английском флоте с начала войны были уже не раз подобные взрывы зарядных погребов, и они послужили причиной гибели многих военных и транспортных судов. Я был склонен думать, что возможность таких несчастий обусловливалась некоторыми особенностями порядка хранения боевых припасов. Зарядные погреба не были достаточно изолированы ни от подачной трубы орудийных башен, ни от остальных частей корабля. Не применялись также меры предосторожности, принятые, например, в русском флоте после японской войны. Они состояли в том, что от каждой партии снаряжения бралась контрольная проба взрывчатого вещества – бездымного пороха, пироксилина и т. д. Пробы $ти сохранялись в стеклянных банках в тех же погребах, где и соответствующая партия. По изменившейся окраске лакмусовой бумажки или выделяющемуся запаху артиллерийский офицер мог в любую минуту проверить, показывает ли взрывчатое вещество признаки начинающегося разложения. Проба, внушавшая подозрение, отправлялась для исследования в лабораторию, а соответственная партия взрывчатого вещества выгружалась с корабля для перезарядки, промывки пироксилина или полной замены ее новыми боевыми запасами. На английском флоте была принята другая система проверки находящегося на корабле боевого снаряжения. А именно, раз в год небольшая часть каждой партии отсылалась для проверки в порт. Не нужно быть специалистом, чтобы понять недостаточность английской системы контроля.
После взрыва «Natal» я при случае высказал свое мнение по этому вопросу командующему флотом. Адмирал, по-видимому, согласился, что описанная мною система контроля совершеннее и высказал намерение сообщить об этом в Адмиралтейство. Он опасался, однако, что Адмиралтейство не согласится на изменение системы, в особенности во время войны, так как такая коренная реформа потребовала бы подготовительных работ и длительных опытов. «Главная причина, однако, та, – добавил адмирал с улыбкой, – что мы слишком консервативный народ, в особенности в вопросах техники, и поэтому не имеем доверия к чужому опыту. За это упрямство мы часто должны расплачиваться собственной шкурой. На флоте ваше мнение, быть может, найдет поддержку, но не могу ручаться, что оно также найдет ее и в Адмиралтействе».

Главнокомандующий Гранд Флита адмирал сэр Джон Рэшуорт Джеллико.
Впоследствии я мог убедиться, что Джеллико был совершенно прав. В Ютландском бою англичане потеряли шесть больших кораблей и несколько малых судов из-за взрыва зарядных погребов. На немецких же судах удавалось успешно локализировать возникшие пожары, и они не перебрасывались в места хранения взрывчатых веществ. Немцы не потеряли ни одного корабля из-за взрыва зарядных погребов, англичане же дорого поплатились за свой консерватизм. Главная причина была, конечно, не в неправильной системе контроля, а в недостаточной изоляции зарядных и бомбовых погребов.
В январе 1916 года я написал русскому морскому министру Григоровичу подробное письмо и изложил главнейшие пункты моей докладной записки английскому Адмиралтейству. Я выказал свою твердую уверенность, что русский флот в Балтийском море никоим образом не может рассчитывать на поддержку английского флота до тех пор, пока немецкий флот не будет решительно разбит в Северном море. Копию этого письма я передал Джеллико.
Мой друг Хагберг-Райт прислал мне из Лондона оттиск статьи Давида Ханней, автора истории английского флота и различных военно-морских трудов. Статья носила заглавие «Наступающий год на море» («The Coming Year at Sea») и настаивала на необходимости более активной морской стратегии со стороны союзников. Автор статья был мне знаком по одному из клубов Лондона, и мы однажды с ним целый вечер беседовали на эту тему. Теперь я имел случай прочесть в переработанном виде почти всю нашу беседу и большую часть приведенных мною тогда доказательств. Статья указывала на необходимость консолидации союзниками Балтийского фронта, на который опирается восточный фронт. «Наполеон, как известно, говорил, что его адмиралы изобрели новый способ ведения войны – без риска, с чем он их не поздравлял. По-видимому, в нашем Адмиралтействе имеются специалисты, которые сто лет спустя после Наполеона сделали то же самое открытие». Статья заканчивалась следующими словами: «Балтийское море – единственный морской театр, на котором английский флот не выполнил свою задачу овладения господством на море. Только наглядно выяснившаяся невозможность выполнить эту миссию могла бы служить оправданием для отказа от попыток в этом направлении».
Хагберг-Райт писал мне также, что моя докладная записка, очевидно, произвела известное впечатление и что она начала пускать корни даже в самом Адмиралтействе. Всё это меня очень обнадежило.
Было ли мне тогда ясно, что даже самый суровый способ ведения войны оружием невинен в сравнении с ужасами бесконечно длящейся блокады и стратегии «на истощение»? Мог ли я предполагать, какие тяжелые страдания придется еще перенести Европе после войны? Гранд Флит был, конечно, на 50 процентов сильнее немецкого Флота Открытого моря, но мертвые цифры не обеспечивают победы над врагом. Так, приблизительно, должно было рассуждать Адмиралтейство, когда оно признало дальнюю блокаду берегов Германии, а также нейтральных стран за наиболее действительное средство на море. Победа без риска – действительно ли нашло Адмиралтейство средство достичь такой победы? Я мог в этом усомниться.
История не высказала еще своего последнего слова о мировой войне, но многие прониклись уже той мыслью, что стратегия на истощение принесла Европе больше бедствий, чем счастья. В журнале «Nineteenth Century» («Девятнадцатый век») была помещена статья под заглавием «Единственный путь к прочному миру», которая также требовала более активной стратегии на море и суше. В ней упоминалось, что Антанта подняла свой меч, как это часто заявлялось ее государственными деятелями, во имя демократии и для ниспровержения прусского милитаризма. Но победа невозможна, если не удастся убедить немецкий народ, что его правительственная система ни в коем случае не выше, а, наоборот, ниже современной демократии. Немецкие успехи в Польше, Галиции и Сербии вновь оживили популярность Вильгельма, поблекшую было после неудач под Верденом. Только поражение на море и на суше заставит Германию разочароваться в своих кумирах и докажет ей, что основанная на военном и полицейском гнете форма правления не есть необходимое условие для победы на войне.
Другими словами, нужно психологически повлиять на народные массы неприятельской страны, которые ослеплены блеском своего правительства и загипнотизированы его успехами. Повлиять на психологию народных масс на войне можно только путем военных успехов, а для них необходимой предпосылкой является более активная стратегия. Автор не во всех своих утверждениях был прав. В союзной России царствовал еще больший деспотизм, чем в Германии. Но вывод статьи был в конце концов правилен.
Поездка в Петербург.
24-го января я получил через Адмиралтейство телеграмму с приказанием немедленно отправиться в Петербург для переговоров по поводу моей докладной записки. В тот же день вечером я выехал в Лондон, где должен был пробыть три дня в ожидании парохода, отправлявшегося в Норвегию. Эта задержка дала мне возможность еще раз быть у первого лорда Адмиралтейства. Бальфур повел со мной на этот раз весьма откровенный разговор. Упомянув о моей записке, он спросил меня, что я намерен по этому поводу сказать в Петербурге. Мой ответ гласил: «Я сообщу, что пока бесцельно надеяться на прорыв английского флота в Балтийское море или на серьезное наступление в Северном море». Бальфур возразил, что до решительного поражения немецкого флота Адмиралтейство не может изменить своей стратегии и что очень трудно предсказать, когда это может случиться. Гранд Флит находится в постоянной боевой готовности, но он не хочет попасть в засаду, заранее уготовленную для него у немецких берегов.
Чтобы несколько позолотить эту горькую пилюлю, министр заговорил о сочувствии к русскому Балтийскому флоту, который противостоит несравненно сильнейшему противнику. «Пожалуйста, передайте вашему морскому министру, что наше офицерство одобрительно высказывается о боевой готовности вашего Балтийского флота, чего, однако, нельзя сказать про русский флот в Белом море». Я заметил на это, что в Белом море уже в течение ста лет не имелось флота и что все нынешнее оборудование импровизировано там лишь за время войны. «Ах, вот как, – прервал неожиданно Бальфур, – но скажите же мне тогда, почему ваше правительство не держит своих обещаний?» Я тотчас же спросил: «Какие обещания?» Но Бальфур переменил тему разговора и просил меня передать привет русскому морскому министру. После этого я откланялся. Мне до сих пор неизвестно, какие обещания подразумевал английский государственный деятель.
В Петербурге я застал подавленное настроение. Повсюду были заметны признаки разложения, вызванные тем, что война затянулась несравненно дольше того, чем ожидали в стране. Россия уже в мирное время во многих отношениях зависела от своих соседей. Война неожиданно изолировала страну. Националистическое движение, которое шло не из народа, а искусственно раздувалось в шовинизм правящими классами, несло свою долю вины в ускорении начинавшегося развала. В морском генеральном штабе, где мне приходилось проводить почти все время за работой, настроение было спокойнее и лучше. В армейских же кругах все еще не могли оправиться от ударов, нанесенных противником сухопутным военным силам России. Флот не страдал от недостатка снаряжения, не испытал крупных потерь и поэтому в нашем ведомстве смотрели более оптимистически на общее положение. Единственной серьезной потерей для русского флота была смерть адмирала Эссена, которого его преемник адмирал Канин не мог заменить. В Морском Генеральном штабе многие офицеры были совершенно завалены работой, в то время как другие проводили все служебные часы в бесконечных разговорах, кейфе, курении табака и чаепитии.
В генеральном штабе напряженно говорили о будущей весне. Ожидали нападения немецкого флота на Рижский залив, а также, быть может, на Моонзунд и Финляндию. Моя докладная записка английскому Адмиралтейству произвела в штабе гораздо больше впечатления, чем я мог ожидать, судя по разговорам с Русиным.
Тщетность надежд на серьезную помощь английского флота в Балтике не была неожиданностью для штаба. Все же генеральный штаб решил отправить свое обращение к английскому правительству, составленное на основании моей докладной записки. Ожидалось только согласие Ставки. Оно было вскоре получено, и я был командирован обратно в Лондон, куда и прибыл благополучно 21-го февраля.
Возвращение в Англию.
Уже внешний вид улиц, вокзалов и публичных мест показывал, что здесь господствует совершенно другое настроение, чем в Петербурге. На главных улицах города было такое же оживленное движение автомобилей, как и в начале войны. Бодро маршировали, часто беглым шагом, отряды войск. С восьми часов утра жители Вест-Энда спешили в Сити. Повсюду был отпечаток деятельности, силы воли и жизненной энергии. Энергия эта сочеталась с дисциплиной, к которой все привыкли, и никто не оказывал противодействия. В Лондоне не было заметно следов усталости, равнодушия или недовольства.
В Адмиралтействе мне объявили, что привезенный мною документ является лишь повторением моей докладной записки, на которую Бальфур уже дал мне свой ответ и к нему не может ничего добавить. Мне оставалось только просить разрешение проследовать обратно на Гранд Флит. На этот раз мне пришлось долго ждать установленного пропуска, и только 3-го марта я мог выехать обычным путем в Скапа-Флоу.
На следующий день по приезде я завтракал у начальника нашего отряда вице-адмирала Верней на его флагманском корабле «Marborough». Адмирал рассказал мне о недавнем посещении Гранд Флита русскими журналистами. Из них особенно обратил на себя внимание некий генерал Д-ский, недавно прибывший из Салоник и свободно говоривший по-английски. Английские офицеры, конечно, живо интересовались известиями с фронта. Генерал выступал с целым рядом рассказов и предсказывал, что недавно высадившиеся в Салониках английские и французские войска через несколько месяцев завоюют столицу Австрии. Этот военный журналист или журнальный генерал был, верно, не только храбр, но и весьма скор в своих суждениях.
12-го марта командующий флотом пригласил меня принять участие в одной операции на его флагманском корабле «Iron Duke». Вскоре, однако, приказ о выходе в море был отменен сигналом, и мое посещение ограничилось обедом в обществе адмирала Джеллико. Я рассказал адмиралу о моей поездке в Петербург и о привезенном мною оттуда письме. Адмирал еще не получал копии этого документа и только по телефону совещался по этому делу с Адмиралтейством. Ему было лишь известно, что в Лондоне недавно состоялось военно-политическое совещание для обсуждения этого письма, и в нем принимали участие начальники отделов Адмиралтейства. Решение не было еще принято, так как с русской стороны была затронута стратегия, которая без соглашения с сухопутным генеральным штабом и союзными державами не могла подлежать изменению.
Слушая адмирала Джеллико, мне невольно вспомнилось то, что мне рассказывали об обстоятельствах, связанных с его неожиданным назначением на пост командующего Гранд Флитом в самый первый день объявления войны. Предшественник его, адмирал Каллаган, был на редкость любим всем личным составом флота, которым он так долго командовал. Возможно, что его решительность и темперамент внушали известные опасения Адмиралтейству, и оно решило заменить его новым командующим флотом. «Судьба Англии в войне всецело зависит от флота, которым нельзя поэтому рисковать», – сказал мне один видный английский адмирал, когда я спросил его о причинах смены командования флотом в начале войны. Адмиралу Джеллико не представилось во время мировой войны случая выказать на деле всю силу своего характера. Даже во время Ютландского боя не было такого критического момента, когда судьба флота зависела бы от его решения. Но я не сомневаюсь, что и в таком случае Джеллико проявил бы большое хладнокровие и ясное суждение. Морская стратегия Англии, а также и союзных держав, во время войны всецело руководилась английским Адмиралтейством. Естественно поэтому, что командование Гранд Флитом было доверено человеку, чей взгляд на морскую стратегию совпадал со взглядами Адмиралтейства.

Линкор «Queen Elizabeth» на рейде в Скапа-Флоу
Каждодневная жизнь и развлечения в Скапа-Флоу.
Зима была необычайно холодная. Острова по несколько дней подряд лежали под снежным покровом, а болота и пруды были покрыты толстым слоем льда. Погода не благоприятствовала никакому спорту, за исключением бега на коньках.
По-моему, скука злейший враг дисциплины. Она в особенности может овладеть командами зимой, когда короткие дни и скверная погода препятствуют активным операциям блокирующего флота. Чтобы бороться с этим врагом, на Гранд Флите придавали большое значение различного рода театральным представлениям и всеми способами поддерживали всякую инициативу в этом направлении. В середине марта я присутствовал на любительском спектакле, устроенном офицерами и гардемаринами линкора «Queen Elizabeth». Роли были исполнены молодыми офицерами «малой кают-компании» (Gunroom3*3
3 На больших военных судах английского флота имеются две офицерских кают-компании. Одна для мичманов и гардемарин, другая для всех остальных офицеров во главе со старшим офицером корабля. (Прим. перев.)
[Закрыть]), а театральным залом служил носовой трюм транспортного парохода «Gurko». «Зал» вмещал более 700 человек офицеров и команды флота. Декорации, занавес и вся бутафория были изготовлены судовыми средствами и настолько искусно, что этому трудно было поверить. Судовой оркестр играл мелодии из лондонских опереток, и в таком же духе была и театральная программа. Молодые люди выступали с большим успехом. «Дамы» получили свои наряды от сестер и подруг из Лондона, и публика выражала свой восторг бурными аплодисментами. Команда приходила прямо в экстаз. Особую радость возбуждали остроты и шутки, имевшие отношение к морской жизни. Контраст между жизнью на корабле и лондонскими времяпровождениями служил нескончаемым поводом к взрывам сердечного смеха. Но лучшее во всём представлении было то, что автор, режиссер и актеры были все из своей же среды. У нас на «Hercules» был также организован спектакль, была поставлена пантомима-произведение нашего старшего офицера. По общему мнению, она не уступала веселому фарсу, разыгранному на «Queen Elisabeth».
Что бы ни предпринималось на Гранд Флите: артиллерийское учение, игры, спорт – во всем страсть к соревнованию проявлялась как заметный оживляющий фактор. В этом отношении флот был типичным представителем своей страны. В Англии к скачкам, театру, футболу, боксу относились столь же серьезно, как и к войне.
На следующий день после спектакля на «Queen Elisabeth» я отправился на остров Фара, где Клинтон-Бейкер арендовал у крестьянина пол-акра (один акр равен 0,37 десятины) болотистой земли, чтобы там устроить огород и сад. Рядом находился небольшой сарай, в нем решено было устроить чайную для командиров судов. За работы взялись буфетчик командира, боцман с командой своего вельбота, штурманский офицер и я. Впоследствии к нам присоединились несколько командиров с других судов. Ежедневно после чая в течение двух-трех часов мы работали на острове и такими образом положили начало новому роду деятельности Гранд Флита – разведению огородов. В апреле было взято в аренду большое пространство той же болотистой земли на острове для унтер-офицеров нашего отряда, и там вскоре выросла целая сельскохозяйственная колония. Рядом с нами расположился со своим огородом кептэн Гайд-Паркер. Таким образом, и на этом поприще возникло дружественное соревнование. Теперь на Гранд Флите имелось новое развлечение, новый спорт. Флот принялся обустраивать остров Фара, где до этого овцы были единственными господами. Овцы эти были нашими злейшими врагами, и нам приходилось отгораживать от них наши насаждения колючей изгородью.
Стрельбы и маневры.
Тем временем установка приборов центрального управления огнем крупной артиллерии подвигалась вперед. Время от времени делались пробные испытания. Стреляли практическими снарядами, а также из особых стволов для 6-фунтовых гранат, которые вдвигались в 12" орудия. Благодаря такому устройству, можно было при стрельбах применять все техническое оборудование башенных установок, не изнашивая внутренних труб орудий и не расходуя дорого стоящих крупных снарядов. Вся разница при этом была только в дальности стрельбы.
Наряду с артиллерийскими и торпедными стрельбами на «Hercules» производились также опыты с минами заграждения. Была поставлена задача – установить, насколько опасна может быть для корабля, идущего с известной скоростью, плавающая на поверхности воды мина. В результате выяснилось, что при ходе в 12 узлов, когда впереди форштевня не было еще бурунов, мы действительно коснулись мины. Снаряженная мина при этом, конечно, взорвалась бы. При большой скорости мина, однако, отбрасывалась в сторону струёй воды и все дальше отдалялась от борта корабля, независимо от того, в какую сторону мы описывали циркуляцию. У кормы мина была уже в расстоянии 5-6 саженей от судна. При сильной волне обстановка несколько менялась, но во всяком случае вероятность взрыва мины была очень мала. Опыты на других кораблях подтвердили то же самое. Этим объясняется тот своеобразный факт, что в течение мировой войны и после нее так мало судов было подорвано плавающими минами.
26-го марта Гранд Флит ушел в море оказать поддержку легким крейсерам, вышедшим из Гарвича для набега на немецкое побережье вблизи датской границы. На отряде крейсеров имелись гидросамолеты. Им была поставлена задача разрушить базу цеппелинов в Тондерне. Чрезвычайно бурная погода заставила, однако, прервать операцию. 29-го марта флот опять снялся с якоря; на этот раз для тактических упражнений. Погода значительно улучшилась, и видимость была лучше. На следующее утро после выхода в море флот разделился – часть эскадренных миноносцев и три крейсера изображали собою противника.
Маневры продолжались с 8-ми часов утра до 2-х часов дня, и в них принимал участие почти весь Гранд Флит. Как только мы вошли в соприкосновение с «противником», Гранд Флит из походного строя параллельных кильватерных колонн отдельных эскадр перестроился в одну боевую кильватерную колонну. Впереди и позади двигалась завеса из эскадренных миноносцев для отражения неприятельских торпедных атак. Кильватерная колонна флота была 8 миль длиною. Из-за такой тяжеловесности ею трудно было маневрировать. Большая волна была очень тяжела для эскадренных миноносцев, и от повторения маневра пришлось отказаться, а эсминцы отправить обратно в Скапа-Флоу. На возвратном пути было получено радио о замеченных немецких подлодках. В виду этого командующий флотом, приближаясь к берегам Англии, вызвал опять к себе эскадренные миноносцы. Весь день был штормовой ветер, сопровождаемый снежными зарядами. При наступлении ночи расстояние между отрядами, следовавшими в параллельных кильватерных колоннах, было увеличено до 5 миль. Через три дня после нашего выхода в море мы вернулись в Скапа-Флоу и стали на якорь.

Гранд Флит в походе
2-го апреля было получено сообщение, что немецкие цеппелины приготовляются к налету на северное побережье Шотландии. У нас это известие было принято скептически, так как казалось невероятным, чтобы цеппелины в такую зимнюю погоду отважились бы лететь так далеко на север. На всякий случай, однако, огни на берегу были потушены, корабли стояли также без огней, и были приняты все меры предосторожности. 3-го апреля налет действительно осуществился, но на Лидс и Розайт, около Эдинбурга, и на Ширнес в устье Темзы, где один из цеппелинов удалось уничтожить.
Весь апрель стояла бурная погода. Доставка почты, провианта, топлива и других припасов на рейд продолжалась, тем не менее, безостановочно. Гигантский аппарат снабжения флота действовал, как хорошо смазанный часовой механизм, и вспомогательные суда несли свою службу без всяких понуканий их при помощи сигналов.
17-го апреля «Herculec» вышел на практическую стрельбу крупной артиллерии. Нужно было впервые полностью испробовать систему центрального управления огнем. Командир, офицеры и вся команда корабля напряженно интересовались результатами. Стрельба производилась практическими зарядами (0,75 боевого заряда) на дистанции от 50 до 60 кабельтовых по щитам 50 X 60 фут. Собственный ход был 18 узлов, скорость передвижения цели менялась от 4 до 10 узлов. В общем было сделано восемь залпов из пяти орудий, в каждой башне стреляло одно орудие. Залпы воспринимались как один выстрел, и корабль каждый раз получал такое сотрясение, что на командирском мостике невольно все подскакивали вверх. Стрельба продолжалась несколько дольше обыкновенного – 9,5 минут, что следовало приписать непривычке работать с новыми аппаратами. Боковое рассеяние залпа было не более 100-120 фут.
Через несколько дней после стрельбы происходило обычное обсуждение ее результатов. При этом сравнивались графики стрельб I и II эскадры линейных кораблей. Способ, применявшийся в английском флоте при разборе стрельб, был, несомненно, приноровлен к тому, чтобы поднять интерес к артиллерии – важнейшему боевому элементу корабля. К сожалению, отчеты о стрельбах не иллюстрировались кинематографическими снимками, хотя их можно было бы отлично производить с судов, буксировавших щиты. Киносъемка щитов и ложащихся около них залпов была введена лишь много позднее, после Ютландского боя, и при этом не на всех судах. Здесь сказывались не то неразумная бережливость, не то недостаточное понимание английским Адмиралтейством всей важности иметь ясную картину результатов практических стрельб.