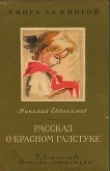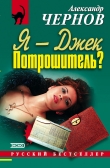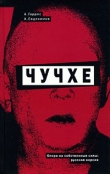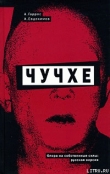Текст книги "Хроника Беловодья (СИ)"
Автор книги: Григорий Котилетов
Жанры:
Прочая фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
16
На следующий день в подвал спустились каменщики, и место брезентового полога заняла кирпичная стена. Она не была толстой, всего в два кирпича. Стрекопытов рассчитывал укрепить ее в ближайшее время, но тут грянул выстрел его тезки, Гаврилы Принципа. Дело шло к войне. Португалов предпочел не рисковать и, в одночасье собравшись, отбыл на родину. Остался договор, что тот кто останется в живых, продолжит после войны.
Стрекопытов изредка спускался в подвал и прислушивался, иногда ему казалось, что он слышит звуки, доносящиеся из-за стены. Он надеялся, что с профессором ничего плохого не случится. Но не успела закончиться война, как началась революция. За ней еще одна. Фабрику национализировали, и бывшего хозяина скоро перестали пускать на ее территорию.
Летом восемнадцатого года Москва потребовала от местных большевиков запустить фабрику. Тогдашний секретарь утятинского губкома Давидович предполагал использовать для этого Стрекопытова, в качестве консультанта. Тогда-то Стрекопытов и видел лабораторию в последний раз. Дверь в подвал была опечатана, по распоряжению губкома печати были сняты. Электростанция уже дышала на ладан, лампы горели тускло и, то и дело, гасли, но и этого света было достаточно, что бы понять, что все здесь осталось, как при Португалове. Стрекопытов провел рукой по стене, перегораживающей подвал, и вдруг его пальцы нащупали трещину. Он подсветил спичкой. Сомнения быть не могло, тонкая трещина, змеясь, рассекала стену сверху донизу.
– Усадка? – спросил один из фабкомовцев, сопровождавших Стрекопытова. Другой с ним не согласился. Он оказался из тех самых каменщиков, что ставили стенку. По его словам под ней проходила старинная перемычка, которая от времени стала только прочнее, и никакой усадки тут быть не могло. Впрочем, спорили они не долго. Пора было осматривать цеха.
Стрекопытов нехотя покинул лабораторию. Больше делать на фабрике ему было нечего. Помогать большевикам он не собирался. Даже не потому, что они отобрали у него все нажитое. Это бы он как-нибудь смог пережить, на его счету во французских банках оставалось еще достаточно, чтобы не считать себя нищим. Просто он успел на них насмотреться, и они ему не понравились. Все что произойдет потом, в случае если он согласиться помочь им запустить производство, было слишком понятно и безрадостно. Кроме того Стрекопытова буквально обескураживало какое-то фантастическое обилие начальства, перед которым он должен был держать ответ за каждое свое движение. Так что, распрощавшись с фабкомовцами до завтра, он, не заворачивая домой, пошел прямо на квартиру инженера Издобльского, где был назначен сбор боевой десятки Союза Спасения Отечества. Узнав, что выступление назначено на завтра, вернулся в свой особняк, где ему оставили две комнаты на втором этаже. Поднял в одной из них половицы и, достав винчестер и футляр с единственной уцелевшей от его коллекции скрипкой, принялся ждать утра. Семьи у него не было.
17
Он совсем чуть-чуть разминулся с Португаловым, который появился в Щигрове, через месяц после подавления мятежа и исчезновения Стрекопытова. Профессор сильно постарел и опустился. Синяя австрийская шинель, подвязанная бечевкой, была надета на голое тело. Еще на нем были черные, изодранные в лохмотья, брюки гражданского образца. Был он худ, сед, и не в себе. Все время улыбался беззубым ртом и что-то бормотал под нос. Ему повезло, что остановившей его красногвардейский патруль, состоял из рабочих стрекопытовской мануфактуры, один из которых узнал в старом оборванце ученного венского профессора и отвел не в ЧК, а прямиком на фабрику. В фабкоме его накормили и, увидев, что он слегка очухался, спросили, откуда он взялся в Щигрове и что он тут собирается делать. Португалов рассказал, что в шестнадцатом году был мобилизован в австрийскую армию и, через два месяца пребывания на фронте, попал в плен. Но теперь война закончилась и он хотел бы возобновить свои исследования. Тогда фабкомовские спросили, имеют ли его исследования какое-нибудь отношение к электричеству. Португалов ответил, что имеют. Услыхав это, фабкомовские с ходу назначили его директором, сгоревшей во время недавних боев, электростанции и выписали паек. Он попросил разрешения поселиться в бывшей лаборатории. Такое разрешение ему было дано. Спустившись туда, он обнаружил картину горестно не похожую на то, что нашел тут Стрекопытов, во время своего последнего визита. Здесь уже успели похозяйничать мародеры, которые не столько разворовали, очевидно, их спугнули, сколько поломали и напортили. Впрочем, ни одного тайника, где были спрятаны самые ценные приборы и оборудование, они не обнаружили. Одному было тяжело, и в фабкоме Португалов договорился о помощнике. Пришел Вася Залепухин, сирота, шестнадцати лет от роду. Тут профессору снова повезло, Вася Залепухин был совсем не дурак, любил поболтать и имел большой интерес к науке. Так что лучшего помощника и желать не приходилось. Поселился он, по своему сиротству, тут же, в лаборатории.
Днем они пропадали на восстановлении электростанции, а вечером восстанавливали лабораторию.
Дело потихоньку двигалось, электростанция дала ток, а профессор возобновил свои опыты. Но тут напомнила о себе трещина в стене. Время от времени она начинала вибрировать, с тенденцией к увеличению амплитуды колебаний. Каждый раз это продолжалось от пяти до десяти минут. Потом все прекращалось. Замеры показали, что трещина расширяется. Постепенно Португалов пришел к выводу, что производимые им работы провоцируют разрушение стены. Он решил сделать перерыв на несколько дней. И, действительно, за все это время стена ни разу о себе ни напомнила. Но стоило возобновить опыты, как уже вечером началась такая тряска, что из стены выпало несколько кирпичей. Это едва не стоило жизни Васи Залепухину, который, движимый мальчишеским любопытством и. пользуясь отсутствием профессора, расковырял стену дальше, пока не проковырял ее насквозь. И только каким-то чудом можно объяснить то, что влетевшая в образовавшуюся дыру тяжелая стрела не пробила Васину любознательную башку, а только оцарапала ухо. Вася выбежал наружу, задвинул засов и стал ждать профессора. Он показал профессору стрелу и спросил – Что это?
– Стрела. – ответил Португалов.
– Как у индейцев?
– Как у индейцев.
– Эти люди живут за стеной?
– Не всегда. – ответил Португалов. – Они появляются там время от времени. На твоем месте раньше работал другой лаборант, Михель. Тогда стены еще не было. Туда можно было ходить. Михель пошел туда, и его там убили. А нам следует найти более безопасное место.
18
Безопасным местом оказались руины еще одной башни, под которой имелся точно такой же подвал. Она стояла на самом берегу реки, совсем рядом электростанцией, так, что переезд сюда сулил определенные преимущества. Португалов опять сходил в фабком, получил разрешение и за два месяца с помощью Васи перетащил лабораторию. Воды здесь, правда, не было, за ней приходилось ходить к реке, но это не имело ровно никакого значения, водопровод в городе не работал. До ближайших домов было довольно далеко, и ночами тут бывало жутковато. Вся надежда была, в случае чего, на охрану электростанции. Португалов периодически наведывался в старый подвал, проверяя состояние стены. Но теперь здесь все было тихо. Заделанные дыры и трещины более не подавали признаков жизни. Но было подозрение, что на новом месте все начнется сначала, как только серия опытов будет продолжена.
Португалов подумывал договориться с фабричными, чтоб в лаборатории поставили караул, однако с одной стороны, он неясно представлял, какие доводы следует ему привести, для того, чтобы его просьба выглядела убедительной. С другой – невыносима была мысль о постоянном присутствии посторонних людей во время работы. Кроме того, было и еще одно соображение.
На фабрике Португалова, конечно, уважали, однако среди городских обывателей за ним прочно утвердилась репутация помешанного. Впечатление от его бедственного возвращения было слишком сильным. Два революционных года не смогли выбить из крепких щигровских голов прежних понятий о приличиях. Профессор представил, какие разговоры пойдут по округе, когда станет известно о чудесах, происходящих в подвале, а что чудеса будут, он не сомневался, и отказался от своей мысли. Оставалось уповать только на себя и на свое везение. Да еще на Васю Залепухина.
Поэтому, когда в лабораторию были протянуты провода с электростанции, и все было готово к началу работ, Португалов еще две недели медлил. За это время он со своим юным помощником собрал кирпичи, в изобилии валящиеся вокруг и мирно заплывавшие землей. Выковыривая их из глинистого грунта Вася все удивлялся, почему местные не пустили их в дело. Загадку разъяснил монтер Коля Перецветов. Оказывается, место это с незапамятных времен почиталось за нехорошее. И ни один из жителей соседних домов не рисковал тут появляться после наступления темноты. Потому и брать ничего отсюда не решались, чтобы не навести порчу на свой дом. Это суеверие вполне устраивало Португалова, однако в рассказе монтера его заинтересовали некоторые детали. Так Коля называл имена людей, которые пропали тут бесследно, при чем клялся, что двоих из них знал лично. А один, Минька Лазечник, сгинул, буквально, у него на глазах. Случилось это лет десять назад, когда Коля был еще сопливым пацаном. Они заигрались на берегу до сумерек и уже собрались было возвращаться домой, как Миньке взбрела блажь забежать за башню И все. Словно растворился. Его искали, но так и не нашли. В конце концов, решили, что мальчонка оступился с обрыва и утонул. Коля и сейчас был уверен, что этого не могло быть. – Ну, как бы он мимо меня проскочил? Это ведь я на обрыве стоял. Да кто меня тогда слушал. А хоть бы и слушали, все равно, ведь вокруг башни и внутри все обыскали. У-у-у, любили его родители. Так-то за ним убивались. Три дня по реке невод таскали. Да где уж там.
Португалов спросил, а не помнит ли Коля чего-нибудь необычного, сопутствовавшего исчезновению дружка.
– Было. – твердо сказал Коля. – Было. Поверишь ли, Мечислав Янович, свет был. Знаешь, так словно где дверь приоткрыли и полоска света из-под нее, шире, шире. А потом, раз, и сошла на нет, словно прихлопнули. Только если это дверь была, то уж больно большая.
– Свет какой? Как от прожектора? – спросил Португалов.
– Нет, тусклый такой, вроде как зеленоватый, и не так, чтоб от лампочки, а просто, у башни посветлело, потом шире, шире, и до самого берега.
19
Профессор долго бродил с Колей по развалинам, но ничего нового от него больше не услышал. После этого разговора он выпросил себе командировку в Утятин, сославшись на нехватку каких-то необходимых для нормальной работы динамо-машины деталей. И там, после долгих поисков, нашел историка Кондакова, того самого, который доказал, что природное название щигровцев – щигровитяне. По сравнению со Щигровым в губернском городе было голодно. Так что Португалов не раз похвалил себя за предусмотрительность, заставившую его захватить с собой ржаной каравай, выпеченный на фабричной пекарне, и бутылку самогона. В отдельном полотняном мешочке у него были огурцы и помидоры, таинственным путем добытые Васей Залепухиным, которого Португалов взял с собой, для расширения кругозора и в награду за отличную работу. Кондаков гостинцам обрадовался, но еще больше обрадовался тому, что его знания кому-то понадобились. И не кому-то, а настоящему ученому, продолжавшему свою славную деятельность на благо России, несмотря на разруху, голод, холод… Вообще, историк выражался довольно витиевато. Жил он в ветхом флигеле, стоящем во дворе губнаркомпроса. Португалов не был уверен, что правильно запомнил название этого учереждения. А Вася, по живости характера, безбожно перевирал любое незнакомое слово, длиннее семи букв, так что в его интерпретации, название это звучало, как имя какого-то ассирийского военноначальника, и всякий раз по-новому.
На какой должности состоял Кондаков, Португалов тоже не понял, единственно, это было связано с просвещением и, очевидно, считалось не слишком важным. По сравнению с пайком получаемым Кондаковым, фабричный паек Португалова выглядел просто королевским. Городские власти выделили ему землю под огород, но до него Кондаков так и не добрался, ибо стал стар и дряхл. Из родни у него была только дочка, но она еще полгода назад уехала на юг к мужу, воевавшему в Добровольческой армии. Кондаков надеялся, что после взятия Утятина белыми он сможет получить от нее какую-нибудь весточку. – Старики – говорил он Португалову, закусывая самогон огурцом, – не имеют права надеяться на многое. Например, я не надеюсь пережить эту зиму. Ради Бога, не жалко. Но одну надежду я могу себе позволить. Пусть это будет письмо от Вари. Я надеюсь его получить.
– Это хорошая надежда. – убежденно сказал Португалов и чокнулся со стариком, за то что бы она сбылась. Добрый Вася, которому по малолетству не наливали, промокнул глаза рукавом сатинетовой рубахи. Кондаков посмотрел на него державинским взглядом уставших от жизни глаз и поднял руку, благословляя.
Узнав, что именно интересует Португалова, историк сказал, что упоминания необъяснимых исчезновений и появлений в местных летописях встречаются довольно часто. И, действительно, многие из них относятся к Щигрову, который гораздо древнее Утятина. – До конца четырнадцатого века Щигров был стольным градом княжества, пока князь Володимер Олелькович не перенес свой двор в Утятин. – рассказывал Кондаков, иногда вставая, чтоб достать из книжного шкафа нужный фолиант. Ну, жития местных святых мы трогать не будем, хотя и в них можно почерпнуть немало интересного, но вот Святиловская летопись, единственная, в которой описывается разорение Щигрова Батыем, прямо говорит о людях незнаемых, невесть откуда появившихся в тылу, осадившей город, орды. Бысть сеча зла. Множество поганых было порублено, а кого и греческим огнем пожгли.
– Ну, греческий огонь-то, откуда тут взялся? – удивился Португалов. – Да и применялся он, как известно, византийцами против кораблей противника, а уж никак против кавалерии.
– Вероятно поэтическое преувеличение. – не стал спорить Кондаков. – Остается только гадать. История этого края таит немало загадок.
– И что еще говорит летопись?
– Люди эти были частью конные, частью пешие, знамя же у них было красное, как кровь.
Португалов усмехнулся. – Да, актуально. Пролетарская солидарность трудящихся.
– Пролетарская солидарность, хе-хе. А я этот птичий язык так и не одолел. – повинился Кондаков. – И уж не придется, видать. Однако, красный цвет знамени на Руси – дело обычное. Далее летопись повествует о том, что горожане, увидев неожиданную подмогу, сделали вылазку и татары, зажатые с двух сторон, были разбиты и бежали. Что до неведомых людей, то их после битвы никто не видел. Пришли незвано, и ушли непрошено. Это происшествие отсрочило завоевание татарами княжества на год.
Хорошо известно также сказание об опричном воеводе Ефимушке Кровопуске, посланным Иоанном Грозным в Утятин со дружиной хороброю, для производства дознания об измене князей Беломлинских, Ровитинских и Незван-Дубошаровых.
В Щигров опричники вошли по Васильевскому тракту и так получилось, что, как дружина всходила на мост через Млинку, видели многие, а как она оттуда сходила, не видела ни единая живая душа. Только городовой стрелец Самоха Перецвет клялся, что когда ступила лошадь Ефимушки Кровопуска на середину моста, налетели, откуда не возьмись ангелы, по числу опричников, и расхватав их, унесли вместе с лошадьми, метлами и собачьими головами за облака. Показывая, как это содеялось, Самоха все повторял, смеясь. – Беленький – черненького – хвать! Беленький – черненького – хвать! Вот это вот – хвать – не говоря уж о дурацком смехе, более всего заело Иоанна Васильевича, который, чтоб не тратить верных слуг понапрасну, повелел стрельцу самому явиться пред светлые царские очи на суд и расправу. Что тот незамедлительно и исполнил. Однако по дороге заблудился и, взяв правее, чем следовало, промахнулся мимо Москвы. О чем догадался, только выйдя к Вологде, и, поправляясь, сразу стал забирать левее, да так и ушел с Ермаком на завоевание Сибири.
– Беллетристика. – сказал Португалов.
Кондаков покачал головой. – Не совсем. Ефимушка Кровопуск существовал на самом деле. После экспедиции в Утятин его имя исчезает из разрядных книг, так же как и имена, сопровождавших его, Турчина Волохатого и немца Ганса Шлиппенклюгеля, людей в истории опричнины небезызвестных. Что до Самохи Перецвета, то среди имен сподвижников Ермака такого имени не встречается, впрочем, это ни о чем не говорит, так как и имя самого Ермака до сих пор служит предметом ожесточенной полемики. Но то, что в Щигрове существовал Перецветов овраг, засыпанный в конце восемнадцатого века во время проведения работ по благоустройству Рыночной площади, не подлежит никакому сомнению. А Самохина пустошь, на южной окраине города, насколько я знаю, сохранилась в своем первобытном виде. Кроме того, фамилия Перецветовых, вообще, распространена в губернии.
– Да, – сказал Португалов. – не далее, как несколько дней назад, один из Перецветовых описал мне случай, относящийся уже к нашему времени.
На историка происшествие с Минькой Лазечником не произвело особого впечатления. – Знаете, дорогой профессор, к свидетельствам жителей Щигрова следует относиться с предельной осторожностью. Достаточно сказать, что из всех чудес, явленных на территории губернии за последние двести лет, коим имеются письменные подтверждения, девяносто процентов приходятся на Щигров. Я, конечно, не могу ставить под сомнение добросовестность персон духовного звания, освидетельствовавших их, но, согласитесь, цифра впечатляет.
– Исчезновение мальчика вряд ли нуждалось в освидетельствовании персон духовного звания. – усомнился Португалов. – Да и из вашего рассказа следует, что исчезновение отряда опричников скорее всего, все-таки, имело место.
Кондаков кивнул. – Так же как и то, что городовой стрелец Самоха Перецвет скорее всего жил в городе Щигрове в царствование Иоанна Грозного. Но, можем ли мы доверять его свидетельству? Или вы верите в то, что опричники, действительно, были унесены ангелами? Уж я-то, как историк, прекрасно знаю, что почти все чудеса имеют совсем нечудесное объяснение. С гораздо большей вероятностью можно предположить, что опальным князьям удалось опередить кромешников и втихую расправиться со своими потенциальными палачами. Если допустить такую трактовку событий, то становятся понятны, как россказни стрельца, призванные затемнить суть произошедшего, так и гнев Ивана Грозного, который справедливо рассудил, что его пытаются дурачить.
– Думаю вы правы. – не стал спорить Португалов. – В конце концов прямой долг каждого, уважающего себя, ученого доискиваться истины, находя тем самым разумные ответы на все вопросы. Чем я и пытаюсь заниматься в меру своих сил и возможностей. Просто сдается мне, что у всех этих загадок может быть одна разгадка. Поверьте, у меня есть серьезные основания для этого предположения.
– Хотел бы я с ними ознакомиться. – сказал Кондаков.
Португалов встал и несколько торжественно произнес. – Обещаю, как только я стану обладать более определенным знанием, то первое, что я сделаю – поставлю вас об этом в известность, с наивозможнейшей откровенностью и полнотой.
– Дай Бог. – ответил историк, пожимая протянутую руку. И они расстались.
20
После возвращения из Утятина Португалов проверил свои расчеты и, провел мелом косую черту по каменному полу новой лаборатории, разделив подвал на две половины. Черта обозначала стену, которую он собирался поставить, используя собранные кирпичи. Цемента, которого ему удалось выпросить на фабрике, было слишком мало, поэтому стена получилась хлипкой, скрепленная жидким раствором. Будь у Португалова больше времени, он бы, конечно, нашел способ найти замену цементу, и соорудить нечто более основательной. Кирпичей у него было с избытком. Но, во-первых, не было стопроцентной уверенности, что место выбрано правильно, а во-вторых, Португалов торопился. Он чувствовал то, чего, возможно, не чувствовали остальные обитатели города – зыбкость и эфемерность их существования. И было еще третье, в чем он боялся себе признаться. Загадочный лес, из которого не было пути назад, стоял на его пути. И дороги, чтобы обойти это место стороной у Португалова не было.
Наученный прежним опытом, Португалов оставил в стене два смотровых окошка, застеклив их и постаравшись как можно лучше замаскировать, так чтоб с той стороны они не были заметны. А с этой стороны они были прикрыты репродукциями, вырезанными из журнала Нива за 1912 год. Вася выпилил для картинок рамки из крышки картонного ящика из-под реактивов и повесил на стену.
Наконец опыты возобновились. За стеной было тихо. Несколько раз за день Португалов или Вася отодвигали картинки и заглядывали в окошко, но на запретной половине ничего не менялось. Там было пусто, только ряды кирпичной кладки, освещенные светом, висящей под потолком электрической лампочки. Иногда Португалову казалось, что свет начинает меркнуть, а воздух густеть. Однако каменный пол под ногами был незыблем, а меркнущий свет можно было списать на перепады напряжения.
Так проходил день за днем, но ничего не менялось. И беспокойство иного рода овладело Португаловым. Не совершил ли он ошибки, перенеся лабораторию на новое место? Вдруг дело было именно в этом, а не в производимых им манипуляциях. Он постепенно наращивал мощность установки, но все было безрезультатно.