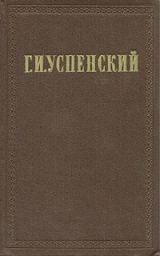
Текст книги "Том 3. Новые времена, новые заботы"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 29 страниц)
Не утерпел и сказал ему:
– Ну, уж этого я, друг любезный, не ожидал от тебя…
Ты знаешь, отчего писарь-то богат?
– Известно знаю, – доход.
– А справедливо это простой бедный народ-то обманывать? А ты еще о справедливости-то толковал!
И тут я опять – и в этом направлении стал внушать ему и сказал, что просвещение нужно вовсе не для дохода, а для того, чтобы делать ближним добро. Словом, поддерживал в нем уважение к книге, потому что не знал, что придумать для малого в практическом отношении. Думал я было перетащить его в Москву, в ремесленное училище, да не знал еще, будут ли средства. Все-таки, приехав на станцию, я вновь повторил ему, что книги ему пришлю и по три рубля давать буду; адрес его записал и втайне решился сделать для него все, что только возможно».
Едва Федор Петрович договорил последнее слово, как лицо его, в первый раз за весь вечер, омрачилось какою-то тяжкой думой. Он как бы растерялся, но, помедля и посообразив, вдруг как-то подбодрился и со взглядом, которого тоже никто из знакомых Федора Петровича прежде не замечал, потому что никогда никто не видывал в его глазах той черты хитрости, которая промелькнула именно только в этот вечер, довольно бодро сказал:
– Вот в этом-то и заключается самая суть!
Слушатели почувствовали, что Федор Петрович опять стремится запутаться в обобщении, так как он начал уже пускать в ход все те жесты и приспособления, к которым прибегал в минуту невозможности разобраться с своими мыслями.
– Именно, – на эту-то суть и следует обратить внимание. Утверждают – «просвещение»? Но вот мы видим талантливого мальчика, крестьянина, у которого есть и ум, и сердце, и чувствительность, и прямота, и бойкость – все дары природы, – но вместе с тем заметили ли вы, как он, когда шла речь о грамоте, вдруг произнес: «в писаря бы»…
Следовательно, в мальчонке, наряду с его прекрасными качествами, были и дурные задатки… Это уж среда! И таким образом будет легко понять, почему талантливый мальчик в настоящее время превратился в совершеннейшего кулака и первейшего местного воротилу!
– И это благодаря твоему просвещенному содействию?..
Федор Петрович, несомненно, был испуган этим вопросом до последней степени, но хитрость, уж однажды мелькнувшая в его глазах, на этот раз с полною ясностию обнаружилась не только в глазах, но и во всем его существе. Он так искусно притворился, будто не слыхал испугавшего его вопроса, и с явным желанием зажать рот вопрошателей немедленно же приступил к изображению талантливого мальчика в его настоящем виде:
– Теперь его все знают и в городе и в деревнях. Исправник говорит: «Вот истинно народный ум!» Протопоп говорит: «Истинное чадо церкви!» Хвалят почмейстер и даже воинский начальник. Таким образом, когда я, года два назад, опять заехал к сестре и пожелал его видеть, так мне показал дорогу к нему первый встречный.
Егор Иванович предстал передо мной в новенькой русской чуйке, в скрипучих сапогах, посреди нового двухэтажного постоялого двора, нижний этаж которого занимали новенькие лавки. Взгляд его был так же быстр, но уже холоден, хотя в улыбке было еще что-то мягкое. Он говорил не так, как говорит грубый кулак-хозяин, любящий выйти на крыльцо и орать на весь двор, утешаясь тем, что «все мне подвержено», – а вежливо, прилично, но с непоколебимой уверенностию. Все у него в доме ходило по струне. Это я заметил с одного взгляда.
Конечно, он не узнал меня, но когда я припомнил ему подробности нашей встречи, он искренно обрадовался… Повторяю – «искренно», так же точно искренно, как и все, что потом он говорил.
Первым долгом я расспросил о причинах его превращения. Егор Иваныч с благоговейным выражением лица рассказал мне следующее. Перескажу в коротких словах.
– Сами знаете, какой я был? Теперь я считаю, что был я, прямо, зверь! Отца не щадил! Это вы тогда верно говорили! Опосле того перенес свое свирепство и на общество. Например, толкуют в волостной, чтобы мост там-то мостить… По глупости моей мне и представляется, что делать этого незачем, мост не наш, мы по нем не ездим, – следовательно, и мостить его не надо… Ору!.. Зеваю, смущаю людей, – и те начинают петь заодно со мной!.. Или идет речь, чтоб на губернскую больницу вносить, – опять поднимаю бунтовство: «мы, мол, там не лежим! нам нужна больница здесь, в наших местах!..» или в эвтом смысле. Все мне представлялось, что со мной в нашей деревне неправильно поступают, а того, свинья этакая (так Егор Иваныч себя обозвал), не знал, что деревня есть ничтожная единица супротив…
Тут он кашлянул… «Ничтожная единица! – подумал я. – Это его кто-то научил!»
Кашлянул Егор Иваныч и так же искренно проговорил:
– Но, должно быть, перст господень руководит нами… И указует… Считаю так в том смысле, что сделался из бунтовщика человеком общеполезным, следовательно, для польсы прочих… полезных сочленов…
«Очевидно, его кто-то научил всему этому!» – с каждой минутой убеждался я все более и Солее и продолжал слушать Егора со вниманием.
– Домотавшись Таким манером до тюрьмы, – следовательно, по случаю сопротивления властям (это и Сыло дело моих рук), встретил я там почтеннейшего и многоуважаемого господина Кузнецова. Видя во мне таланты, господин Кузнецов, по выходе моем из тюремного заключения, взял меня в кучера, и здесь, частию от собственного внимания к его разговорам, частию чрез его наставления, я много и скоро все явственно понял… Просвещать «невсжлу» тем и полезно, что просвещение смиряет человека в его буйком невежестве… На меня вон кричат: «разбойник», – но за что? За то вот, что, состоя членом ссудного товарищества, отказываю несостоятельным; но кто понимает существо, – тот будет знать, что банковые операции связаны с общим порядком всей экономии отечества… И ежели рв. давать деньги, принадлежащие начальству, без отдачи, – то через это поколеблется всякое устроение, и все пойдет к дефициту! «Чем ты отдашь?» спрашиваю. «Мне отдать нечем». – «Ну, и ступай с богом». Не так ли?
– Так! – сказал я машинально.
– Говорят – разбойник! Ежели они бы понимали систему, тогда бы они поняли и должны бы знать, что…
Тут Егор Иваныч почему-то приостановился. Я помог ему выйти из затруднения и сказал:
– Если бы знали, что деньги без отдачи не даются.
– Да-с! Верно!
– Ну, – сказал я, – будьте здоровы, Егор Иванович, слава богу, что ваши дела идут хорошо.
– Благодарим покорно!
Так мы расстались, и больше я его не видал.
«Так вот, – проговорил Федор Петрович, с величайшей торопливостью собирая пустые бутылки и на минуту останавливаясь с ними в дверях передней, откуда он постоянно извлекал новые. – Так вот что такое просвещение!.. Просвещение, просвещение… А между тем…»
И он исчез в переднюю.
Но хотя он и возвратился оттуда с двойным, против взятых пустых, количеством новых бутылок, – ему, однако ж, не удалось вторично отвлечь этими бутылками внимание слушателей от вопроса о сущности такого переворота в миросозерцании одного и того же человеческого существа. Он не успел еще расставить всех бутылок, как его стали донимать самыми, по-видимому, жгучими для него вопросами:
– Да ты посылал ли ему книги-то?
– Каким образом могло случиться, что твои книги дали ему такое направление?
– Вот уж именно «чудеса в решете»!
Федор Петрович и при этих настойчивых вопросах пытался было как-нибудь отвильнуть от прямого ответа, – но, наконец, видимо изнемог. Он глубоко вздохнул, беспомощно опустил голову и, с выражением той же беспомощности расставив руки, произнес почти шепотом:
– Шер-ше ля-фам!
Это совершенно неожиданное вторжение в разговор об известном предмете ни в чем ему не соответствующего сообщения – прежде всего ошеломило всех собеседников; затем, когда они начали мало-помалу приходить в себя, то разговор их уже не подлежал пониманию не только постороннего наблюдателя, но и их самих, совершенно сбитых с толку.
– Так вот в чем дело-то!.. Стало быть, ты ничего не исполнил? Ни книжек, ни…
– Какие тут книжки! – беспомощно хватаясь за голову, стонал Федор Петрович. – Какой тут народ!.. «Женись! Женись!» Двадцать раз я видел у нее в руках револьвер!.. Какие тут заботы о мальчишке, когда каждую минуту грозила смерть?.. И как это удивительно случилось! Встретился я со старым приятелем на одной станции… Облобызались… Не раздеваясь, пили на радостях два дня… Потом очутился я в каких-то дебрях… Помещичий дом… Очаровательная особа… пение… признание..
И затем… Что я перенес! Что я вытерпел!..
Отчаяние Федора Петровича, в которое он сумел внести частицу комического элемента, – решительно возобладало над упреками Федору Петровичу за его негуманный поступок с мальчиком и выразилось в шумных спорах о женщинах вообще. Женолюбцы и женоненавистники окончательно завладели разговором, и народ и просвещение – все это исчезло в шуме и гаме общего галдения о женщинах. – Федор Петрович хотя и не переставал взывать:
«Что я испытал! Что я пережил!» – но уж совершенно ясно сознавал, что он выскользнул из затруднительного положения, в которое попал с своим рассказом о народных дарованиях, и твердо знал по личному опыту, что теперь о мальчике не будет и помину…
Но он ошибся. Два молодых человека, также из служащих (по межевой части), проскучав весь вечер и постоянно чувствуя себя совершенно посторонними среди гостей Федора Петровича, – возвращались домой в глубоком раздумье. Дело в том, что даже среди такой уездной интеллигенции (полагающейся быть таковою по штату), какая собиралась к Федору Петровичу с единственною целью поболтать без всякого стеснения, – всякий более или менее пожилой человек почитал почему-то своим правом относиться к новому, молодому поколению если не с явным сожалением об его участи, то уж непременно с прискорбием и снисхождением. Так повелось на Руси с давних пор: в старину живали деды во всех отношениях лучше своих внучат. – Не тот был размах. Чего стоит горсть, одна только горсть таких людей. Указать на эту горсть всегда почиталось людьми отживающими свой век весьма достаточным для того, чтобы обаяние горсти отборных людей перенести и на самих себя и, вследствие этого, ощущать собственное свое достоинство и преимущество пред прискорбным положением нового, молодого поколения. Не раз это молодое поколение слышало о себе и о своей жизни прискорбные сожаления и нерадостные сомнения, выражаемые людьми якобы широкого размаха, а так как и сама молодость всегда исполнена сомнениями о самой себе, о своем деле, о целях своей жизни, то неудивительно, что двое молодых людей, о которых идет речь, попытались поближе ознакомиться с людьми широкого размаха, – вот почему они и решились посетить один из вечеров Федора Петровича… Сами они, при узкой служебной специальности, – летом межевать, а зимой чертить планы, – глубоко скорбели, что им почти нет возможности быть полезными народу. То, что они каждое воскресенье ходили заниматься в воскресную школу, на одну большую фабрику, отстоявшую верст на пять от города, а также и то, что при межевании они всегда старались соблюсти народный интерес, не продавали свою цепь в пользу тех, кому нужно крестьянское безземелье, – все это они считали ничтожным сравнительно с тем, что они хотели бы сделать. Не считали они за что-нибудь существенное и то, что отдавали последнее средства на устройство народной библиотеки, где бы можно было читать всякому грамотному человеку за пять копеек в месяц. Все это было для них мало и мелко сравнительно с широким «размахом», о котором они слышали от люден иного поколения. Вот эти-то молодые люди, побывав у Федора Петровича и ознакомившись с людьми высшего полета, – они-то и не могли оставить рассказа о талантливом крестьянском мальчике «без помину», как полагал Федор Петрович.
– Так-то вот на Руси и гибнет народ-то!
– И дарования есть и таланты – светлые головки – все есть! да за малым дело стало – ничего существенного не делать, а только скорбеть о том, что мы-то мало делаем…
– Не пойду больше! – решил один из них и даже плюнул, очевидно испытывая на душе неприятное ощущение от болтовни доживающих свой век пустомелей.
Комментарии
Новые времена, новые заботы *
Печатается по тексту последнего прижизненного издания: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том первый. Третье издание Ф. Павленкова. СПБ., 1889.
Под названием «Новые времена, новые заботы» Успенский объединил в собрании сочинений девять очерков и рассказов, впервые опубликованных в «Отечественных записках» 1873–1878 годов. При публикации в «Отечественных записках» часть очерков (1–4) входила в серию «Люди и нравы», другие печатались самостоятельно. В 1879 году восемь очерков цикла были переизданы Успенским в составе двух сборников: «Из памятной книжки» и «Из старого и нового (Отрывки, очерки, наброски)». Здесь (в отличие от журнальной публикации, где порядок очерков был иной) очерки были напечатаны в той же последовательности, что и в будущем цикле, но очерк «Больная совесть» во второй сборник не вошел; вместо него на предпоследнем месте (перед рассказом «Голодная смерть») был перепечатан рассказ «Парамон юродивый» (см. т. 1 наст. издания). Название цикла («Новые времена, новые заботы») появилось лишь в первом издании собрания сочинений Успенского (СПБ., 1883, т. III); но и здесь очерк «Больная совесть» еще не входил в цикл, а печатался в качестве приложения к нему. Лишь при подготовке писателем второго издания собрания сочинений (СПБ., 1889, т. I) композиция цикла была окончательно завершена.
Тему цикла «Новые времена, новые заботы» раскрывает его название. Являясь и хронологически и по своей тематике непосредственным продолжением «Разоренья», цикл «Новые времена, новые заботы» изображает следующий этап исторического развития России в пореформенную эпоху. Очерки и рассказы Успенского рисуют усиливающееся развитие капитализма и его проникновение в деревню, описывают ломку взглядов и привычек, совершающуюся под влиянием этого развития у различных слоев населения, еще опутанных полукрепостническими, патриархальными пережитками, искания разночинной демократической интеллигенции. В освещении всех этих проблем Успенский выступает как подлинный писатель-реалист, продолжающий демократические традиции литературы 60-х годов. Это позволило ему приблизиться в своем изображении глубоких противоречий пореформенного развития России к Некрасову и Щедрину.
Рассказы и очерки цикла «Новые времена, новые заботы» писались Успенским в обстановке жестоких цензурных преследований. В 1874 году по постановлению Петербургского цензурного комитета была уничтожена майская книжка журнала «Отечественные записки», где была напечатана повесть Успенского «Очень маленький человек» (см. примечание к этой повести во 2 т. наст. издания). После этого следующий рассказ Успенского («Злые новости») смог появиться в «Отечественных записках» лишь почти через год – в мартовской книжке 1875 года, без подписи. Трудности, возникшие при печатании в «Отечественных записках», заставляли Успенского обращаться в другие журналы – либеральный «Вестник Европы», «Библиотека дешевая и общедоступная» и др., – но и там произведения его очень часто не пропускались, или же издатели сами не решались их печатать. «Работы мои, – писал об этом Успенский 12 апреля 1876 года в письме в Комитет Литературного фонда, – вследствие не зависящих ни от меня, ни от редакции обстоятельств, должны по нескольку месяцев, а иные и более года выжидать удобного времени быть помещенными в журналах». О постоянной, изнурительной борьбе Успенского с цензурой свидетельствуют также письма жены писателя, А. В. Успенской, за 70-е годы (журнал «Минувшие годы», 1908, IV, стр. 9-10). Следствием цензурных запрещений произведений Успенского была тяжелая материальная нужда писателя и его семьи.
Так как цензура не пропускала в печать имени Успенского, писателю пришлось прибегнуть к псевдониму «Г. Иванов», которым он пользовался и позднее, вплоть до начала 1880-х годов. Кроме рассказа «Больная совесть» (появившегося в 1873 году), все остальные очерки и рассказы цикла были подписаны при журнальной публикации этим псевдонимом.
Настороженность по отношению к очеркам цикла «Новые времена, новые заботы» царская цензура продолжала сохранять не только при жизни писателя, но и после его смерти. В 1903 году цензурный комитет не разрешил отдельное издание рассказов «Книжка чеков», «Неплательщики», «На старом пепелище» и «Неизлечимый», мотивируя запрещение тем, что, ввиду своего обличительного характера, они не могут быть «полезным чтением для народа».
При своем появлении в печати очерки цикла «Новые времена, новые заботы» не вызвали такого широкого обсуждения в современной критике, как предшествовавший им цикл «Разоренье» или последующий «Из деревенского дневника». Наиболее оживленную полемику возбудил очерк «Больная совесть», явившийся первым выступлением Успенского в жанре художественной публицистики. Реакционная критика в лице В. Г. Авсеенко сделала попытку истолковать этот очерк как славянофильскую защиту патриархально-крепостнических порядков. Это вызвало ответное выступление Н. К. Михайловского на страницах «Отечественных записок». Михайловский дал отпор реакционной критике. Он подчеркнул большой общественный смысл «очень тонкой и любопытной» параллели между Западной Европой и Россией в 70-х годах, данной Успенским. Комментируя очерк «Больная совесть», Михайловский писал, что те противоречия, которые писатель наблюдал в буржуазных странах Запада, в России находились еще в «зародышевом состоянии». («Отечественные записки», 1873, № 3, стр. 165).
Из других рассказов и очерков цикла внимание современной критики привлекли «Хочешь-не-хочешь», «На старом пепелище», «Неизлечимый», «Голодная смерть».
Рассказ «На старом пепелище» завершал напечатанную в 1876 году в «Отечественных записках» серию Успенского «Люди и нравы». Это позволило демократической критике в связи с оценкой этого рассказа высказать свою общую оценку всей серии. «Публика пропустила, – писал К. М. Станюкович, – …прелестнейшие очерки, печатавшиеся в прошлом году в „Отечественных записках“ под названием „Люди и нравы“. Там нет описаний гостиных, нет описаний обедов, но там есть такие поразительные страницы, такие живьем взятые сцены из жизни людей, ничего общего не имеющих с миром будуаров, там художник ставит вам такие вопросы, после которых читателю, не потерявшему еще совсем совести, делается как-то жутко. Именно жутко. Жутко за прошлое, за настоящее и будущее. А публика и критика пропустили эти тонкие наблюдения г. Иванова, под псевдонимом которого скрывается один из любимых и симпатичных наших народных писателей» («Новости», 1877, № 23 от 23 января). Аналогичную оценку серии «Люди и нравы» дал А. М. Скабичевский («Биржевые ведомости», 1877, № 20 от 21 января).
При подготовке каждого из трех изданий собрания сочинений очерки и рассказы цикла подвергались Успенским правке художественно-стилистического порядка. При этом в двух очерках («Неплательщики» и «Больная совесть») писателем были сделаны довольно значительные купюры по сравнению с журнальным текстом с целью усиления идейно-тематического единства всего цикла.
Книжка чеков *
Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1876, № 4.
Рассказ «Книжка чеков» принадлежит к числу наиболее выдающихся произведений демократической литературы 70-х годов. Он стоит в одном ряду с теми произведениями Некрасова и Щедрина, в которых реалистически изображено тяжелое положение русской деревни и развитие капитализма в первые десятилетия после реформы. Успенскому удалось дать в рассказе ряд больших социальных обобщений: таковы история «распоясовцев», обобранных помещиком после «освобождения», образ предприимчивого купца Ивана Кузьмича с его магической «книжкой чеков» и формулой «человек-полтина», закабаляющего разоренных помещиком крестьян. Чувством глубокого трагизма проникнуто описание «оживления» распоясовской округи под влиянием капитала – оживления, более похожего, по словам писателя, «на опустошение, на исчезание, на смерть».
В основу рассказа Успенский положил реальные факты.
Осенью 1874 года, посетив своего брата Александра Ивановича, лесничего в засеке Тульской губернии, писатель оказался свидетелем насильственного переселения и сноса дворов крестьян села Переволоки Крапивенского уезда по требованию помещика, так как к последнему после реформы отошла земля, на которой находилось село. Из письма брата Успенский, находясь в Париже, узнал, что после переселения крестьяне попали в руки кулака, купившего имение бывшего их владельца («Воспоминания И. И. Успенского» – в книге «Летописи Государственного литературного музея», кн. 4. «Глеб Успенский», М., 1939, стр. 351–352).
Тема капитализма, надвигавшегося на русскую деревню, волновала Успенского с начала 70-х годов. Кроме «Книжки чеков» эта тема была поставлена писателем в двух других рассказах 1875 года – «Злые новости» и «Оживленная местность» (второй из них, напечатанный после смерти писателя в 1910 году, является, вероятно, первоначальным наброском III, IV и V глав «Книжки чеков» или попыткой переработки их, приспособленной к требованиям цензуры).
Рассказ «Книжка чеков» был закончен Успенским в январе 1875 года и при посредстве И. С. Тургенева, высоко оценившего его, послан в журнал «Вестник Европы». Однако редакция «Вестника Европы» не решилась напечатать «Книжку чеков». После этого Успенский передал рассказ в «Отечественные записки», но и здесь он смог появиться лишь год спустя, вместе с очерком «Неплательщики». По словам жены писателя, «статью всю ободрали в цензуре». Так как рукопись рассказа в настоящее время неизвестна, определить объем и характер цензурного вмешательства невозможно. Мы знаем только, что в доцензурной редакции переселение распоясовцев было вызвано желанием управляющего выгодно сдать землю под винокуренный завод.
15 (27) февраля 1875 года Тургенев прочитал отрывок из «Книжки чеков» (под заглавием «Ходоки») на литературно-музыкальном утре в салоне П. Виардо в пользу русской студенческой читальни в Париже. Успенский сообщал об этом Н. К. Михайловскому в начале марта 1875 года: «Тургенев прочел мой рассказ „Ходоки“, и прочел превосходно». Чтение имело большой успех, публика горячо вызывала автора.
Аллегри– лотерея, устраиваемая в общественных собраниях и разыгрываемая тотчас по покупке билета.
«Вороти назад, держи около»– из стихотворения А. В. Кольцова «Лес».
…желтую-то бумажку– рубль.
Зеленая– трехрублевая бумажка.
Неплательщики *
Напечатано впервые (вместе с предыдущим рассказом «Книжка чеков») в «Отечественных записках», 1876, № 4.
В основу очерка легли наблюдения Успенского во время службы в Калуге в управлении Сызрано-Вяземской железной дороги, куда писатель вынужден был поступить осенью 1875 года. Прослужив здесь около пяти месяцев, Успенский оставил службу. О причинах своего решения он писал 14 марта 1876 года Н. К. Михайловскому: «Место… я должен был бросить, и как ни скверно это в материальном отношении, но решительно не раскаиваюсь: подлые концессионеры глотают миллионы во имя разных шарлатанских проектов, – а во сколько же раз подлее интеллигенция, которая не за миллионы, а за два двугривенных осуществляет эти разбойничьи проекты на деле, там, в глубине страны? Громадные челюсти концессионеров ничего бы не сделали, ничего бы не проглотили, если бы им не помогли эти острые двухдвугривенные зубы, которые там, в глубине-то России, в глуши, пережевывают неповинного ни в чем обывателя».
В конце 60-х и начале 70-х годов в России началось усиленное строительство железных дорог. Правительственные субсидии и гарантии вели к росту богатства крупнейших железнодорожных капиталистов-концессионеров. При строительстве железных дорог в погоне за прибылью концессионеры не считались ни с государственными интересами, ни с местными нуждами. Это делало дороги нерентабельными, вызывало необходимость в новых правительственных субсидиях, которые влекли за собой увеличение податей и других поборов с крестьянства. Описывая судьбу новой «питательной ветви» (которая оставалась «пустым местом», пока Иван Кузьмич не поставил ее себе на службу, довершая разорение распоясовского обывателя), Успенский принял участие в борьбе Некрасова («Железная дорога», «Современники»), Щедрина («Дневник провинциала в Петербурге») и других представителей передовой демократической литературы и публицистики 60-70-х годов против железнодорожного хищничества.
Центральной проблемой очерка является вопрос о судьбе «неплательщика»-интеллигента в условиях капитализма. Успенский отразил процесс, сущность которого В. И. Ленин выразил в следующих словах: «Капитализм во всех областях народного труда повышает с особенной быстротой число служащих,предъявляет все больший спрос на интеллигенцию…. капитализм все более и более отнимает самостоятельное положение у интеллигента, превращает его в зависимого наемника, грозит понизить его жизненный уровень» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 4, стр. 183). Успенский не разделял народнических представлений об интеллигенции как об единой, независимой группе, по своей природе противоположной буржуазии. Он показал формирование в России после реформы 1861 года буржуазной интеллигенции, материальные интересы которой привязывали ее к господствующим классам, обрисовал ее моральную опустошенность. Жизнь буржуазной интеллигенции, которая помогала концессионерам «пережевывать неповинного ни в чем обывателя», по словам писателя, – «мученье», «ужас, что такое, только не жизнь».
Неплательщики– представители неподатных сословий, в противоположность податным – крестьянам, мещанам. В этом и других очерках автор называет так интеллигенцию.
…распоясовец, превращенный… в истинного Лира… – то есть выгнанный из дома и доведенный до крайней нищеты, подобно королю Лиру в одноименной трагедии Шекспира.
«Аида»(1871) – опера Д. Верди (1813–1901); «Африканка»(поставлена посмертно, 1865) – опера Д. Мейербера (1791–1864).
«Парижская жизнь»(1866) – оперетта Ж. Оффенбаха (1819–1880).
Рубинштейн– по-видимому, речь идет о пианисте Н. Г. Рубинштейне (1835–1881), охотно дававшем концерты в провинции, Давыдов– вероятно, К. Ю. Давыдов (1838–1889), известный виолончелист-виртуоз.
Меломан– любитель музыки.
Конкомбр(франц. concombre) – огурец.
Булонский лес– парк в западной части Парижа, традиционное место гуляний аристократической и буржуазной публики.
Оптина пустынь– монастырь в бывшей Калужской губернии.
Стуколка– азартная игра в карты.
…под топором Ляпунова– пародийное использование стиха из драмы Н. В. Кукольника «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский»: «Пей под ножом Прокопа Ляпунова!».
Хочешь-не-хочешь *
Впервые напечатано в журнале «Отечественные записки», 1876, № 9.
В очерке намечена одна из основных тем всего цикла – тема «болезни русского сердца». Так Успенский определяет моральное состояние, которое было характерно для различных слоев русского общества пореформенной поры, в особенности для интеллигенции. Успенский показывает, что падение крепостного права было вместе с тем «отменой целой крепостной философской системы». Оно способствовало пробуждению в массах «новой, светлой мысли», вступившей в борьбу с унаследованными от прошлого понятиями и привычками. Эта борьба и порождала те разнообразные явления, которые писатель обобщенно называет «болезнью сердца». Огромная масса народа, пробужденная ломкой крепостнических порядков, начинала сознавать, как стремится показать Успенский, невозможность жить по-старому и, повинуясь голосу исторической необходимости, должна была вступить на путь искания новых форм жизни. Отсюда заглавие очерка: «Хочешь-не-хочешь». Борьбу между новыми и старыми понятиями Успенский раскрывает на судьбе героев рассказа – самого рассказчика и его отца, у которых проснулась мысль о долге перед народом.
В начале очерка Успенский выступает против французских буржуазных писателей-натуралистов, у которых «взгляд на человеческую природу доведен до такой простоты», что «романиста начинает заменять зоолог». В противоположность натуралистам Успенский считает, что задача «большого художника с большим сердцем» показать пробуждение в массах неудовлетворенности буржуазным строем, принижающим человека, показать стремления народных масс к новым, более справедливым и человеческим условиям жизни, обрисовать их внутренний духовный мир. Одновременно с настоящим очерком Успенский собирался написать специальную статью против натурализма «Брем и Золя» (письмо А. В. Каменскому от 9 мая 1875 года). Выступление Успенского против писателей-натуралистов перекликается с той беспощадной критикой французского натурализма, которую дал М. Е. Салтыков-Щедрин в своей книге «За рубежом». Тема «опрощения», разрыва со своей средой и «ухода в народ», определяющая судьбу героев рассказа, тесно связана с идеями, характерными для демократической интеллигенции 70-х годов. В дальнейшем Успенский ярко обрисовал в своих очерках и рассказах различные формы «хождения в народ», получившие распространение не только среди интеллигенции народнического толка, но и среди довольно широких слоев дворянско-буржуазной интеллигенции (цикл «Непорванные связи», 1880, и др.). Успенский показал не только те различные цели, которые влекли интеллигенцию «в народ», но и неизбежный крах ее попыток «слиться» с народом.
Корпус– фирма Герман Корпус, известный магазин готового платья в Петербурге.
На старом пепелище *
Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1876, № 10.
Рассказ написан в августе – сентябре 1876 года. Успенский описал в нем впечатления от посещения своего родного города Тулы, который он покинул в 1856 году и где снова побывал в 1870 и 1874 годах. По свидетельству дяди писателя Д. Г. Соколова, образ главы калашниковской семьи, фанатического чиновника-администратора, суровый деспотизм которого наложил тяжелую печать на нравственный облик его детей и ближайших потомков, наделен чертами деда писателя Г. Ф. Соколова (Дм. Васин. Глеб Иванович Успенский – журнал «Русское богатство», 1894, VI, стр. 48). Как и в «Разоренье» при изображении птицынского разоренного «гнезда», в настоящем рассказе при описании истории распада и нравственного разложения семьи Калашниковых Успенский воспользовался воспоминаниями о семьях своих родителей и их тульских знакомых (происходивших из той же чиновничьей среды).
Начало рассказа характеризует отношение Успенского к современной ему литературе и формулирует его собственную литературную позицию. «Лучший русский журнал», о котором говорит здесь автор, – это «Современник» 50-х годов. Говоря о печатавшихся здесь романах, в которых был выведен «лучший человек тогдашнего времени», но отсутствовал «мужик» и действие происходило в «помещичьей гостиной», Успенский имеет в виду романы И. С. Тургенева, в частности роман «Рудин», напечатанный в «Современнике» в 1856 году. Успенский высоко ценил Тургенева, но в этом и в других своих высказываниях о нем отмечал либерально-дворянский характер взглядов великого писателя. Если Успенского не удовлетворял герой дворянской литературы 50-х годов, далекий от жизни народа, то не удовлетворяли его и герои произведений таких народнических писателей 60-70-х годов, как А. К. Шеллер-Михайлов, Н. Ф. Бажин, И. В. Федоров-Омулевский. Все эти романисты (группировавшиеся вокруг журнала «Дело») стремились создать образы «новых людей», но при этом они исходили из неправильной народнической теории активных «героев» и пассивной «толпы», ждущей от «героев» подвига; они идеализировали героев своих произведений и изолировали их развитие от окружающей действительности. В противоположность «романистам новых людей» Успенский защищает реалистические традиции революционно-демократической литературы. Он требует, чтобы писатель рисовал не условные «образцы», а исходил из русской общественной жизни со всей ее действительной сложностью, порожденной борьбою старого и нового.








