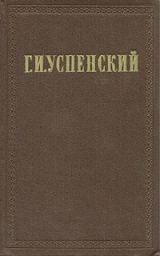
Текст книги "Том 3. Новые времена, новые заботы"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
– …Вот таким-то манером и настигла меня, милостивый государь, беда, мучения и болезнь… Нежданно, негаданно в освинелую мою душу вдруг влетело что-то божеское, – и стала мне чистая смерть от этого… И откуда бы этому всему взяться? Что такое эта госпожа Абрикосова? Истинно говорю вам – никогда она не представляла для меня интересу, и нехороша, и все… А вот поди ж!.. нет, уж это, надо думать, время такое настало, что совесть начала просыпаться даже и совсем в непоказанных местах… Примерно взять ежели мою душу: место тут для чистой совести весьма неудобное, – ни стать, ни сесть, а ведь пришла же! И на госпожу Абрикосову тоже как-нибудь нашло. Этаким манером, хоть как и на меня… И ее выгнало из каменных палат… Такое время… судебное…
Как бы там ни было, а засела у меня в голове мысль о правде… И стал я по ночам не спать – думать… Даже без ужина ложился. А это в нашем свином обиходе очень много означает – не поужинавши лечь… По ночам не спишь… Чешешься беспрерывно… Что значит, например, – мысль!.. И надумал я так, – что нет во мне правды ни на единый волос… По совести ли я взялся за духовную часть? – Нету. По совести ли вступил в брак? – Нет… Исполнил ли обязанности мои как лица духовного, да и просто как человека, которому господь дал сердце и совесть, – исполнил ли, говорю, их относительно своего ближнего? – Нет и нет… Заныло, заболело мое сердце – отроду не чувствовал я такой боли. И с каждой минутой все сильней становилась эта боль, потому что думалось все дальше и больше… Рад бы, всей бы душой рад был я думать меньше, даже бы совсем не думать – еще того было бы превосходнее, – нет! Лезет вот все дальше и дальше, без всякой жалости… Что говорят – не слышу, поддакиваю, в церкви стою с кадилом как сумасшедший и не понимаю – что это у меня в руках такое медное?.. Ей-ей!.. Страсть, как я мучился в ту пору…
Долго ли шло это, коротко ли – только почти что без остановки думал я до самого корня: выходило так, что надо бросить все, дом, имущество, духовное звание, – и во вретище идти, в поте лица своего вырабатывать хлеб… Вышло это совершенно для меня явственно и обстоятельно, то есть вот как на ладони. Оставалось только взять котомку на плечо, сделать все как следует, как по мыслям, то есть, выходило, – и шабаш. Вот тут-то и проснулся во мне свиной человек… Как стал я думать, что придется мне с тачкой, например, где-нибудь на пристани возиться – тут свиной-то человек и объявился…
– Да что ты, говорит, очумел, что ли? У нас теперь дом, покой, все слава богу, – а ты бросишь все да в поденщики… – Да так смешно мне представил, что просто-напросто покатился я со смеху… Ха-ха-ха!.. что я в самом деле за дурак!.. Да за что же это я спокою-то своего лишусь? И стало мне представляться, как это хорошо дома, с женой, и все прочее такое… И отец Иван вдруг представился чистый агнец (а то я его видеть не мог), и все прежнее так мне понравилось, что не расстаться – да и полно! Повеселел я так-то, аппетит получил, и уж так-то весело было мне у отца Ивана, что и сказать не могу.
Вышло таким образом, что сильна была совесть, измучила она меня в какую-нибудь неделю, а свиной человек был во мне еще сильнее ее. Так и пошло. Только я было обрадовался, что не думаю, что нету такого беспокойства, какое бывает у человека, ежели зашумит совесть; только было стал думать, что все пойдет по-старому, что пусть этоделает кто-нибудь другой, а я, мол, отказываюсь, – а на деле-то стало выходить еще хуже да хуже… Трудней да трудней.
Не бросил я ни должности, ни семейства, как выходило по совести, и стал поэтому притворствовать. Теперь уже я знал, что поступаю бессовестно, а все-таки поступал… Стал я поэтому чувствовать себя не просто свиным человеком, а обманщиком – обманщиком и правды и кривды, – и такая завелась на душе у меня гадость, что и пересказать вам ее, право, нет никакой возможности… И с каждым часом становилось все гаже и хуже, потому что совесть стала кричать все громче и громче, да и свиной человек, тот стал наравне с совестью неистовствовать… Совесть-то меня вон куда вознесет, а свиной человек – низвергнет… Больно мне, мучительно, несказанно было больно!.. Кажется, чего бы проще – взял да и сделал бы по правде, вот как госполо Абрикосова: не выходит по совести, – взяла и бросила все!.. Нет! Свиной человек такие мне аппетиты разожжет, что и не пошевельнешься свернуть с дороги. Совесть-то уж больно коротка. – А ведь больно, перед богом, больно было, жестоко больно… Что же делать-то? Как облегчить?.. Естественно, начинаешь извинять себя, валишь на кого-нибудь. Вот таким манером я и стал валить все «на соседа». Во-первых, ближе всего жена, – на нее; потом на отца Ивана, на мужиков… Но на жену, конечно, валил я больше всех. А так как чувствуешь, что виноват-то сам, что если они животные, то ты только посодействовал им быть ими, а не что-либо другое сделал, – чувствуешь это и пьешь, конечно… Вот откуда и пьянство началось. Ну, а потом меня и жена бросила. Тут уж я совсем растерялся. Надо вам сказать, что между пьянством и ругательством частенько-таки бегал я к госпоже Абрикосовой, жаловался на свою участь. Принимала она во мне участие, и так как мне очень грустно было жить на свете, то вот я к ней и хаживал… Жена ж, с которою я ежеминутно почти ссорился, принимала это за любовь. Бесновалась и была для меня в тысячу раз хуже, чем прежде. Уж и мучил ее я – надо мне отдать честь. Все, что в самом скверно, все это я открыл в ней и за все это ругал. Впоследствии оказалось это ей на пользу; но тут как-то вышла она из всякого терпения и пришла в неистовство, грозилась жалобой архиерею и обещалась изуродовать госпожу Абрикосову собственноручно. Вражда поэтому была между нами смертная, ибо я заступался за госпожу Абрикосову, что еще более разжигало нашу взаимную ненависть. Вот раз, после хорошей схватки, супруга, не долго думая, и в самом деле явилась к госпоже Абрикосовой. Явилась она с намерением драться, но, вероятно, оробела, зато осыпала ее всякими ругательствами. Главное, разумеется, «отбиваешь мужа», и «архиерею», и этакое… Та, то есть госпожа Абрикосова, тоже взбесилась… Потому уж очень было все это несправедливо – и погнала мою жену вон… Та не пошла, а ревмя заревела. Стала жаловаться на свою участь, на меня, на мои неистовства и зверства, и госпожа Абрикосова так этими ее рассказами растрогалась, что и сама заревела и стала ее целовать и успокаивать…
С этих пор пошла между ними неразрывная дружба… Обе они отшатнулись от меня, – и остался я один со своими свинскими наклонностями да с водкой… Жена моя, которой очень много досталось от меня горя, стала даже благодарить меня за эти ругательства мои, обличения ее дикости и грубости… Это ее подготовило понимать то, что ей стала толковать госпожа Абрикосова. А как только она поняла все, то и ушла от меня… Она моложе, в ней меньше грязи, да и то, что есть, жестоко обличено мною. Вот она и ушла – учиться… Ну, тут я совсем ослабел и упал… Тяжело это даже рассказывать…
Оставаться среди общества отца Ивана и его практических знакомых – мне было не по себе, скверно… Уйти – коротка душа. Поэтому остаюсь – и лгу. Напьюсь – высказываю все и ругаюсь. А главное, после того как ушла жена, – мне еще виднее стало, что я-то не уйду, что именно не могу уйти.
Захотелось умирать…
А как только увидал я, что надо мне умирать, – тотчас страсть как захотелось мне жить. И тут я, очертя голову, пустился во все тяжкие. За бабами, например…
Пошли доносы: в пьяном виде обругал отца Ивана, ругался в храме, бесчинничал на свадьбе с бабой… Ну и выгнали и засудили…
Под началом, в монастыре, – я отрезвел как будто, и стало мне в самом деле ясно, что либо – помирать мне, либо – все вновь. Вот я и думаю: возможно ли какими-либо манерами фундаментально излечить и душу и тело? Тело, например, восстановлять медицинскими специями, а душу – одновременно чтением?.. Как вы полагаете, не возможно ли будет этими средствами себя возобновить, дабы вновь уже жить честно и благородно?
* * *
На этом вопросе окончился рассказ дьякона. Предоставляя решение его знатокам, я, как простой наблюдатель нравов современной жизни, могу обратить внимание читателей на существование в этой глуши небывалой доселе болезни. Эта болезнь – мысль. Тихими-тихими шагами, незаметными, почти непостижимыми путями пробирается она в самые мертвые углы русской земли, залегает в самые не приготовленные к ней души. Среди, по-видимому, мертвой тишины, в этом кажущемся безмолвии и сне, по песчинке, по кровинке, медленно, неслышно перестраивается на новый лад запуганная, забитая и забывшая себя русская душа, – а главное – перестраивается во имя самой строгой правды.
Не воскрес *
(Из разговоров про войну)
I
…Поезд, увозивший в Россию русских добровольцев, отошел от Базиаша на Пешт часу в десятом вечера; на дворе было темно, и шел проливной дождь; не было поэтому никакой возможности облегчить грусть-тоску чудными видами, открывающимися по обеим сторонам дороги, на Дунай, на горы, – тьма была кромешная… Волей-неволей приходилось убивать время в разговорах; но висевшее над всеми соотечественниками сознание непреложности факта возвращения на родину отбивало охоту от веселой болтовни… Всякий знал, что… «все равно» приедем в Россию. Что-то очень близко подходящее к тоске гимназиста, возвращающегося в гимназию после каникул, тяготило и возвращавшихся на родину добровольцев… Такие ли были они, когда ехали на войну! Новизна положения делала тогда всех смелыми до дерзости, веселыми до… ну хоть до безобразия, храбрыми до зверства… Геройство, храбрость, мужество, подвиги великодушия, жертвы – все это трогало сердце и воображение каждого… а теперь – поди-ко вот опять в тот самый департамент обиняков, из которого с такою радостию, месяца два-три тому назад, пошел на смерть… Изволь-ка теперь опять пожаловать в лоно супружеского счастия, к пяти малолетним соотечественникам… Поди-ко теперь опять поклонись такому-то и сякому-то и попроси его, чтоб он опять принял тебя на низший (и то дай бог) оклад!.. Русская земля припоминалась всем в виде какого-то недоразумения, чего-то не имеющего результатов, но ужасно трудного, – и вот почему поезд, наполненный добровольцами, был угрюм и скучен… Не веселило его также и все то, что он во время сербского каникулярного времени узнал сам о себе… Прежде он думал, что он, русский человек, – жертва интриг, несправедливостей, притеснений, жертва людской неблагодарности, жадности, бедности, и был твердо уверен, что освободись он хоть на одну минуту от всех вышеупомянутых бед, так сейчас же, сию минуту, все увидят, как он добр, благороден, великодушен, вежлив, щедр, непоколебим и честен… А теперь вот после этого долгожданного отдыха он чувствует что-то совсем другое… «Был дан тебе отдых или нет?» – вопрошает его совесть. «Был!» – должен ответить он. «Как же ты воспользовался им?..» – «Безобразно!» – «Свинья! – говорит совесть и продолжает: – Дали тебе денег?» – «Дали». – «Много ли?» – «Очень довольно». – «Послал ли ты жене, как обещал?» – «Н-нет…» – «Куда ж ты их девал?..» – «Так…» – «Нет, – пристает совесть: – ты говори, куда именно: это – деньги кровные, это – копейки, гроши, данные на святое дело. Куда ты их девал?» – «Пропил…» – «Еще?» – «Ну… там…» – «Свинья! – еще раз утверждает совесть и опять продолжает: – Еще куда? не все ж ты „там“… оставил?..» – «Как можно! – почти вслух восклицает унылый доброволец и хочет высчитать по пальцам… – Сапоги… – припоминает он с удовольствием. – Шутка сказать – три дуката!.. Потом? Чай, сахар, табак… ну, это вздор, пустяки… а еще что, куда же я дел?..» И увы, кроме сапог, капитальных приобретений никаких нет возможности припомнить… «Неужели я все это там?..» – «Свинья!» – заключает совесть.
Унылый доброволец выпивает из горлышка бутылки несколько глотков вина и, освежившись немного, решает, что прошло, мол, – не воротишь… Но совесть не молчит и тотчас же вновь затягивает песню…
«Ты зачем ехал-то сюда? За что ты деньги-то взял?..» – «Давали! Я брал… За славян!» – «За что?» – «За… в пользу славян…» – «Это ты в пользу славян дебоширничал-то?» Ничего не может ответить доброволец, но с глубоким огорчением чувствует, что хорошо бы было, если бы его убили там… «Велика важность!» – говорит совесть. «И вправду», – решает доброволец со вздохом… и молча смотрит в темное окно, по которому льют струи проливного дождя…
– А хорошо, право хорошо жилось в Сербии!.. – произносит кто-то со вздохом…
Унылый доброволец под влиянием этих слов начинает припоминать что-то действительно хорошее, приятное… но совесть и тут осаживает его… «Смотри, смотри… вот в Россию приедешь, так там, брат…» И мечтания немедленно прекращаются… «Выпей, брат, и смотри в темное окно, да уж молчи!» – сжалившись, советует совесть. Доброволец действительно тотчас же выпивает и твердо решается ни о чем не думать. «Все одно, – решает он, – приедешь!» Некоторое время опыт не думать удается ему, то есть некоторое время он ровно ни о чем не думает, но скоро из стука колес по рельсам, из звона цепей, сцепляющих вагоны, начинает довольно явственно выделяться как бы шопот чей-то, ежеминутно повторяющий что-то вроде: «свинь-свинь-свинь…»
И доброволец волей-неволей опять начинает неприятную беседу с своей совестью.
В том отделении вагона, где пришлось сидеть пишущему эти строки, было бы, пожалуй, благодаря присутствию необычайно унылого человека, еще скучней и тоскливей, если бы присутствие двух вполне счастливых соотечественников не парализовало тоску и уныние, распространявшиеся от унылого пассажира.
Эти двое были веселы и счастливы, каждый по-своему: один только вчера выиграл в карты порядочный куш и, ухватив его, на всех парах рвался в Вену, в веселое место, расправить кости, попить, погулять на все руки, на все деньги… Его словно лихорадка какая трясла всю дорогу: так и тянуло – скорей, скорей, к веселому венскому разгулу; заснуть он не мог и хотя закрывал глаза и откидывал голову к спинке, но видно было, что он не спал, а грезил и волновался предстоящими удовольствиями, поминутно прерывая свои попытки заснуть насвистыванием мотивов из Оффенбаха… Другой довольный пассажир был доволен покойно, солидно, основательно; это был военный, не менее майора чином, плотный, здоровый человек; он возвращался к семье, был доволен, что попадает к рождеству и привезет с собою, кроме полного здоровья (ранен он не был), еще и три сербских ордена. Еще на станции, в Баэиаше, объяснив всем желавшим с ним разговаривать причину своего благополучия, что вот, мол, едук рождеству, слава богу здоров, ордена получил все и т. д., он уж не входил ни в какие другие разговоры, а просто распространял вокруг себя своим здоровым и довольным лицом покои и благополучие… Войдя в вагон, этот счастливый человек уложил по местам свои вещи, плотно и удобно сел и, поморгав немного глазами, стал их закрывать с таким предвкушением непробудного, детски-покойного сна, что даже и неугомонный любитель венских удовольствий поддался было снотворному влиянию своего соседа и пробовал дремать… Эти двое довольных, счастливых смягчали несколько то тягостное впечатление, которое производил третий, необычайно унылый пассажир.
Он был точно потерянный: исхудалый, щеки ввалились, нос вытянулся, взгляд казался пугливым, даже вполне испуганным, костюм плохонький, холодный не по погоде и надетый кое-как. Не желая спать, я поневоле должен был довольно часто встречаться глазами, с этим унылым человеком, тем более что он сидел как раз против меня, и только после многих часов езды мог признать в нем человека, который мне отчасти знаком, которого я несколько раз в жизни уже видал, хотя и с большими, большими промежутками. Было ему теперь лет тридцать пять или около того, но не больше; несколько лет тому назад я встречал его за границей в разных городах, и главным образом в кружках русской заграничной молодежи. Долбежников (такая фамилия была у унылого пассажира) хоть и вращался в тех же кружках, но был как-то чужд всем им и всем и каждому из лиц, их составлявших. Какая-то печать уныния и тогда уже лежала на его нездоровом, худосочном лице, и что-то гложущее его душу тяжело всегда действовало во время его посещений, всегда, впрочем, кратких, торопливых и большею частью ненужных; придет торопливо, озабоченно, как будто хочет что-то сказать очень важное, но не может ничего, и вдруг как-то соскучится, раскиснет и уйдет. В руках его постоянно была какая-нибудь книга, читал он много, что-то писал, но никто его не расспрашивал о его работе, и вообще им мало интересовались. – «Был Долбежников!» – «Ну, что же?» – «Ничего… Ушел». Вот и все, что можно было сказать о нем в то время после каждого его посещения. А между тем нельзя было не заметить, что его что-то мучает, хотя он и не возбуждает ни в ком симпатии настолько, чтобы кто-нибудь тронулся его измученным лицом и разузнал подноготную его души, тем не менее нельзя было сомневаться в том, что он настоящим образом мучается… По некоторым отрывочным выражениям, помнившимся мне, и по характеру людей, с которыми он знался, можно было думать, что он человек убеждений крайних. Так я по крайней мере думал о нем тогда, лет пять назад, и был, признаюсь, несказанно удивлен, увидав этого самого унылого, измученного человека, месяца два тому назад, в Белграде, в костюме добровольца с длинной саблей и, что особенно поразило меня, в самом цветущем виде, без всякого подобия чему-нибудь, что бы напоминало его прежний, страдальческий вид. Долго, помню, смотрел я на него, встретив случайно в одной из белградских «кафан», вместе с толпой других саблегремящих и веселых офицеров, и не мог поверить, чтобы это был Долбежников, «тот самый». Откуда этот цвет лица, этот некоторый форс, эта развязность военного, любующегося звоном своих шпор, своей саблей?.. Несомненно было, конечно, то, что все это было «напущено» на Долбежникова обществом военных, среди которых он теперь находился, но несомненно было также и то, что и сам Долбежников значительно изменился; он поглядел на меня – тогда, при встрече в кафане, – узнал, слегка кивнул с высоты величия (ясно начертанного на всем его ликовавшем лице) и тотчас присоединился к веселой компании, которая шумно расселась вокруг круглого стола, застучала ножами, солонками, стаканами и потребовала три бутылки самого лучшего неготинского… Долбежников, к удивлению моему, также стучал ножами и стаканами и, как мне казалось, даже желал показать именно мне, как человеку, знавшему его в унылом виде и в другом обществе, что вот, мол, теперь и он стал молодцом и что ему, мол, все равно, что будут думать о нем в «том», в заграничном обществе… Правда, смешноват был немного этот худощавый, длинный и все-таки болезненный человек среди румяных, громкоголосых, здоровых и сильных новых своих товарищей, но сравнительно с тем, что он был, лично мне он казался вполне переродившимся, необыкновенно поздоровевшим, расцветшим, словом – человеком, переделанным «наново». Я порадовался этому, хотя и удивился этой перемене, ввиду убеждений, которые я ему приписывал. «А! вот, – подумал я, – отчего он стонал и страдал… Ему надо было шпоры, саблю да разливанное море военной стоянки…» И, признаться, не очень радовался этой способности русского человека необычайно резко переменять свои взгляды и, глядя на пирушку Долбежникова с товарищами, невесело думал о том, что способность эта есть и не в одном Долбежникове…
…Оставив Долбежникова, под влиянием этих размышлений, пировать в кафане, я ушел и до сей минуты, то есть до встречи в вагоне на возвратном пути в Россию, не видел уж его нигде. И опять он меня тут изумил: куда девался его расцвет, его бодрый дух, бодрый вид? Что скомкало его опять в комок, скомкало в тысячу раз больше, чем он был скомкан прежде, до своего расцветания? Вид его был такой убитый, измученный, жалкий, что, повторяю, если бы не те два пассажира, которые распространяли от себя покой и жажду удовольствия, так было бы просто тяжело смотреть на человека, который, казалось, вот-вот что-нибудь над собой сделает, – так ему скверно и трудно.
Задернутый синей занавеской фонарь наполнил вагон полумраком, мешая мне, вместе с переменою, происшедшею в Долбежникове, узнать его лицо; но когда я узнал, что это именно Долбежников, то мне стало его как-то ужасно жаль и захотелось разузнать наконец, что такое происходит в этом человеке, отчего он расцветает и отчего вянет. Я заговорил с ним… Он обрадовался и тотчас же сообщил мне, что он уже давно узнал меня, что он меня помнит, что он меня видал там-то и там-то, и в мельчайших подробностях припомнил те редкие минуты, когда я случайно сталкивался с ним – пять лет назад (избегая почему-то белградской встречи); припомнил тотчас же, и тоже с мельчайшими подробностями, всех прочих наших заграничных знакомых, с какой-то жадностью расспрашивал – где такой-то, что с этим, что с тем, и вдруг с каким-то страстным порывом произнес:
– Ах, какие это люди! Это именно необыкновенные люди!
– Необыкновенные? – переспросил я.
– Необычайные! – возвышая голос и широко раскрыв как бы помешанные глаза, произнес он. – Необычайные, – это верно, я теперь это узнал… Все решительно они – необычайные…
– Кто же именно? – Я назвал несколько фамилий.
– Все до одного… Все, кто «там»!
– Все, кто «там»? – переспросил я. – Сколько знаю, никаких особенно крупных дел…
– Вот никаких-то дел, – перебил он меня, уж совершенно как сумасшедший, схватив за плечо: – вот именно – вот кто дел-то никаких не делает… вот все они и необыкновенные и передовые.
– И передовые?
– И передовые!.. То есть именно вот те!..
Говоря последнюю фразу, он необыкновенно волновался и положительно казался мне сумасшедшим.
– После этой войны я только их и считаю настоящими героями… Уж и в том непомерный подвиг, что они не пристают к этому свинству, как вот я пристал… Можете себе представить, ведь я убил человека… За что, скажите, пожалуйста?
Последнюю фразу он проговорил так, как будто бы совершенно не понимал случившегося с ним.
– Убили? Кого?
– Турка убил.
– Так что же? ведь вы были волонтером, военным, а ведь на войне убивают…
– За что?
– За Сербию, я полагаю, вы убили его.
Долбежников смотрел на меня во все глаза и молчал.
– За Сербию? – переспросил он.
– Я думаю – да!
– Нет, не за Сербию.
– Не за Сербию? За что же?
– За сви-ни-ну!
– Как это так?
– Да-с, за свинину…
Я сказал, что не понимаю его, и Долбежников пустился мне самым подробнейшим образом разъяснять свой взгляд на сербскую войну. Сербским купцам оказывалось нужным отделаться от торговых трактатов, которые до сих пор заключала с соседними державами Турция, как опекунша Сербии; трактаты эти были до сих пор такие, что сербским капиталистам нельзя было дать ходу своим капиталам, нельзя было иметь фабрик, заводов, нельзя было выделывать кож… Можно было торговать сырьем, которое возвращалось в Сербию выделанным продуктом и стоило втрое дороже. Так вот теперь, говорил Долбежников, купцы хотят приобресть оружием право получать больше барышей, то есть продавать свинью, которая теперь продается только сырая, и продается крайне дешево, продавать ее копченою и получать дороже. Оружием они хотят добиться этого права, потому что при мирных переговорах – необходимы уступки вроде предоставления иностранцам права приобретения поземельной собственности, что сразу даст возможность хлынуть в Сербию иностранным капиталам, и, разумеется, местные капиталисты не устоят.
Когда он, наконец, окончил довольно длинное изложение своего взгляда на войну, то спросил:
– Ведь из-за свинины?
Действительно выходило, как будто из-за свинины вышло все дело…
– Ну, вот видите… Я… убил человека… Да сколько там убито народу!.. – с каким-то ужасом произнес он, прижав ладонь к виску, как бы от боли.
– И я, – продолжал он уж сам с собой, – смел когда-то критиковать «тех», придираться к мелочам, к вздорам… Нет, – оживленно произнес он, обращаясь ко мне: – не верьте никому, кто бы он ни был, если он скажет, что… кроме, конечно, мужика (всемирного мужика… не только русского, прошу заметить) – что есть что-нибудь лучшее…
Длинный панегирик прочитал он вслед за этими словами. Не напускное, а что-то болезненное, ненормально страстное было в его словах. Необыкновенно было странно смотреть на этого, очевидно изломанного человека, убивающегося о какой-то свинине, о турке и волнующегося страстными порывами любви к каким-то людям, которые, по его же словам, тем и пленительны, что ничего не делают. Странно было смотреть на этого больного чудака в виду детски-спокойно спавшего майора, возвращавшегося с той же самой битвы и не только не убивавшегося об убитом турке, но, напротив, получившего за то же самое ордена и чувствовавшего детское удовольствие от этого, знавшего, что удовольствие это разделит с ним вся семья, к которой он поспеет «как раз на рождество…» Закинув голову на спинку дивана и полураскрыв рот, военное дитя спало сном невинности… Легкое дыхание, легкое, как пар, только слегка колебало кадык, едва заметный среди плотных, жирных мускулов шеи… А тут рядом сидел исхудалый, зеленый человек и, не смыкая глаз, мучился тем самым, от чего сосед его был совершенно счастлив… А оба были из той же святой Руси.
Панегирик был так длинен и запутан, что я решился прервать его и спросил:
– Вы теперь куда ж направляетесь? К ним?
– Ни-ни-ни… – как бы даже с ужасом прошептал он. – Я теперь так благоговею перед ними, что ни за что не приближусь к ним, по крайней мере на тысячу верст…
– Отчего же так? – с удивлением спросил я. – Благоговеете и не хотите видеть? Это трудно понять!
– Боюсь видеть; боюсь жить с ними… с кем бы то ни было… Не умею жить!.. Вот именно – жить не умею. Непременно выйдет какой-нибудь вздор и скука.
Я не понимал его и смотрел на него молча, думая, не скажет ли он чего потолковее.
– Я знаю, – говорил он, глядя в сторону, – я урод. Это я знаю самым прекрасным образом… Но таких уродов, как я, много… По крайней мере я, то есть лично я, видал таких уродов: не умеют жить, да и полно!.. Я сам происхожу из купцов… то есть из среды (да и все наши среды такие же), где как-то уж в крови лежит убеждение, что «мы как-нибудь обойдемся», где не живут (вспомните Островского), а как-то «бьются» об жизнь. Деньги еще кой-как держат этих людей на свете; но выньте оттуда, из любой такой семьи, деньги – все развалилось, все беззащитны, одиноки, потеряны… Я вот из такой идеально неживой семьи… Семья эта из тех, которые валятся, расползаются… Я отбился от нее больше всех… Случай ли или что другое нанесло меня на разные думы, на книги… Думы понесли меня к людям – и тут-то я и узнал, что не умею жить… Представьте себе, что вот я обдумал такое-то дело, или кто-нибудь другой обдумал, или затеяли дело, которому я сочувствую, которое люблю, считаю верным и т. д. Если только (он говорил, отделяя каждое слово) в это дело войдет три, четыре человека таких, как я, – все пойдет к чорту, то есть не только даже обличья дела не будет, а будет непременно вздор. Совершенно детское непонимание жизни, совершенно детское неумение жить сейчас даст себя знать… Обижусь какими-нибудь пустяками, не захочу быть дружным с тем-то, потому что… ну хоть потому, что манеры мне его не нравятся… нос скверный… И так этот вздор начинает гнести меня, тяготить, начинает завладевать мною всем, что я хочу бежать… бежать… И сам я отвратителен себе, да и в другом пробужу своей мелочностью тоже дурные и мелкие черты – ну и пошло… И выйдет вздор… я так все и бегал… Я уж узнал себя… Все бегал… Меня брат, купец, назвал даже «пассажиром» за эту беготню. «Не человек ты, говорит, а пассажир». И правда… Вот и теперь я боюсь ехать туда. Я знаю: приеду и начну замечать носы… да разные вздоры, да обижаться пустяками, да отыскивать в человеке скверное… Вот еще ужасная черта!.. Сам плох и в другом, в самом лучшем, точно чтоб себя успокоить, только и ищешь вздоров, чтоб сказать себе: «да и он такое же тряпье…» Нет, нет, ни за что не поеду!.. Издали, когда меня жизнь не трогает… мне лучше…
Подошла какая-то станция. Доброволец, выигравший деньги, и мы двое (военное дитя продолжало спать) вышли из вагона и выпили по маленькой бутылочке жидкого венгерского вина. Вино не развеселило нас: Долбежникову, хотя он и поуспокоился немного, все-таки, видимо, было тяжело после безотрадных наблюдений над самим собой, а мне было тяжело смотреть на выложенные им передо мною больные внутренности… Спать не хотелось… Стали опять разговаривать.
– Как вы в Сербию-то попали? что вы там делали?.. – спросил я.
II
– Как?.. Да вот все оттого же!.. Представьте себе, каково должно быть состояние духа у человека, если этак лет пять кряду ни от себя, ни от других не выносишь ни одного доброго впечатления… Я встречаюсь с самыми лучшими людьми (теперь я знаю, что это – самые лучшие люди), с людьми, которых – не живя с ними… а, как я вам говорил, издали… размышляя о них – я уважал, благоговел… Но сойдясь по-людски – для простого ли разговора, для маленького ли дела – терялся!.. Позабывал даже их достоинства, позабывал их значение, потому что они были обыкновенные, живые люди… Этого уж довольно, чтобы я тотчас охладевал… начинал бы цепляться за мелочи… и так далее, не доводил бы дело до того, что и меня никто не хотел видеть, да и я был зол на всех… Ну, лет пять такой жизни измучили меня… Я переполнился наблюдениями таких вздоров (он вдруг озлился, ударил себя кулаком по коленке и воскликнул: «И отчего я только и способен наблюдать вздоры!..» – плюнул и долго молчал, тяжело дыша от гнева)… Ну и сам опротивел себе, и все мне опротивело… смерть! – Смерть в это время показалась мне таким наслаждением, таким удовольствием… буквально лакомством, что я сию минуту даже и не подберу сравнения… именно лакомством… И, разумеется, я бы покончил с собою, если бы не эта история с нехристями…
– Почему же именно этаистория спасла вас, оставила вас живым?.. – спросил я, особенно налегнув на слова именно эта.
– Именно эта, – тоже налегая на эти слова, отвечал Долбежииков, – история помогла мне остаться в живых потому только, что никакой другой истории с подобным драгоценным для нашего брата свойством в ту пору не было… А свойство этой истории то, что она из глубины народа… Это значит, что народ, наконец, взялся… а раз он взялся – вывезет, будьте покойны!.. Удивительное дело! (Рассказчик остановился.) Под этими разломанными деревянными крышами, в этой глуши, холоде, бедности живут же вот какие-то идеи, спасающие общество от гибели! Чем они живут – решительно непостижимо! По двадцати, тридцати лет их буквально ничем не кормят, никто об них не заботится, не беспокоится… Живут они под сгнившими или разнесенными ветром крышами, как мужицкие клячонки, тощие, маленькие, некормленые, сущие одры… Кормят их изредка, эти одры-идеи, захожие солдаты, богомолки, кормят старой соломой, такой старой, что я вот, благородный человек, и ног-то об нее не оботру… Живет!.. Благородный человек, сотрудник дождя и ветра, разрушающих соломенные крыши, ни на клячу, ни на крышу, ни на владельца того и другого обыкновенно не обращает никакого внимания; заполучив что ему надо, он знать не хочет, что делается там, под этими крышами, полагая должно быть, что можно танцовать, отрубив собственные свои ноги, и, разумеется, ошибается, гибнет… Отказавшись признать своими и главными интересами интересы этих крыш, этих крупинок собственной своей крови, и полагая, что он может прожить (и еще веселей), самсотрудник ветров и дождей оказывается недолговечным и в двадцать лет обыкновенно успевает только расточить эту собственную кровь чорт знает на что… Щедрою рукою раздает ее актрисам, проматывает за границей, душной пылью сыплет в несметном множестве на возню с собой, одиноким в бессодержательной семье, покуда, наконец, настанет истощение… Человек обессилел, весь вывалялся в грязи, не знает, что с собой делать… «Вывози! – вопиет: – спасай!» и глядишь, мужик запрягает одра… В такую ужасную для сотрудника в разрушении крыш минуту сотрудник начинает откармливать одра уж не старой соломой, а жирной газетной трухой, и глядишь – одер отъелся в одну неделю… – «Гляди, барин! – говорит хозяин: – как бы худо не было… Лошадь у меня стоялая, дернет с места – держись только». – «Ничего, ничего, там подержут…» – «А ежели примерно мы Европию твою кишками, например, завалим человечьими, и это ничего?» – «Заваливай, – кричит сотрудник дождей: – заваливай! Только вывози!..» И откормленная газетной трухой одер-идея, напутствуемая ударами кнута, выхватила погибающего из грязи и поставила на сухое место… Кишок, разумеется, выпущено без сметы – уж об этом говорить нечего… Слава богу, что барин-то не утонул и опять вышел на дорогу… А как только вышел – и опять говорит: «Теперь ты веди своего одра куда хочешь, а я самдойду…» И, разумеется, не дойдет во веки веков… Я это говорил к тому…








