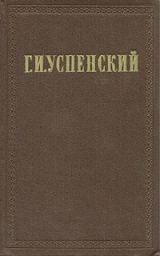
Текст книги "Том 3. Новые времена, новые заботы"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц)
И вот я в деревне. Как добрались мы сюда, какие фортели выделывали мои патроны для того, чтобы продолжать путешествие (заем денег у архиереев, в монастырях, продажа 200 тысяч пудов несуществующего хлеба, телеграмма от министра о награде – и т. д. и т. д. до бесконечности), – этого я вам описывать не буду. Все это гнусно в высшей степени. Теперь же мы живем в холодном, растасканном, пустом доме, без денег, почти без достаточной пищи, в непрестанном ожидании полиции, которая неминуемо должна увековечить различные эпизоды нашего путешествия в виде протоколов и судебных взысканий. Ни малейших следов европейской цивилизации не заметно ни в обстановке, ни в нас самих: ходя по комнате в валенках, «сам» не снимает ни шапки, ни полушубка даже за обедом, «сама» в мужских калошах, с подвязанными щеками, с миллионами капризов и вообще в таком непривлекательном виде, что подробно я вам изображать не желаю. Ссоры и брань, угрюмые, хладнокровные, – ежедневны и ежечасны между обоими супругами. Дети не отходят от меня, осаждая тысячами вопросов, и обнаруживают при этом в себе сущих дикарей. Ни книг, ни бумаги, ни перьев в достаточном количестве нет. Вчера удалось добыть у священника целую десть – и вот я строчу вам это письмо. Завтра или вообще на днях я напишу вам еще письмо, в котором мне хочется предложить на ваше обсуждение несколько вопросов, тем более что они возникли отчасти благодаря вам. Помните, мы шли в Лефортове, я заходил по адресу «Полицейских ведомостей»? Вы тогда сказали, что у меня на уме только я, да моя мать, да рубль? Ну так вот по этому поводу… О жалованье теперь ни патрон, ни патронесса и не говорят даже, не упоминают ни слова, да и у меня язык не повертывается сказать. Что меня ожидает, решительно не знаю; но знаю, что у меня есть значительные обязанности, которыми я не могу манкировать. Пожалуйста, ответьте на мое письмо, которое получите вслед за этим, и будьте здоровы…»
* * *
Но ни «на днях», ни через месяц, ни чрез год я не получал от моего «иностранца» никакого письма и не имею об нем вообще никаких известий. Правда, не прошло и полугода после разлуки с «иностранцем», как я сам покинул Москву, но в те месяцы, которые прошли после получения первого письма, я не раз встречался с его знакомыми, немецкими портными и т. д., и спрашивал их о нашем общем знакомом. Все они отвечали, что ничего не знают… Так я и забыл его, отдавшись течению личной моей жизни, или, вернее, моей личной каторге, – и только через два с половиною года, в одном из глухих уголков русской земли, я неожиданно получил письмо от забытого мной «иностранца». Письмо долго странствовало по русским городам и весям, все было исписано справками и измято штемпелями почтовых контор. Оно было так же длинно, так же аккуратно написано, но содержание его на первых же порах вовсе не напоминало мне того расчетливого, аккуратного, с маленькими потребностями маленького уютного сердца, каким мне казался «иностранец» в былое время. «Вот уже два года, как мы расстались, – писал он, – и сколько перемен и удивительных происшествий в моей жизни! Во-первых, я более полутора года женат на m-me Нееловой; ее муж умер через полгода…» Прочитав это, я не верил своим глазам. «Что это такое? – спрашивал я самого себя. – Женат на той особе, которую он изобразил такими красками и которая никак не могла внушить ему не только любви (я вспомнил ее вид, манеры, голос, жеманство – все, что видел в тот осенний вечер), но и уважения. Как же могло произойти это?» Письмо должно было разъяснить мне эту тайну, и я принялся за него.
IV
С величайшим недоумением принялся я за чтение письма, в котором «иностранец» извещал меня о своем невероятном браке, стараясь поскорее добраться до уяснения себе причин такого поистине неблагообразного союза.
«Пишу вам, – говорилось в письме, – об этом событии так подробно потому, что, кроме вас, у меня нет человека, который бы мог понять и беспристрастно посмотреть на этот поступок. Ни мать, ни сестра, естественно, не могут смотреть на это дело иначе, как на мою собственную гибель, и, разумеется, напиши я им подробно «обо всем», я заставлю их только плакать и уж не знать покоя… Вы не поверите, как я опечален этим для матери и сестры «несчастием», как мне нужно теперь постороннее разумное, доброе слово, не одобрение – нет, а просто словечко сочувствия. Это мне необходимо для того, чтобы оправдать в моих собственных глазах то жестокое дело, которое я сделал с матушкой, и укрепить во мне веру в трудное дело, за которое я взялся. А дело точно трудное: надо много воли, надо много терпения, терпения окаменелого, не на день, не на месяц, а на десятки лет, то есть до старости, до конца жизни… Вы пишите мне. Поддержите, будьте другом; пишите, бога ради, побольше о служении, о презрении к мелочам жизни, – мне дорого иметь теперь катехизис самопожертвования: я выдолблю его наизусть, наполню им и ум и сердце – отдам всего себя… А вы так много и так складно рассуждали на эту тему… Вы можете написать мне хорошее письмо… и вы его пишите скорее, как можно скорей… Я буду его постоянно хранить при себе, как спирт, для тех минут, когда закружится голова… А она у меня часто кружится; но покуда я еще не падал в обморок, покуда держусь на ногах и продержусь еще долго, потому что надо…
Трудное дело это я взвалил на свои плечи все потому же, почему, думая бежать с дороги, не мог это сделать и остался, приехал в глушь, – то есть потому, что ко мне привязались покинутые, одинокие, одичалые дети. В этом все. С каждым днем по приезде в деревню я убеждался, что только во мне они находят внимание к их бесчисленным детским нуждам и интересам и что только от меня зависит не погубить их. Я могу их оставить; у меня есть к этому все основания – я должен помогать матери, сестре; кроме того, я не виноват, что на свете есть тысячи взбалмошных отцов и матерей, не сознающих своих обязанностей к своим детям; наконец я, как живой человек, должен жить и для себя; мне тоже хочется больше знать, любить, хочется выработать себе некоторые удобства жизни, хочется иметь возможность оплачивать моими трудовыми деньгами такой уголок, где бы я мог отдохнуть от трудного дня, где бы мне было тепло… И, без всякого сомнения, я могу все это сделать, всего этого достигнуть. Для этого стоит только нанять лошадей за полтора целковых до города, подождать там денег от матери (на это освобождение она наверное достанет необходимую сумму) – и вновь быть свободным… Однако мог ли я это сделать? Мог ли уехать? Чтобы сделать это – я должен бы был оставить на произвол судьбы три человеческие существа, три человеческие души… Я должен был их бросить, сказав им примерно следующее: «Милые мои ребята! Я должен вас оставить, но вы на меня не сердитесь; я не виноват, что судьба послала вам таких безумных родителей, что вам грозит в будущем нищета, невежество и что единственным спутником и пособником вашим в жизни будет только громадная лень, воспитанная в вас примером ваших родителей. Не виноват я также в том, что вы ничему никогда не выучитесь, что будете праздными ртами и что, может быть, желание и привычка жить не трудясь доведут вас и до преступлений. Очень может случиться, что вот ты, Федя, в трудную минуту не задумаешься стянуть у калашника калач, у пьяного – деньги; что ты, Вася, способный, сообразительный мальчик, быть может станешь шулером, подделывателем чужих подписей, а ты, Лиза… Во всем этом, милые друзья мои, я не виноват; обвиняйте в этом ваших родителей, но меня пустите; у меня есть матушка, которой я должен помогать; я хочу жить для себя, учиться, больше знать. Посудите вы сами, за что ж я отдам вам мою жизнь? А чтобы спасти вас, чтобы оградить вас от угрожающей вам праздной, а может быть, и позорной жизни, – нужна моя жизнь, жизнь не виноватого ни в чем человека…» Не правда ли, что я мог бы в оправдание своего удаления привести множество самых веских доводов? Ведь весь же свет живет, повинуясь правилу: «Я иду мимо твоих страданий потому, что не я причинил их тебе»; отчего ж мне-то не поступить таким же точно образом, тем более что ведь я прохожу мимо чужой беды не только во имя собственного спокойствия, но главным образом во имя спокойствия моей старухи-матери, во имя необходимости дать покой ее больным костям? Ведь эта старушка трудилась всю жизнь, ела трудовой хлеб, каждый кусок булки, каждая ленточка на ее изломанной шляпе – ведь это все добыто варварским трудом учительницы, которой нужно было всю жизнь бегать по купеческим домам и в то же время вскармливать, учить, выводить в люди троих собственных детей. Могу ли я жертвовать ею для этой семьи дармоедов, праздных ртов, людей лени, желудка и животных удовольствий?.. Моя труженица-старушка – не чета этим расхлябанным, развинченным, бессодержательным людям: она – живой, любящий человек, а это – грибы на крепостной куче, и, кроме погибели вместе с кучей, на которой они выросли, им ничего не предстоит в будущем, да и не может предстоять… Такие соображения, как видите вполне основательные, да и не соображения даже, а искренние движения сердца, исполненного глубокой любви к моей дорогой старушке, однако разбивались вдребезги при мысли о том, что точно ли «не может» выйти ничего путного? Я ясно видел, ясно как на ладони, что «не может» выйти только тогда, когда я уйду. Я видел, что я буду причиною гибели трех человеческих существ, которые только на меня и надеются, только во мне одном и чают спасение. Я видел, что, повинуясь движению собственного сердца и покидая ребят, я с минуты отъезда из деревни делаю сразу трех человек, могущих быть честными людьми, людьми праздными и вредными; эти три несчастные существа стали на моей дороге, загородили мне путь, и я должен бы был спихнуть их, отогнать от себя, чтобы открыть себе путь туда, куда мне надо… Мне так представилось это: я отрываю от себя их тоненькие ручонки, вцепившиеся в меня из страха упасть в бездну, отрываю потому, что мне тяжело от них, что я сам могу упасть вместе с ними, и вот один за другим, плача и жалуясь, падают и без звука исчезают в темной бездне эти маленькие люди, мое иго и бремя… И тогда я, облегченный от ноши крестной, беспрепятственно продолжаю «мою» дорогу. Можно ли было сделать это? Хватило ли бы у вас, у кого хотите, духа сделать такую жестокость и что же бы была тогда моя жизнь, мои труды для спокойствия старушки-матери, если каждый миг, каждый час я должен бы был чувствовать на душе тяжесть трех смертей? А что это были бы действительно три нравственные смерти, три невинно убиенных – это я знал, видел. И вот отчего я не уехал. Не правда ли, как все это странно, удивительно? Что мне они? Чужие, не мной рожденные, не мной испорченные люди… Надо бы идти мимо, пожалеть, посочувствовать и уйти… А поглядите поближе, и окажется, что если в вас есть стыд – не уйдете, потому что «нельзя» уйти, нельзя уходить, потому что на эти-то чужие дела, несчастия, ошибки и надо отдавать свою жизнь… Ведь так? Ведь правда это? Вот вы меня тут-то и поддержите! Напишите мне об этом что-нибудь сильное, что-нибудь такое, что бы высоко поднимало душу над всем человеческим муравейником… Пришлите, если можете, мне книг о мучениках, о самоистязателях, о людях, которые не пикнут, если их жгут каленым железом, загоняют им под кожу деревянные занозы, о людях, которые умирают за других, которые за чужое благо томятся в тюрьмах десятки лет, о людях, от которых остались скелеты, прикованные к стене тюрьмы цепями… все это мне надо, все это меня укрепит, и все это умно, хорошо, все это нужно… Я ведь вам рассказал только цветочки моей теперешней жизни, то есть только мою привязанность к детям, – и вы не поймете, почему я говорю о каленом железе, до тех пор покуда я не расскажу вам других обязательств, которые я уже «должен» был принять на себя, раз у меня нехватило духа скинуть с моей дороги троих ребятишек. Вот про эти-то другие, более трудные обязательства я и поведу теперь речь.
Шли дни за днями, и моя личная жизнь все более и более переполнялась заботами о чужих людях и о чужих интересах. Мне выяснились характеры моих тюремщиков-ребят, их желания и нужды, и мысль моя незаметно, но последовательно стала работать над этими желаниями и нуждами. Сегодня, например, меня огорчает какая-нибудь зверская, дурная привычка в том или другом питомце, и я думаю о том, как мне выбить ее из него. Завтра я обрадован открытием необыкновенной наблюдательности в Лизе и также не могу пройти молча мимо этого открытия… А чего стоит любовь к вам детей и их взаимная ревность! Право, бывают минуты, когда стоит подумать, и подумать крепко, о равновесии их душ, не дать одному заедать другого, не дать их детской хитрости, детской практичности пользоваться моим влиянием во вред своему товарищу. Все это заботы, тревоги, все это требует наблюдения и напряженной деятельности. Как доктору надо помнить лекарство, которое он дал больному месяц тому назад, так и мне надо помнить каждое свое слово, потому что иначе меня обличат три свидетеля, которые отлично помнят каждое мое слово.
Таких забот, таких тонких, едва заметных, но крепко опутывавших меня нитей прибавлялось с каждым днем все более и более, так как все больше и больше я и дети оставались одни, без всякого вмешательства родителей. Отец был близок к смерти, а мать, – может быть, и не из одного только приличия, – была при нем почти всегда. Неелов собственно умирал или старался умереть со дня возвращения в деревню; единственной силы, которая давала ему жизнь, – денег, – не было и не предвиделось. А без них он был пуст и холоден, и только водка держала его на ногах и поддерживала кой-какие надежды, конечно фантастические и только в пьяном виде возможные. Но месяца через три-четыре по приезде он слег, с ним сталось что-то вроде белой горячки; не бешеной и шумной, а тихой, жалобной, с робким, безмолвным выражением грусти в глазах. Необычайно жалок был он в эти минуты, жалок, как умирающее кроткое животное. Оно не понимает, почему оно прожило жизнь так, а не иначе; оно не раскаивается и не жалеет жизни, потому что наверное чует смерть… Быстроте приближения смертного часа в особенности помог местный врач, человек холостой, пожилой, давно утративший веру в науку и признававший только водку, которая его, однако, никогда не была в силах свалить с ног, хотя он употреблял ее беспрерывно. Его пациенты, купцы, чиновники, приказчики и т. д., особенно любили его за то, что он, несмотря ни на какую болезнь, позволял все. «Вот так доктор – уж прямо сказать ха-ароший человек! Поди-ко вот к немцу: он тебе ни рыбы, ни грибов, ни квасу, ни капусты – ни боже мой! Пост не пост – он внимания не обращает – ешь скоромное, пакости душу! Ну, этот не то! У этого „все можно“, все позволяет… – А капусты можно, ваше благородие? – Можно! Жри, говорит, все, что хочешь! – Вот это так… Ну, конечно, что рублик лишний надо уж наддать за позволение, уж без этого нельзя, зато – все ведь можно, ни в чем нет остановки!» Такую же систему лечения он применил и к Неелову. Он лечил его от пьянства, давал лекарство, но сам же при каждом визите требовал водки и приглашал принять в ней участие своего пациента. «Да не вредно ли ему?» – спросит жена. «Ну, вот! с доктором-то вредно! Ведь я тут! Пей, любезный друг, не прерывай. Обрывать хуже!» – «Обрывать хуже!» – шепчет умирающий и следует совету. Визит оканчивался только по опустошении всего, что бывало в доме питейного, спиртного. Умирающий, не поднимавшийся с кровати, засыпал свинцовым тяжелым сном, румяный, с налитыми водкой щеками, доктор уезжал лечить какого-нибудь другого больного тем же самым способом. В утешение, на прощанье, он обыкновенно прибавлял что-нибудь успокоительное: «Пусть спит, это хорошо!.. Испарина… Накройте потеплее, а потом лекарство дайте… Ничего! Завтра я заеду». А завтра опять спаивал больного.
Неелов умер после одного из таких визитов, умер во время тяжелого, пьяного сна… Похороны его раскрыли для меня новый, неведомый мир – народное пониманье, народную доброту… Кажется, чем бы, кроме худого, помянуть этого барина, который сумел все расточить, все проесть, который буквально только «проедал» – сначала души, потом выкупные свидетельства, оброки, земли и леса… Кажется, чем помянуть, как не худым, человека, который, имея в руках бездну средств, не сделал ближнему ни капли добра и только под пьяную руку давал на водку и то тоже пьяным. А между тем вышло все иначе: вся деревня не только не негодовала на него, но жалела, понимала, что этот урод-барин не мог прожить жизни как-нибудь не так, как прожил. Все жалели, что «на роду» этому человеку было написано такое праздное существование. Но праздная, бестолковая, беспутная жизнь никем не ставилась ему в вину, как калеке или слепому не ставится в вину слепота и хромота. «Крест», «несчастье» – вот как определили они причину и смысл существования покойного барина. Не было во всей деревне ни одного мужика, ни одной бабы, ни одного подростка, который бы не пришел проститься с ним и простить его. Мне кажется даже, что они и приходили, уже простив его: так тихи и добры были их лица, так усердно они молились у гроба, как бы стараясь помочь своими молитвами этому несчастному человеку на том свете… Нечто глубоко умное и доброе было внесено толпами простого народа, приходившими на панихиды, в пустые комнаты барского дома, в которых до сей поры не жило ни одной – ни доброй, ни худой мысли… Вопросы об наследстве, об имуществе, о том, кому достанется стол, кому сани и т. д., обыкновенно целой тучей возникающие вокруг всякого мало-мальски не нищенского гроба и наполняющие, кажется, самый воздух комнаты, где лежит покойник, каким-то трудно сдерживаемым злостным и жадным раздражением, – эти мелочные вопросы были подавлены, уничтожены теми глубокими философскими и религиозными мыслями, которые вносили безмолвные толпы простых крестьян. Их усердные молитвы заставили всех задумываться над уродливою жизнью покойника, заставили думать о жизни вообще, напоминали о прощении, о невольности прегрешений – словом, заставляли думать не о санях, не о стульях и лошадях, а о чем-то высшем, хватающем за душу и развивающем ее.
Я не знаю, сумел ли бы я и не в такое время, как три-четыре дня панихид и похорон, заставить ребят с такою серьезностью задуматься над словами и понятиями: «жизнь», «хорошая жизнь», «жизнь худая, неугодная», «доброе», «злое», как это без всяких усилий сделали крестьяне в эти короткие три-четыре дня. Ребята мои после смерти отца заметно стали серьезней, задумчивей, да и лично в моем сознании с этих пор народ стал занимать почти такое же место, как и ребята. «Не обязан ли я, – стало приходить мне в голову, – изменить отношение будущих господ к этим умным, трудящимся в поте лица людям?» Это было только начало тех идей, к осуществлению которых, как увидите впоследствии, привела сама жизнь, обстоятельства, и притом самые-самые будничные, простые… Теперь же, в виду смерти человека, бесплодно и неумно пользовавшегося положением, мы, то есть дети, только задумывались над предстоящею нам задачею жизни, хотя уже и сознавали свое сравнительное бессилие и начинали стыдиться.
Обстоятельства, однако, скоро рассеяли это неопределенное ощущение стыдливости за свое малосодержательное существование, потому что очень скоро представился случай думать о своих отношениях вполне определенно. По смерти отца моих ребят надо всем имением назначена была опека, и опекуном был сделан дядя покойного помещика, один из соседних владельцев. Это был в полном смысле слова делец-крепостник, не барин, а скорей кулак, человек, умеющий молотить рожь на обухе. Собственное его имение процветало, то есть он получал много доходу и не растрачивал этот доход, а копил и копил, хотя был человек вдовый и имел от покойной жены только одну дочь, девушку не менее его практическую и холодную. Народ звал их антихристами и жидоморами, господа считали примерными хозяевами. Я видел в нем несомненную любовь к труду, впрочем только к такому, в результате которого непременно получался доход, деньги. По виду это был человек громадного роста, громадной силы, с красным, с синими веснушками, лицом, маленькими веселыми глазами, с белыми тараканьими ресницами, с грузным, но крепким корпусом и тяжелой поступью. Он явился в наше имение на другой же день по назначении его в опекуны и тотчас принялся за дело, то есть с шести часов утра в разных концах деревни стал раздаваться его хриплый, перерываемый свистящим кашлем голос, грозивший, прикрикивавший, обрывавший, распекавший и т. д. Буквально целый день он пробыл на ветру и дожде в своей демикотоновой шинели, осматривая сараи, конюшни, погреба, чердаки, отдирая доски от дому и ударом топора в бревно сруба удостоверяясь в прочности постройки, определяя, сколько простоит и т. д. Вечером за чаем он тем же сиплым голосом с неподдельным негодованием разругал всех и вся: покойника, его вдову, мужиков, приказчиков, бесцеремонно указывал на глупость хозяев, на подлость подчиненных и т. д. Мы почувствовали, что это настоящий хозяин и барин, что этот человек принимается за дело «серьезно», невольно подчинились его строгому на всех нас взгляду, и притихли. Очень скоро и нас и мужиков он взял в ежовые рукавицы. Величайших трудов стоило вытребовать от него самое незначительное количество денег на самые необходимые нужды; но, к удивлению нашему, он сумел из имения, в котором, казалось, ничего не оставалось непроеденным, извлекать доходы в размерах поистине неожиданных. Он «приструнил» мужиков, потянул с них недоплаченные оброки, восстановил забытые обязательства, откопал и разузнал о таких участках, которые принадлежали Неелову и по нерадению последнего находились в пользовании у крестьян, завел десятки процессов о порубке, о потраве и выигрывал все до одного и притом в самые короткие сроки. В два-три месяца такого управления крестьяне оказались на законном основании почти неоплатными должниками, людьми закабаленными: на каждом, кроме долгов денежных, лежали долги рабочих дней и на ином доходили до громадной цифры 100, 150, даже и до 200. Наложив таким образом на все население медвежью лапу, опекун делал все, что хотел, и доходы полились к нему.
И крестьяне и мы – «господский дом» – очутились в одних и тех же ежовых рукавицах, одинаково чувствовали над собою хозяйскую власть и волей-неволей сближались, входили в положение друг друга. И делалось все это, как видите, без всяких предвзятых идей насчет «сближения». Дело происходило совершенно просто: мужики стали посещать нас с жалобами, рассказывали про то, как он их разоряет, просили защиты. Защиты мы, конечно, дать не могли; напротив, мы сами жаловались мужикам на этого же самого кровопивца, но, не делая разоряемым людям добра, мы – по крайней мере я и дети – на самом деле узнавали историю того куска хлеба, который мы ели… Все эти описи имуществ и распродажи крестьянского добра, все эти моментальные решения в пользу нашу разных судов и инстанций и годовые, десятками лет тянущиеся дела, затеянные крестьянами, словом, вся эта процедура хозяйства – все это невольно, но неотразимо доказывало нам, что так жить и делать, как делали до нас хорошие и нехорошие хозяева, нельзя. Я по крайней мере, а за мной и дети не могли себе представить, не могли понять, где, в каком месте человеческого сердца может находиться источник той хозяйственной жадности, которою, например, обладал наш опекун? Мы не понимали, совершенно не понимали, что за соображения, что за логика руководит всеми этими хорошими хозяевами в их неусыпных трудах по притеснению и озлоблению посторонних им людей? Что поддерживает в них, в этих хороших хозяевах, неутомимость во всех этих неприязненных действиях? Одним словом, и я и дети – мы одинаково недоумевали, как можно всю жизнь быть сердитым; вставая в 6 часов утра, тотчас же начинать злиться, жаловаться, притеснять для того, чтобы вечером с ругательствами выпить рюмку водки и с сознанием тяготеющей над собою неприязни сотен людей тревожно заснуть до 5 часов другого дня, чтобы и его ознаменовать такою же самою изобретательностью всяких неприятностей для ближнего. Нам так была ясна бессмысленность, глупость, а главное пошлость такого рода отношений к людям, что мы не имели надобности ни в каких гуманных книгах, ни в каких «печатанных» доказательствах несправедливости подобных порядков. Убеждение в этом вошло в меня и в ребят так же просто и залегло в душе так же прочно, как входит в понятия ребенка убеждение в том, что зимой нужен снег, а летом цветы, что собаки не ходят в птичьих перьях, что рыба не бывает покрыта шерстью. Словом, сознание неизбежности с нашей стороны прекратить все это залегло в самую глубину чувства, родилось и стало жить без разговоров, без доказательств, без определений и разъяснений. Интересы, надежды и радости деревни до такой степени оказались важными и действительно правдивыми интересами, что в самом непродолжительном времени отодвинули на самый задний план все интересы нашего господского дома. Наравне со всей деревней мы сегодня ожидали сходки и с таким же нетерпением интересовались ее решением по какому-нибудь деревенскому делу; наравне со всей деревней мы желали, чтоб начатый деревней процесс против опекуна был выигран мужиками. Мы вместе с деревней тосковали накануне описи и продажи, перебирая и разбирая характеры и натуры разных кулаков, которые нахлынут завтра на мужиков, делали предположения, кому что достанется, кто что купит… Словом, мы жили тем же самым, чем жила и деревня. Благодаря ей получилась совершенно определенная цель и для наших учебных занятий. Мы стали учиться уже не просто для того, что нужно быть грамотным и вообще нужно знать, а для того, чтобы, выучившись, сделаться мировым судьей и решать дела по справедливости; мы учились для того, чтобы поступить в адвокаты и защищать, а денег за это не брать. Лиза должна была выйти замуж за министра и сослать опекуна в Сибирь. Это были самые первообразные планы, в моих ребятах еще не угасло сознание своего привилегированного положения, и при полном сочувствии чужой беде они полагали, в качестве барчат, помогать этой беде как-то со стороны и вовсе еще не подозревали, что червь любви к ближнему, раз он стал точить сердце человеческое, насквозь проточит его и докажет, что сочувствие со стороны – не вся правда. Во всяком случае я верю, да и вы сами видите, что зародыш любви к ближнему в ребятах моих не выдуманный, не напускной, и он будет расти, хочешь не хочешь, как и всякое зерно…
Пишу вам такое громадное подробное письмо, потому что мне надо, для самого себя надо и необходимо, объяснить крупный факт моей жизни, мой брак, а этого сделать нельзя без всех изложенных подробностей. Постараюсь, однако, рассказывать покороче. Наши отношения с госпожой Нееловой все время были самые обыкновенные отношения чужих, хоть и знакомых друг с другом людей. Так по крайней мере относился я к ней; я живу у нее для детей, живу потому, что не могу бросить их; она понимала это, не мешалась и, казалось, была очень довольна и покойна. Но «мужчина» – не семья, не любовь, а именно представление, понятие «мужчины» – играл в ее миросозерцании и жизни значительную роль: повдовев месяцев шесть-семь, она стала по временам заводить речь со мной на ту тему, что, мол, вся прошлая жизнь ее была какой-то дурной оон, а теперь вот начинается нечто новое, «новая жизнь». Выходило даже так, что теперь только и начинается собственно жизнь, а прежде было бог весть что. Рассказывала она в таких случаях о своем браке, о том, какой молоденькой девочкой выдали ее за покойного мужа, который не смотрел на нее иначе, как на молодое животное. Оказывалось, что и сам покойник не был ничем иным, как животным… Вот теперь, оставшись без этого дурного влияния дурного мужа, она только начинает жить, понимать жизнь, сознавать свои обязанности; она с ужасом видит, что ничего не знает, ничему не училась, и не раз говорила мне, что теперь бы она охотно села за книжку вместе с своими детьми… Все это было справедливо, верно, и я бы охотно сочувствовал ей, если бы не видал, что начало «новой жизни» она связывает не столько с «книжкой», сколько с «новым» мужчиной. Она «сейчас будет другая» – так можно было понять, зная ее натуру, – но только рука об руку с другим, новым мужчиной. И это бы все ничего, но, за неимением мужчин, ни новых ни старых, в наших глухих местах, я видел, что она непрочь была пойти в путь и со мной… Однажды как-то вышло так, что она нашла предлог прийти ко мне в комнату, когда я уж собирался спать, завела речь о своей горькой доле и заплакала; потом с ней сделалась истерика, потом обморок, среди которого она, однако, могла еще сделать мне указание и слабо произнесла: «расстегните!» Я расстегнул ей платье, но почему-то придал всему этому иное толкование, которое и она, должно быть, поняла, потому что сердилась и не говорила несколько дней кряду. Ввиду всех этих обстоятельств я хотя и понимал ее положение, и прошлое и настоящее, но держался от нее в стороне, был с нею чужой; жажда личной свободы хоть в этом-то отношении как-то особенно была сильна во мне после того, как я отдался чужим интересам. Именно это-то право также в свою очередь идти с кем-нибудь рука об руку я и хранил за собой, как единственное, что осталось от моего я. В довершение всего она мне не нравилась, была физически мне неприятна, не говоря о несимпатичности, которою веяло от ее душевной изломанности. В самом деле, чего-чего не было пережито этим праздным существом в эти праздные и растленные годы замужества! Если бы кто-нибудь сказал мне, что обстоятельства заставятменя быть мужем этой женщины, что я должен буду жениться на ней, – уверяю вас, я бы только засмеялся, так это было невероятно, глупо и подло. «Уж этого-то я не сделаю никогда, что бы со мною ни случилось»… Да и я представить не мог, чтобы кто-нибудь или что-нибудь могло «отдать» меня в мужья… Ну возможно ли это, посудите сами?
А ведь «отдали»! И опять всё те же ребята!
И отдали так скоро, что я до сих пор еще не опомнился!.. И как все просто вышло!
Опекун стал ухаживать за вдовой. Два или три раза он приехал «так», не по делам, разговаривал со вдовой о «постороннем», даже – представьте себе! – «о Париже». Волчье лицо его улыбалось ровно полчаса; полчаса губы у него были сдвинуты на сторону: это он желал понравиться. И как ни покажется это невероятным, а он имел успех у вдовы… Волк этот делал, конечно, «свое же дело»: он добирался до имения, желал быть полным хозяином, отчего ж не повенчаться на этой дуре, которую, конечно, он сумеет привести к одному знаменателю? И любительница идти рука об руку с первым встречным нимало не возмутилась мыслью о подобном браке. Посредники между опекуном и ею, явившиеся немедленно вслед за тем, как сам опекун обнаружил свои намерения получасовой улыбкой, сумели выставить на вид, что дети при таком хорошем хозяине будут обеспечены на всю жизнь, что сама она вновь вступит в свет, который отворачивался от нее, помня ее заграничные экскурсии, но главное, что выставлялось на вид, было то, что опекун – мужчина свежий и что, живя с ним, она попрежнему «ничего не будет знать»… Отсутствие всякой сообразительности и благоговение пред словом «мужчина» стали быстро укреплять в пустой голове моей будущей жены мысль о браке с волком… И я с ужасом увидел, что мне необходимо разрушить этот план, этот брак; но я не мог иначе этого сделать, как женившись на ней сам.








