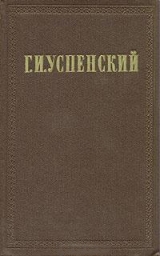
Текст книги "Кой про что"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
А все бог!
Не дал бы бог дождя – и оставались бы двадцать три тысячи человек "не пимши, не емши", стали бы помирать, разбрелись бы кой-куда… Оно легко сказать: "кой-куда", а на деле эти слова имеют широкое образовательное значение для народа. Попробуйте поночевать под стогом в экономии – выгонят дубиной или собаками затравят; а приди в город да улягся, повидимому в пустом месте, положим хоть в сквере у памятника, изображающего какого-то человека из чугуна, – так заберут в часть, продержут ночь, потом хоть и выпустят, но куда? На ночлег – денег нет, а лечь так в пустом месте, где стоит чугунный человек, невозможно! Много-много можно узнать о "добрых людях" и "о порядках", которые они сделали, если господь не пошлет где-нибудь дождичка!
В нынешнем году мне пришлось довольно-таки насмотреться на это "самообразование". В некоторых местах Северного Кавказа в настоящем году [4]4
1886.
[Закрыть]самый полный неурожай, а народу нахлынуло туда из внутренних губерний видимо-невидимо, и огромное большинство нахлынувших остались без всякой работы, потому что и та, которая еще могла бы быть, разобрана местным казачьим населением, как известно в прошлом году пострадавшим от неурожая и оставшимся без скота по случаю бескормицы. В газетах были публикованы сведения прямо об умерших с голоду пришлых рабочих. Но и оставшиеся в живых, проевшие свою одежду и даже косу, произвели на меня впечатление не менее поучительное, чем та «наука», которая и им далась в опыте «шатания» по русской земле за куском хлеба. В общем наукаэта (чего-чего не пришлось им перевидеть и пережить) оставила в толпах, разбредающихся «кой-куда», не светлые впечатления: злой язык, злая насмешка, нахрап, грубость и явное желание при первой возможности «дать сдачи» – вот результаты той «науки», которую волны народные, хлещущие из конца в конец России и отхлынывающие опять в ее глубину, вынесли из подлинного, ничем не прикрашенного знакомства решительно со всеми сторонамисовременной нашей действительности. Маленького внимания к положению этих шатающихся по России масс достаточно для того, чтобы ясно убедиться в невозможности для них в огромном количестве случаев вынести из опыта жизни «среди добрых людей» что-нибудь мало-мальски теплое и светлое: какая масса молчаливых страданий таится в этой толпе и какое повсюдное, хоть может быть невольное, невнимание к человеку, очутившемуся в нужде и на чужой стороне!
III
В какое-то из первых чисел июля, часа в четыре вечера, сел я в Керчи на частный пароход, отправлявшийся по портам Азовского моря в Ростов. В первом и втором классах публики было чрезвычайно мало – один-два человека, но зато «чернонародия» должно было сесть на пароход «до Бердянска» видимо-невидимо. Вся пристань буквально была завалена народом – косарями; все они были люди буквально рваные: грубого холста рубахи и штаны, онучи, лапти, шапки всевозможных сортов – и картузы (с козырьками и без козырьков), и фуражки, и соломенные шляпы, не было только дамских головных уборов. Но «дамы» были в этой чернонародной толпе: они тоже шли за хлебом, за работой, но, повидимому, не скучали. Около такой работницы всегда кружок, смех, водочка и песня. Эти «вольные бабы-работницы», несмотря на поденный труд, умеющие возбуждать нескончаемое полуночное веселье в толпе поклонников, также измаивающихся на каторжном труде, – этот тип показался мне весьма любопытным.
– Чего же мы ждем? – спросил я кого-то из служащих, когда уже миновал час, назначенный для отхода парохода.
– Да вот только трюм под народ уберут, сейчас и тронемся.
Посмотрел я в этот трюм – там точно ничего не было, то есть он был почти совершенно пуст. На нескольких кусках керченского камня, составлявших весь его груз, матросы настилали доски, но настилали кое-как, торопясь и, повидимому, не зная хорошенько, что собственно из ихней работы должно выйти.
– Ну да ладно! будет! Давай звонок! Садись, ребята! – скомандовало какое-то начальство, а когда толпа "косаков" зашевелилась, подобрала свои мешки и косы и тронулась к сходням, переброшенным с пристани на пароход, это же самое начальство прибавило:
– Не вдруг! Не разом! Иди помаленьку, не толпись – всем место будет! Не напирай! не напирай!
И вот, как саранча, серой вереницей потянулись с пристани рабочие…
– Полезай по лестнице – вот, вот по этой, полегоньку! Косы-то клади в одно место, оно просторней будет! Потеснись пока, потом рассортуем… нельзя сразу!
Повинуясь этим указаниям начальства, народ покорно, хотя и не без острот и шуток, лез в темный трюм, точно в колодезь, и лез до тех пор, пока трюм не был набит народом буквально битком…
– Тут местов нету! – стали доноситься голоса из погреба.
– Ничего! потеснись, ребята! потеснись пока что! Сейчас оно рассортуется – всем место будет!
И в темный погреб протискивалось еще десятка два косарей, но протискивалось уже с великим трудом.
– Да говорят тебе – нету местов! – уже довольно грубо стало слышаться из погреба. – Задохнуться, что ли, людям-то?
– Сейчас, сейчас! – ответствовало начальство. – Не шуми, друг любезный, сейчас все будет! Ну – иди сюда, по бортам, поровней садись…
– Да чего садиться? Мы и постоим.
– Садись, садись рядком пока что; вот тронемся, так оно само собой рассортуется, всем будет место…
Через несколько мгновений палуба была буквально битком набита народом – ни пройти, ни шагу ступить из рубки не было возможности.
"Что же это они делают?" – не без страха перед чем-то, не обещающим ничего хорошего, мелькнуло было у меня в голове, но не успел я уяснить себе, чего я собственно испугался, как начальство крикнуло:
– Давай третий!
И затем что-то гробовым голосом забурчало в медную трубу, проникавшую в машинное отделение. Пароход тронулся – и мы вышли в море.
– Что это как его на бок накренивает? – стали поговаривать пассажиры.
– Ребятки! – бегая в толпе, бормотал торопливо тот самый начальник, который распоряжался посадкой. – Поди-кось на тот борт человек десять… А то дюже на этот навалились… Ничего! Оно сейчас умнется!
Но не десять, а сорок, пятьдесят человек уж сами, без всякого приказания, перебежали на другой борт, и пароход, выпрямившись на одну, две минуты, снова накренился уж на другой борт.
– Господин! Эй! – послышалось из трюма, – докуда ж вы нас тут томить будете?
– А тебе что ж, в первом классе хочется ехать? – уж сердясь, заговорило начальство, – ты за три-то гривенника в первом классе хочешь ехать?
– Так, стало быть, так тут торчмя и стоять всю дорогу?
– Здесь и дыхать-то нечем! – послышались другие голоса… – Ишь как от машины-то нажаривает!
– Чего его слухать! вылезай на свет!
И из трюма началось шествие.
– Пошел назад! – закричал капитан. – Назад пошел!..
– Да вот, как же! – отвечал ему первый мужик, появившийся из колодезя. – Так я тебя и послухал… Полезай сам!
– Молчать, каналья! Назад! – орал капитан каким-то звериным голосом, но его никто не слушал, и из трюма лезли и лезли вспотевшие, распарившиеся фигуры.
И с пароходом стали твориться чистые чудеса: его сразу почти положило на правый бок, так что левое колесо вертелось и брызгало на воздухе. Трюм опустел, и вся тяжесть сосредоточилась на палубе. Эта живая тяжесть, ругаясь, толпясь, толкая друг друга, стала метаться из угла в угол; упавший на бок пароход в то же время начинал утопать и носом, капитан орал, перегоняя народ на корму, и народ, бросаясь на корму, переваливал пароход как-то винтообразно на другой бок. Все это орало, ругалось самыми бесчеловечными словами; в буфете летели рюмки, стаканы, варенье из банок лилось по полу, а по варенью полз кусок сыру, как по маслу… Чем объясните вы, как ни полнейшим презрением пароходного начальства к простому рабочему человеку, прием этого живого груза на пароход, который не имеет возможности поместить его? Очевидно, начальство вполне было уверено, что этот живой груз "перетерпит", сидя и жарясь в трюме, что он "испужается моря", что пожалеет гривенника, отданного за проезд, что это стадо, которое можно облаять и оно послушается… Но на этот раз начальство ошиблось, и не успело оно еще и хорошенько разойтись, как толпа загудела:
– Назад, дьяволы! потопить хотите, мошенники! Назад! Поворачивай назад! Ребята, отымай у него колесо-то – долой его, подлеца!
Какой-то черный мужик как ураган вырвался из толпы и, весь бледный, дрожащий, ринулся по направлению к капитану…
Но пароход уже повернул назад и, то ложась на бок, то глубоко наклоняясь вертикально, шел назад к Керчи.
– Погоди, дьявол! – ревел капитан; но то, что ревела толпа, того описать невозможно.
– Да ведь ежели бы утонуть, так и капитан бы утоп! – осмелился возразить кто-то на эти неистовые ругательства.
– Как же! – ревели ему в ответ ожесточенные и озлобленные люди. – Как же, потонут они, подлецы!..
– Так он тебе и потонул!
– Ему нашего брата погубить охота… У них штраховка… Он получит, дьявол…
– Потонут они, каины!
И полнейшая уверенность в том, что начальство осталось бы здорово и невредимо после того, как потонул бы народ, слышалась в почти до истерики озлобленных голосах взбешенных, негодующих людей.
Из Керчи заметили, что с пароходом случилось что-то неладное, и когда, кувыркаясь, пароход подходил обратно к пристани, она вся была усеяна народом. Ожесточенная толпа прямо всей массой хлынула в контору за деньгами.
– Целые сутки пропали, анафемы! – ревели они. – Ближе завтрева нету парохода… Чего день-то стоит? Кто будет платить? Пойдем к начальнику… Ребята! Взыскивай с душегубцев!
Не знаю, чем кончилась эта история, но через несколько дней в газетах появилось известие о кровавой драке, происшедшей в Бердянске между местными и пришлыми рабочими.Думаю, что среди этих последних были и мои керченские попутчики. Если представите вы себе ту крайнюю нужду, которая заставила их без всякой прибыли проколесить по сожженным полям Северного Кавказа, заставила потом перебраться на последние копейки с кавказского берега на крымский, да и здесь на первых порах, благодаря пароходному начальству, протомила целые лишние сутки, а может быть и более, – то можете понять, до какой степени они были объяты жаждой какого-нибудь заработка в то время, когда, наконец, очутились в Бердянске. Они сразу уронили цены до ничтожества; местные рабочие (пришлых в этих местах почти не бывало), получавшие порядочные цены, ожесточились – и вот произошло кровавое побоище из-за куска хлеба, побоище, так сказать, между родными братьями, рабочими людьми…
Вот что иной раз выходит из-за нехватки-то! Но то ли еще бывает!
IV
Сел я, также нынешним летом, на одной из станций Владикавказской железной дороги в вагон третьего класса. Кроме меня, в вагоне был какой-то бравый казак – чина я его не знаю, но знаю, что не рядовой. В вагоне, где мы поместились, была на двери надпись: «Отделение для дам». Посадил нас сюда обер-кондуктор, объявив, что это отделение будет пусто, потому что, ежели придут дамы, то стоит им только внушить, что вагон этот первый от локомотива и что в случае какой катастрофы он разлетится вдребезги первым, – так дамы сейчас и убегут. Казаку очень понравилось это сообщение, и он при помощи его выпроводил очень многих представительниц прекрасного пола. Показался было какой-то священник, но и его казак так напугал, что и тот предпочел уйти от греха в другой вагон. Наконец мы остались вдвоем, и «казачина», громким хохотом празднуя свою победу, растянулся во всю казацкую мочь сразу на двух лавках.
Но победа была непродолжительна: как раз перед самым отходом поезда в наше дамское отделение все с теми же косами, мешками, тяжеловеснейшими узлами, в которых, повидимому, не могло быть ничего, кроме булыжника, ввалилось трое взрослых рабочих и один подросток, мальчик лет тринадцати.
– Вы бы в задний вагон шли! – сказал им проходивший через вагон обер-кондуктор. – Здесь отделение для чистой публики… Идите в задний вагон… А то наплюете, нагрязните… Чего вам тут?
Но мужики нимало не урезонились этими речами. Слушая их, они спокойно занимали своими мешками по два, по три места, притом один из них тем же самым, обычным теперь для шатающегося рабочего люда, тоном спокойно сказал:
– Ну, брат, ноне, пожалуй, чистого-то народу полного-то вагона и не наберешь. Пущай же и с черного вам барыш достается. Деньги-то, брат, одни… Садись, ребята! ничего!
Кондуктор ушел, махнувши рукою; рабочие, бывшие немного под хмельком, разместились без всякого стеснения и, уложив косы на верхние полочки, принялись разговаривать, есть и, к сожалению, сорить.
У окна, на скамейке "для одного", приснащивался подросток, пришедший с взрослыми рабочими. Он поставил свой мешок под окном и тотчас улегся, ногами на сиденье, головой на мешок; лежал он спиной к публике и, повидимому, спал. Казак дремал, я читал что-то.
– Что это с мальчонком-то делается? – послышался чей-то голос около меня.
Из соседнего отделения вышел старый, толстый, в опрятном шерстяном пиджаке, купец и, кивая на мальчика, говорил:
– Плачет чего-то парнишка! Я глядел, глядел, – так его и треплет, горемыку.
Мальчонку точно трепало. Уткнувшись лицом в мешок и лежа, невидимому, неподвижно, он по временам весь содрогался; очевидно, сильные приступы рыданий точно трясли и ломали его спину…
– Эй! Малый! Парень! Кто тебе что сделал? Чего убиваешься-то? – говорил купец, осторожно касаясь его плеча. – Встань, подыми голову-то! Да сядь, сядь; скажи – кто тебе, что…
Постепенно он стал пошевеливать мальчонку за плечо, потом приподнял ему голову и кое-как, наконец, добился того, что мальчик сел. Около мальчика и купца собрались зрители.
– Чего ревешь-то? Ты скажи, с чего такого? Али тебя кто?
Но мальчик не мог произнести слова: грудь его так и ходила ходуном вниз и вверх, все лицо было залито слезами, и истерическая икота заставляла его сидеть с открытым ртом.
– Ах ты, братец ты мой! – сказал купец и замолчал. И все поняли, что надо помолчать, погодить…
– Эка, братец ты мой, какое дело-то! – еще раз повторил купец, когда мальчик стал утирать рукавом нос, очевидно немного приходя в себя. – С чего ж ты так?.. а?
– За… ду… ши… лась!.. – всхлипывая, прошептал он, и слезы вдруг опять залили его лицо…
– Ах ты, братец ты мой!.. Задушилась! Да кто задушился-то?
Мгновенно безграничное горе скорчило, съежило все его лицо, залило горючими слезами, и, широко раскрыв истерически искривленный рот, он взвыл не своим голосом:
– Ма-мы-нька задушила-а-ась… а-а-а-а-а!
Он ударил себя ладонями по мокрому лицу и грохнулся лицом на мешок.
Спина его тряслась и трепетала, а из мешка, куда уходили его рыдания, слышались вопли как бы зарытого в землю человека.
Минута, когда ему пришлось выговорить ужасные слова: "мамынька задушилась", была поистине потрясающая, навеки неизгладимая во всем организме этого несчастного существа: безграничная любовь, безграничная утрата, безграничное одиночество и безграничный ужас пред теми ужасами, которые сию минуту терзают его несчастную мать в геенне огненной, где она кричит от огня и железа, растрепанная, окровавленная, с веревкой на шее – мертвая "мамынька", – все это сразу, в одно мгновение охватило его сердце, разорвало его, растерзало, и вырвало раздирающий душу вопль.
Положительно все обомлели и только качали головами… – Поди-ко вот, как бывает-то!
– Ишь ты! ай-ай-ай…
– Эка бедняге что довелось!
Так шептали зрители, не отходя от рыдавшего мальчика и не смея приставать к нему с расспросами.
– Эй ты, любезный! – наконец сказал купец, обращаясь к одному из мужиков. – Ваш, что ль, мальчик-от?
– С нами едет.
– Что ж это такое с ним? Куда он едет-то?
– Заместо отца едет… Отец-то остался… по случаю, что грех этот вышел… Ну а задатки-то взяты… вот малый и должен идти заместо отца…
– Да как же это вышло? Из-за чего? Ты иди сюда, расскажи…
Все мы вышли в другое отделение вагона.
– Да господь ее знает, как у них вышло… Надо так сказать, что доняло их бедностью… Годов пять их все сухменью донимало, наконец того, пришлось бросать хатенку да идти в люди за хлебом… Мамка-то евонная в станице нанялась, дочка в город ушла, вроде, должно быть, в горничные, ну а отец-то с парнишкой тоже в работе, в пастухах наймались… Должно быть, с дочкой-то что-то неладно в городу-то вышло… Прожила она там года два, а наконец того, перед самым этим временем, как греху-то быть, прибегла она, братец ты мой, как полоумная, в станицу, к матери-то, прибегла и вся, братец мой, не в себе: "Убила я, говорит, убила, убила… в острог меня возьмут… батюшки, спасите, помогите!.. Убила, убила…"
– Что ж она, в самом деле убила кого-нибудь?
– Бог ее знает!.. Нам это неизвестно… А должно быть, что-нибудь в городу-то с ней стряслось… Нонче в городу-то какой народ? Она девка молодая… Нонче ведь на этот счет – без всякой совести…
– Чего уж! – в одно слово подтвердило множество голосов.
– Ну вот она, может, и в самом деле родила, да как-нибудь и того… Ведь и нечаянно бывает… А может, и от болезни тоже случается… А как она прибежала к матке-то, матка-то тоже на работе измаявши, наболело у ней сердце-то, как она ужаснулась, что с дочкой-то такой грех, да и рассудок-то у нее помутился, ну вот она с горя-то и наложила на себя руки… Что поделаешь? Бедность! Нужда!
– Ну а отец-то как узнал?
– Да они как раз с мальчишкой домой воротились к матери… Пришли, а она – эво как!.. Мальчонко-то очумел было… Вот ведь какие дела бывают! Теперь отец-то и ума не приложит, как быть… Дочку в больницу сдали, а матка еще в сарае качается… Она, значит, как раз перед тем часом и покончилась, как мужу-то придти… Мужа-то, должно, страшно стало, что дочь пропала… вот она, горькая, и окончилась… Вот они какие дела-то бывают! Нужда-матушка! Теперича мальчонка-то сам не свой – а иди, работай! задаток дан… Хошь бы мать-то закопал, ну, все приятней, ноне доктора разрешают, а то только глянул, миляга, на эдакую страсть господню – и проститься-то не пришлось, начальства нету, доктора не приезжали… Вот какое дело!
Впечатлительный купец не оставил мальчонку. Он опять подошел к нему, низко нагнулся к его голове и долго шопотом говорил с ним, всячески стараясь успокоить.
– На, на, возьми – ничего! возьми! Это ты, как только, господи благослови, увидишь храм… да ты слушай, что говорю-то! Чего ревешь-то? не воротишь! А ты о душе похлопочи, об матерниной… бери деньги-то… бери да слушай… Как чуть храм – сейчас ты… частицу… Как мать-то звали… а? Марфа? Ну и надпись сделай – Марфы, рабы божия… Чуешь, что ль?.. Вот оно и отпадет от нее грех-то… Я тебе верно говорю! это уж без сомнения! Ну только, как у тебя какая копейка, сейчас в храм… Ну, ничего! Богу молись всячески… Он, батюшка, облегчит… Помаленьку выправишь… Ничего!.. Чего убиваться-то?.. Уж чего уж?..
Не помню, как мы расстались, и не знаю, где этот маленький страдалец, но знаю, что где-то он живет, живет из-за харчей, молча исполняет, что прикажут, и что никому неведомо, какая страшная драма гнетет душу этого незаметного существа…
Вот она какая иногда бывает "нехватка"! Вообще же разнообразнейшие явления народной жизни, имеющие исходным пунктом "нехватку", – явления, многочисленность и разнообразие которых я даже не могу очертить и слегка (такое это многосложное дело), в конце концов, кажется, уже выработали на Руси одно не весьма отрадное жизненное явление, о котором позволю себе сказать два слова.
Я не знаю, что такое Ашинов, о котором пишут в газетах, не знаю, какие у него планы, какие цели, откуда он взялся и куда стремится. Полагаю, что биографические подробности о нем вовсе не интересны; склонен думать, что ничего в действительности даже нет, что существует только легенда, и легенда не об Ашинове (бог с ним), а об атамане казацкой вольницы.Пусть не существует в действительности ничего подобного, но то-то и замечательно, что откуда-то родилась легенда, откуда-то выплыло слово «вольница». И это-то слово (если бы даже оно было только слово),не слышное на Руси со времен Степана Тимофеевича, раз оно родилось на божий свет опять, невольно заставляет вас чуять, что «недохватка» в насущнейших народных нуждах, осложненная горчайшим опытом жизни, приобретаемым народом в поисках хлеба, и, главное, разбрасывающая народные массы по лицу Русской земли, как ветер разбрасывает мякину, не может не иметь результатов, и результатов весьма неожиданных.
V
Тяжкие мысли и тяжкие воспоминания, начинавшие темными тучами налегать на меня, к величайшему моему счастью были мигом рассеяны появлением сторожа, который ходил за лошадьми…
– Сейчас подают! – сказал он запыхавшись, – насилу добудился.
Этот сторож, впервые известивший меня о нежданной радости, которую "господь послал" в наши вечно полуголодные места, и дал мне возможность хоть немножечко осветлеть душой, – вновь направил мои мысли от "мрака к свету", вновь заставил радостно думать о том, как урожай развеселит наши места и людей наших мест.
Меня он уже развеселил: разве не весело, что вот на этой платформе нет полуголодной толпы, рвущей "на части" проезжающего, от которого даст бог заработать два двугривенных! Какие фигуры тут толпились, рвали проезжающего, клянчили или так мерзли "без работы" по целым ночам, корчась от холода в жениной кацавейке, – а теперь всей этой рвани нет и следа! Урожай, так сказать, как корова языком, слизнул ее с платформы. Уж и храпят же теперь эти назябшиеся люди! за сто рублей не добудиться!
Скоро послышались бубенчики, сторож взял мои вещи – и опять урожай развеселил меня. На козлах тележки сидел не работник Кузьмы Демьяныча, а сам Кузьма Демьяныч, лавочник и, несомненно, будущий церковный староста и "попечитель".
– Кузьма Демьяныч! – воскликнул я. – Что же это означает?
– Ха-ха-ха! – засмеялся Кузьма Демьяныч. – Уж что делать…. Пришлось старину вспомнить… запрягать-то лет пятнадцать не запрягал – думаю, нельзя суседа бросать на плацформе…
– Да что же вы сами-то?
– Да народу-то нисколько нету! Народ-то разбежавши… Такой урожай господь дал – все ко дворам шаркнули… У меня пятнадцать лет один здешний же мужик Федор жил, совсем было к нашему дому присоединился… и тут как с хлебом-то пошло, как пошло – смотрю, чернеет мой малый, пучит его нелегкая, что ни скажешь – косит глазищами… Догадала меня нелегкая пикнуть ему: "Что-то, Федя, будто бы нонишнего числа ты не вполне опрятно потомпаковый самовар вычистил?" Так слов-то еще я моих не досказал, как рванет он себя за фартук из-под шеи – раз! об пол его! затем пинжак тем же манером – рраз! только пуговицы по полу разлетелись, и в окончание с одной и с другой ноги сапоги через всю комнату пустил: "Подавай расчет! Стану я твои самовары чистить! Обо мне дома коса плачет! Давай расчет!" Так и убег. Вот теперь и пришлось на старости лет самому запрягать… Дугу-то забыл как установить – вот какое дело!.. Ха-ха-ха! Извольте садиться! Уж уважил нас создатель – на редкость!..
Поехали. Но поехали весьма тихим шагом. Кузьма Демьяныч поминутно бил лошадь кнутом, чмокал и дергал вожжами; но лошадь не бежала, а как-то гордо шла, хотя и не забывала вильнуть хвостом всякий раз, когда Демьяныч вытягивал ее кнутом.
– И скотина-то вся умаявши! – говорил Кузьма Демьяныч, как по камню колотя по неподвижной лошади кнутом… – У меня тут арендована земля, так и посейчас с поля не убрались, а всю животину измаял… Она пойдет, разойдется – а только что действительно притомивши… Такую господь послал комиссию… Народу нет, работы выше головы, а тут еще хлопоты – бабушка окончила жизнь – то есть в самый разгар… Я и сам-то с ног сбился… И окончательно сказать – от грибов скончалась… Уж оно ведь всегда одно к одному… Пошло на урожай, так уж во всех направлениях. Ну и грибов высыпало – видимо-невидимо… Вот бабушка-то и слегла… Я и спрашиваю: "Не от грибов ли, мол, бабынька? Скажите чистосердечно – сейчас доктор будет". А ведь они, старики-то, характерные, упорные, кремневые… Заперлась, стиснулась, только цедит сквозь зубы: "Не твое дело, не смей!" Ну а впоследствии и оказалось на мое, то есть в полном смысле этого слова – единственно от грибов… Накушалась… Чисто и я-то смаялся, с ног сбился совсем…
Лошадь как будто бы действительно прибавила шагу…
– Ну да и то сказать, пожила старушка на своем веку… – досказывал Кузьма Демьяныч свою речь… – Ох, и крутенька была покойница! Ну да уж, видно, так надо… Господь-то, видно, недаром урожай-то послал… Он ведь знает!
– Это вы насчет грибов-то?
– Насчет грибов-с! Ха-ха-ха! Оно, конечно, грех – господи, прости мое согрешение, – а что крутенька была покойница!.. Конечно, жалеешь… да теперь и досугу-то как-то нехватает… Ишь вон сколько хлеба-то нанесло нам!
Кузьма Демьяныч показал кнутом в поле. Было уже совсем светло, и сквозь низко лежавший на полях туман виднелись тесные и чистые ряды суслонов; при взгляде на эту картину получалось то же самое живое ощущение, которое охватывает путника при виде многолюдного города, издалека виднеющегося своими миниатюрными зданиями, но уже манящего теплом живой жизни, которою дышало это живое место.
Жилым местом казались и поля, и веяло от них живым теплом живой жизни…
Лошадь окончательно разошлась. Селезенка квакала в ней, как утка в болоте, и скоро мы весело распростились с Кузьмой Демьяновичем.
Крепко и, казалось, непробудно заснул я после долгой и утомительной дороги, но "урожай" не пожалел меня и разбудил.
Разбудила меня паровая мельница, находящаяся как раз против моего дома. В обыкновенное время мельница эта едва могла существовать; сделанная на два постава, она и одним-то работала много-много до конца января, и то с промежутками в день, в два и больше. Немец, устроивший эту мельницу, горевал, плакался и, чтобы поправить свои дела, строил всевозможные проекты: то думал превратить ее в маслобойню, то в лесопилку, то просто хотел скупать дрова, хлеб и т. д. Вероятно, и немец бы прогорел со всеми своими проектами, если бы господь не послал ему урожая. Посмотрите, как все изменилось… Паровик так и стреляет, как из берданки, дым валит из обеих труб, мучная пыль лезет из всех щелей; сам мельник Карл Иваныч, его работники Карлы и Францы, всегда до невозможности грязная кухарка, толстомордая отвратительная собака-бульдог – все теперь побелело, все в муке; все мужики, все бабы, которые возятся со своими мешками, все это также белое; глядишь на них, и кажется, что это статуи разбежались из скульптурного отделения Эрмитажа и шляются в наших местах.
Из моего окна все это торжество было ясно видно; весь двор запружен телегами с мешками; мешки на веревках поминутно поднимаются в верхний этаж мельницы, где какие-то эрмитажные статуи подхватывают их и исчезают. Народ, ожидающий очереди, лежит, спит, сидит целою вереницею вокруг частокола, огораживающего мельницу…
Гляжу – идет знакомый мужик, Иван Федорович, один из самых несимпатичных мне мужиков, человек, с которым мне всегда трудно говорить, потому что от него нельзя было добиться искреннего слова. Идет он ко мне, но на этот раз я чувствую, что разговор наш может быть и искренен и прост.
Пришел, помолился, поздоровался.
Одного взгляда на него было достаточно для того, чтобы во мне исчезла малейшая тень неприязненности к нему: он, видимо, был истощен до невозможности; кулацкая, обыкновенно разбухшая от трактирных чаев и магарычей, физиономия его опала, очеловечилась неподдельным утомлением, и оживленные, вытрезвленные чрезмерным трудом глаза совершенно потеряли ту муть и темную ложь, которые в прежнее время так неприятно отталкивали меня от него.
Он наработался, устал, осветлел и утих.
– Что, Иван Федорович, – спросил я, – устали?
– Уж и не говорите!.. – действительно едва шевеля утомленной головой, прошептал он… – Уж и не говорите!.. Ведь эку господь послал нам благодать-то!.. Совсем силов ничего не осталось!
Худой, точно больной, уселся он; в огромную худую руку взял папироску, сразу сжег ее, втянув в ослабевшую грудь огромное количество дыма, закашлялся, откашлялся и повел разговор. Разговор состоял, конечно, только в хвале бога за урожай, за то, что можно справиться, стать на ноги, что можно отдышаться и так далее.
– Нет, – сказал Иван Федорович, как-то неожиданно прерывая разговоры о том благополучии, которое принесет урожай собственно ему и семье: – вот теперича и Петру Сергеичу уж действительно следует подсобить!
Петр Сергеевич был барин, сосед той деревни, из которой был Иван Федорович, – и мысль подсобить барину,неожиданно возникшая в таком мужике, как Иван, поистине поразила меня.
Сколько я знаю Ивана Федорыча, он постоянно был лютым врагом барина вообще и в особенности барина, живущего поблизости от мужиков. Он не различал хорошего барина от худого, злого от доброго, не жадного от жадного; все они были для него равны – враги, которых надо всеми способами истощить, одурачить, разорить, извести и сжить с лица земли. Добрый барин даже всегда казался ему более удобным для самого наглого одурачивания. Многочисленная семья Ивана Федорова была семья алчная, жадная, ненасытная; постоянная недохватка, зависть к разживающимся кулакам, ненависть к господам, у которых в "портмонете" всегда деньги откуда-то берутся, все это убедило его быть вполне безжалостным ко всякому барину: на охоту ли господа приедут, или появится какой-нибудь охотник заниматься сельским хозяйством – Иван Федорович непременно около барина, непременно завоюет его доверие и непременно безжалостно оберет его, истощит, оставит в конце концов в дураках.
Петр Сергеевич, о котором теперь заговорил Иван Федорович, был барин из самых добрых; он по принципу – жить в народе, с народом и по-народному – переехал в деревню, занялся хозяйством, стараясь с крестьянами жить в самых дружеских, товарищеских отношениях. "Сообща" – вот как желал бы он жить и трудиться. "Давайте сообща делать дорогу… Давайте сообща заведем школу… Давайте сообща наймем копачей, осушим болото и т. д." И никогда ничего не выходило из этих попыток, не выходило не потому, чтобы они были невыгодны крестьянам – напротив, дорога, например, им была нужна, – но потому, что не дорога была для них главным делом, а только стремление искоренить барина. Пусть он побьется с дорогой, пусть его возы с сеном завязнут в болоте; пусть у негоземля лежит даром – небось поживет, поживет впустую, потратит сам свои деньги и на дорогу и на канаву, разорится, уедет… а как уедет – тут и хозяйствуй в лесу, руби, продавай дрова и т. д. Иван Федорович был из самых главных воротил мира, настраивая его именно в этом тоне, и вот теперь этот самый Иван Федорович, который уже давно ожесточил против себя доброго Петра Сергеевича, вдруг заговорил такие речи!








