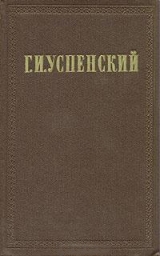
Текст книги "Кой про что"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
С глубоким вздохом рассказчик посмотрел на графин, но графин был пуст.
– Вот теперь и доживаю век кое-как с Машкой, идолом! Ругаемся с ней как собаки, а живем!
– Зачем же ругаться-то? – заметил Пуховиков.
– Да когда во мне все нутро ругается?..
– А как она не стерпит да уйдет?
– Не уйдет! Ее, как собаку на цепи, рабенок держит…
Хозяин поднялся с кресла и нравоучительным тоном сказал нам:
– Эх, господа, господа!.. Человек-то ведь, мужик ли, баба ли, все одно, мало ли чего хочет, да не выходит по желанию-то!.. И ушла бы Машка, да рабенок! И прогнал бы я ее сам, да холодно мне будет! Я вон желал мою Надьку получить и получил, а что сталось? И она своего немца получила, тоже проку мало… А ведь по желанию!.. А вот в дураки попасть, этого я не желал, да и Надька в пьяницы не стремилась… А между прочим, извольте видеть, что оказалось!.. Эх, матушки вы мои! Человеку-то всего хочется, да не выходит! А я говорю: нужно утвердить закон, чтобы ни боже мой!.. Живи по форме, вот! И будет порядок… А нынче что? Вот теперича Машка непременно дверь приперла изнутри! Уж это будьте покойны!.. Ночуй, мол, пес, под забором… Н-ну, этого позволить я не могу!..
Хозяин взялся за графин, но еще раз убедившись, что он совершенно пуст, с сожалением проговорил:
– Аль пойти нацедить? Я ее разбужу! у меня тут припасено поленцо… Небось очнется!
– Нет, – сказал Пуховиков, – пора спать!.. Поздно!
– О?.. А то по рюмочке?
– Нет уж, Иван Семеныч, будет! – проговорил фургонщик и, помолившись на образ, собрался уходить…
– Ну, ин не надо! Ну, стало быть, спите!..
Хозяин ушел, простившись с нами и захватив с собою пустой графин и рюмку…
IV
Затхлый воздух флигеля и неудобные нечистые кровати, с голыми нечистыми досками, навели нас на мысль ночевать в фургоне. Фургонщик сам вызвался уступить нам свое место и уверил нас, что он найдет, где выспаться.
Скоро мы улеглись; ночь была чудесная, светлая, теплая, воздух свежий, напоенный опьяняющим запахом сена; улеглись мы удобно, уютно и, вероятно, крепко бы заснули, но в самом начале сладостной дремоты нас разбудил хозяин. Он ходил по двору и ругался, негромко, но достаточно слышно: "Погоди, анафема!.. заперлась!.. Погоди!" И вслед за тем раздался громкий стук, вероятно, поленом или камнем в дверь флигеля. Ответа, очевидно, не последовало, потому что опять хозяин ходил куда-то, конечно, не переставая ругаться, и спустя некоторое время принялся стучать кольцом двери… Не меньше часа с промежутками то потихоньку, то "во всю мочь" гремел он кольцом и все-таки ничего не добился…
И в третий раз пошел он по двору. Но на этот раз он воротился с большою охапкою сена и с неизменной угрозой – "погоди!" улегся на крыльце флигеля, подостлав сено и укрывшись армяком.
Вся эта возня помешала нам заснуть, и, побранив беспокойного хозяина, мы стали сначала курить, а потом и разговаривать…
– Да, да! – задумчиво сказал Пуховиков, – "всем надо всего, и ничего не выходит!" Это правду сказал хозяин. Я, знаете, даже хотел написать об этом сказку… Теперь ведь сказки в моде: вопросы большие и неясные, а для этого нет более удобной литературной формы, как сказка. Вот мне и вздумалось… Я ведь пробовал пописать, да все что-то не выходит…
– Ну и что же со сказкой?
– Да по обыкновению ничего не вышло… Хотите я вам расскажу в общих чертах?
– Пожалуйста!
– Ну так слушайте!
11. НЕ БЫЛЬ, ДА И НЕ СКАЗКА
I
…Быль это или небылица, – начал мой дорожный собеседник, – сказка или сущая правда, решительно определить не могу; не могу ничего определенного сказать даже о том, каким образом эта не быль и не сказка удержалась в моей памяти, так как положительно не знаю, кто кому рассказал ее: я ли сам рассказал ее себе, или, как мне иногда кажется, рассказал ее мне один маленький садовый цветок, или же, наконец, я сам рассказал ее маленькому садовому цветку? Достоверно одно, что разговаривать с цветком по-человечески невозможно, и я очень хорошо помню, что в продолжение всей этой истории ни с моей стороны, ни тем более со стороны цветка не было произнесено ни единого слова, даже звука, и тем не менее между нами произошло нечто такое, что в моей памяти запечатлелось как случившееся в действительности. И вот как все это произошло.
II
Очень хорошо помню, что, приказав как можно скорее запрягать лошадей, я, не раздеваясь, присел на жесткий диван в комнате для проезжающих на почтовой станции при Н-ской станице. Писарь предлагал мне ночевать, откушать чаю, но я только рукой махнул и еще раз повторил мою просьбу как можно скорее прописать подорожную и ехать: мне во что бы то ни стало хотелось в тот же вечер попасть в губернский город, и не в город собственно, а в гостиницу, в мало-мальски опрятную и покойную постель, и заснуть в ней так, чтобы проспать целые сутки – так я был утомлен продолжительным путешествием и обилием впечатлений. Остановиться же на ночлег на станции я не решался: мне нужен был безусловный покой, а тут, в этой комнате для проезжающих, поминутно будут входить и выходить проезжие, будут стучать об пол сапогами, чемоданами, сундуками, тогда как меня всем существом моим тянуло к сладкому, мертвому сну. Вот почему я, несмотря на крайний предел утомления, решил перемочь себя и во что бы то ни стало сегодня же добраться до настоящей постели.
Но едва я присел на диван, как почувствовал, что мне не уехать. Сел я неловко, притиснув свой локоть к неуклюжей ручке дивана и до крайности неудобно подогнув ногу, – и не мог уж поправиться: тело мое отяжелело, я чувствовал его непомерную тяжесть, не ощущая в нем и признаков жизни. А в то же время в моем мозгу шла какая-то неумолчная, ни на секунду не прекращавшаяся работа: впечатления виденного, слышанного, пережитого, передуманного не то чтобы угнетали или волновали мою голову, а как-то назойливо, надоедливо и бесплодно вертелись в ней; сердце совершенно не участвовало в этой работе, не выбирало в массе этих впечатлений того, чего ему нужно (ему, вероятно, было трудно разобраться), а без этого посредника между телом и духом я не мог ничего иного чувствовать, кроме мертвой тяжести тела и бесплодных мучений головы.
Я сидел, слышал, видел, но ничего не понимал и не чувствовал: в открытое окно, к которому вплотную был придвинут мой диван, я видел станичные сады, все в цвету, соломенные крыши, беленькие мазанки-домики, а под самыми окнами какие-то цветочки, кусты малины. Я видел все это и даже особенно пристально смотрел на какой-то ничтожнейший цветок, который первый бросился мне в глаза, и не ощущал ни в чем ни хорошего, ни худого… Видел я, как входил ямщик с объяснением, что лошади готовы; потом видел, как он втаскивал в комнату мои вещи, видел, что ямщик был мокрый, что тишина и блеск солнца сменились порывами ветра, сумраком набежавшей тучи и проливным дождем и градом, который беспощадно измочил мне руку и бок, обращенные к окну, облив водою весь подоконник… Видел, как ветер гнул деревья, кусты, сбивая с них цвет, и точно снегом усыпал им грязную улицу; видел, как ветер стащил со столика под зеркалом скатерть, погнал по полу скомканный газетный лист с остатками моих папирос, распахнул дверь в сени, – все это я только видел и ровно ничего не чувствовал.
И вдруг что-то как будто теплое шевельнулось у меня в сердце.
Опять было тихо, опять светило солнце; но цветок, на который я так упорно и бессмысленно смотрел до сих пор, был сломан и весь оббит градом, изуродован и, очевидно, убит.
Я почувствовал, что именно он тронул меня за сердце; оно ожило, проснулось, и бесплодно изнурявшийся в обилии впечатлений ум тотчас же стал работать в том направлении, какое выбрало сердце; пришел хозяин, наложил на бесплодно вращавшееся маховое колесо передаточный ремень, и вся механика пошла в ход.
III
Каким образом гибель цветка, происшедшая на моих глазах и тронувшая меня за сердце, стала выделять из массы накопленных мною дорожных впечатлений исключительно впечатления так называемых семейных расстройств, решительно не могу объяснить в настоящее время. Знаю только, что едва «пришел хозяин и наложил передаточный ремень», как мне стало вспоминаться бесчисленное множество всевозможного рода семейных терзаний, до глубины души мучительных и до глубины души оскорбительных… «Прогнал, взял другую, живет с двумя… Детей бросил… Бросила детей, ушла… Шарахнул ее с балкона…» И все это на всевозможного рода жаргонах – и со смехом, и со слезами, в самых разнообразных обстановках, разнообразных слоях общества. Все это стало сбегаться в моей памяти в одну точку, в одну сжатую черной рамкой картину, глядя на которую и пересиливая в себе чувство горя и отвращения, я почему-то невольно начинал думать, как наш несчастный хозяин постоялого двора, у которого ушла жена: «Человек, братец ты мой, всего хочет, да не выходит этого, вот беда!..» И тотчас после того, как во мне мелькнула эта мысль, я невольно и еще более пристально, чем прежде, устремил мой взгляд на цветок и услыхал следующее:
IV
– Не выходит! Ишь ты ведь, всегоим подавай! Ровно ничего не выходит, вот как надобно говорить, а не то что всего! Жирно будет!
Собственно говоря, я ровно ничего не слыхал, ни я не говорил ни с кем, ни со мной никто не говорил; цветок, разумеется, молчал не хуже моего. Но под его впечатлением и под впечатлением моей мысли между нами происходило что-то похожее на разговор, какой бывает иногда во сне: всякому случалось во время крепкого, непробудного сна слушать чей-то разговор, чью-то иногда продолжительную беседу, вы спите крепко и в то же время, как посторонний, присутствуете при чьем-то разговоре, следя за ним с напряженной внимательностью; звуки голосов никогда не остаются в вашей памяти; разговор идет, так сказать, без звука, даже лиц никогда нельзя упомнить, да большей частью их и нет при таком разговоре; но слова, хоть и без звука, вы слышите явственно, точно и, проснувшись, можете кое-что припомнить из этого разговора. Нечто подобное происходило и теперь: я присутствовал совершенно как посторонний, чужой человек, человек, наблюдающий со стороны, при разговоре, который молча, беззвучно происходил во мне же самом, но который благодаря цветку слышался мне вне меня.
– Налетела туча с градом, изуродовала, искалечила, – слышал я далее (и с величайшим любопытством), – и, конечно, приходит смерть… Что говорить! прискорбный случай, несправедливость! А разве не то же бы было, доживи мыдо конца дней?
– Кто мы?
– Да мы с женой.
– Да где же вы?.. Где жена, где муж?
– Да мы тут, оба, вот на том самом месте, где градом-то нас свалило… Оба мы теперь преждевременно погибаем; да если бы, говорю, и до старости дожили, до зимы, до снегу, так бы вспомнить было нечего. Жили, жили, мучились, мучились, а в конце концов – никакого смысла!
Я слушал.
– Да! Покуда мы с женой были в самом деле два– она да я, – ну все еще ничего. И она и я чего-то ждали от жизни. Ну а уж как вышло едино… Да вот я про себя подробно расскажу…
– Да ты-то кто?
– Теперь я никто, а когда я был один, я был… просто цветочная пылинка.
– Цветочная пылинка – это женского рода, и нельзя говорить "был".
– А Джон Ячменное Зерно? – какого рода? Я ведь тоже зерно, только маленькое.
– Ну ладно! – прервал я разговор о грамматических тонкостях. – Так что такое было, когда ты был один?..
V
– О, тогда было совершенно иное дело! Помню, я вступил в свет во время одного свадебного вечера; как раз за этим забором в саду стоит дом станичного атамана; матушка моя жила в этом доме на окне вместе с другими цветами, конечно, в горшках и, конечно, в холе: поливали, поворачивали к свету, все как следует. Я, конечно, рос также в полном достатке, и вот в жаркий летний вечер, именно когда станичный атаман выдавал замуж дочь, я незаметно появился в шумном веселом обществе; за говором и смехом никто, конечно, не слыхал, как чуть-чуть лопнула почка и как из нее понеслась в воздух пылинка. Но я был в восхищении: как раз спиной к окну, на котором стояли цветы, сидела пара (танцевали кадриль), и меня угораздило усесться на великолепнейшие плечи (ведь теперь декольте во всех сословиях принято и насчет плечей также во всех сословиях стало довольно откровенно). В шестой фигуре расходившийся кавалер-казак, воспламененный дамой, своим свирепым дыханием сдул меня на другие, не менее прекрасные плечи, там на третьи… Словом, чего только ни переслушал, чего только ни перевидал я в этот вечер! Смешно, занятно, весело, глупо! Не помню, как я очутился на чьих-то усах. Не помню, каким образом с этих усов стянула меня к себе на подбородок какая-то ревнивая дама, страшно задыхавшаяся в упреках этим самым усам, – не помню, долго ли все это продолжалось, только в конце концов эта самая азартная дама своим азартным дыханием сдула меня куда-то в непроходимые дебри своего туалета и на всю ночь погребла в глубине своих юбок, с сердцем брошенных около ее кровати после бала. Всю ночь я присутствовал при ужасающих сценах ревности и думал, что задушат меня эти проклятые ревнивые юбки, – но что значит молодость! Утром, когда пришла горничная и взяла барынино платье, чтобы «выколотить» его на дворе, одного удара шлейфом о перила балкона было достаточно, чтобы я как ни в чем не бывало вырвался из этой тюрьмы и взвился в поднебесье… Даже самая грязная грязь не могла сокрушить во мне светлой радости жизни. Иной раз ветром занесет в кабак (видите, вон стоит на левой руке?), не успеешь оглянуться, как пьяное казачье уже втопчет тебя в грязный пол, вколотит своими «казачками», трепаками и каблуками в самую глубину грязи, – думаешь, погиб – ничуть не бывало! Придет мужик со скребкой, поскребет, потом шаркнет на улицу весь этот мусор, а здесь золотой ветерок подхватит, и взовьешься, взовьешься над грязью… Словом, вся жизнь была мне открыта, ничего я не сторонился, ничего я не боялся, все хотел видеть, обо всем хотел думать… И все видел, и думал обо всем, и все критиковал; но, собственно говоря, не жил еще. Да куда! И думать не мог жить такою жизнью, какую я тогда видел своими глазами; вся она была мне просто смешна… Где было мало-мальски хорошее, я, конечно, был там; где было худое – я шел мимо, но варить из того и другого бессмысленную кашу, называемую имижизнью, – слуга покорный! Лучше я посмеюсь; и я весело смотрел на белый свет, пока не встретил ее…
– А онакто была?
– Она была очень несчастная девушка – худенькая, белокуренькая, изможденная и забитая деспотическим давлением. Она, что называется, чахла и была одна из тех, про которых доктора чуть не с детства говорят, что у нее чахотка. Кому неизвестны в наших семьях девушки, как бы обреченные на то, чтобы исчахнуть и лечь в гроб девственницей?.. Вот и она была такая же. Вот на этом самом месте, где мы теперь умираем, лет двадцать подряд была навалена куча кирпичей, и хозяйка этого дома (после ее смерти сын сдал дом под станцию), злющая баба, целые летние месяцы варила варенье; горящие уголья и камни угнетали, жгли и иссушали этот маленький лоскутик земли. Когда же, наконец, старая кочерга издохла и станционный смотритель растащил кирпичи и угли, тогда только онаувидела свет белый, но в каком виде она была: худа как щепка, почти бескровна, безжизненна, отчаявшаяся жить на свете…
– Кто же она-то? Я все-таки не понимаю…
– Да земля! Господи боже мой, как же не понять этого?
VI
– Как же вы сошлись с ней?
– Обыкновенно как. Носишься, носишься, летаешь, летаешь, а в конце концов нет-нет да и почувствуешь, что ведь это не жизнь. Насмехаешься, наблюдаешь, думаешь, мечтаешь, но постоянно остаешься одинок перед этим потоком осмеянной и раскритикованной жизни. Ощущение оторванности от общего потока жизни иногда доходит ведь до отчаяния. "Боже мой, – думается в такие минуты. – Хоть бы я кому-нибудь и на что-нибудь понадобился". И замечательно, что такие минуты особенно тягостны для молодых людей весною… На беду бывают особенно темные вечера, также больше в конце весны, в которые просто не знаешь, куда деваться. Вот такой денек выдался и в моей жизни; с утра солнце выделывало чистые чудеса: и нежило, и сверкало, и играло, и пело – ума помраченье! Носился я в этот день как угорелый и к вечеру попал вот в этот сад, рядом с садом станичного атамана. Там тоже премиленькая девушка, совсем невеста. Целый день они с одним молодым человеком провели в самом превосходном настроении духа: бегали, играли и хохотали… Но вот настал вечер – тишина… духота… тьма… Слышу, перестали смеяться – плачут… Он говорит: "Сейчас застрелюсь!.." Она говорит: "Уйдите!.." – "Утоплюсь!" – и побежал. "Нет! нет!" – Воротился… Хныкали, целовались, плакали, вздыхали… Пробрало и меня горе-горькое!.. Пробрала и меня тоска одиночества… Тьма безысходная, как тьма этого вечера, лежала у меня на душе… Откуда-то пронесся, или, вернее, медленно прополз сквозь кусты и деревья, широкий поток воздуха, как бы чье-то могучее дыхание… Подняло меня оно, это дыхание, принесло сюда к ней… Над ней тогда стояло дерево, тоже все поджаренное проклятой жаровней (недавно смотритель срубил его), принесло и опустило на листок. И стало опять неподвижно, душно и тяжело… Я видел ее ясно, измученную, иссохшую, и на душе у меня было еще тяжелей… И не знаю, потому ли, что там, в соседнем саду, откуда меня унесло, тяжко вздыхали и плакали, или потому, что заплакало, наконец, и темное небо, медленно, тихонько, но непрерывно роняя свои слезы на землю, на листья, захватило и у меня в горле, прошибла и меня слеза… Все плакало кругом в ароматической жаркой тьме… И не помню, как случилось, что, весь в слезах, я, унесенный слезами неба на заплаканную землю, почувствовал, что ко мне простираются слабенькие ручки, исхудалые, мокрые от слез, падавших из глаз…
VII
– Утро было великолепное. Солнце опять творило чудеса. Насыщенная земля пьянела от жарких паров; все растущее блестело полнотою сил и соков, рвалось к жизни и свету. И если бы вы в это утро заглянули в тот уголок, где когда-то торчала проклятая жаровня, то вы увидели бы, что онане умерла от чахотки, не исчахла, – напротив, пустое и иссохшее место было влажно и оживлено: маленький, зеленый росток веселым, живым глазком посматривал на божий свет.
Это – были уже мы!
VIII
– Хотел бы, очень бы хотел я рассказать про эти хорошие дни, но что прикажете делать – одолевают воспоминания совершенно другого рода!.. Одолевают и затуманивают ясные дни, и мне сию минуту так тяжело вспоминать то, что вспоминается, что я пока не стану говорить о себе. А вот на что обратите внимание: барышня и молодой человек, о которых я рассказывал, также в конце концов сочетались браком, несмотря на все эти «уйдите!» и «застрелюсь!..» Сочетались и тоже, разумеется, «блаженствовали» с месяц времени… Потом, гляжу, – Иван Андреич, с портфельчиком подмышкой, сгорбившись, хвост поджавши, зайчиком попрыгивает в мировой съезд защищать купца Чисторылова, не уплатившего рабочим следуемых денег и заставившего их ходить по миру… Что за перемена такая? Оба они, и он, и она, были просто прелесть: добрые, милые, гуманные; читали все хорошие книжки, думали о людях хорошо, светло, и вдруг он уже бежит зайцем и уже вопиет к господам судьям о том, чтобы они покарали неправду в лице мужиков и возвеличили правду в лице кулачишки… «Что это вы, Иван Андреич, как переменились? – спрашивают его. – Узнать нельзя… Нездоровы?..» – «Нет, ничего… Хлопот много. Дела. Семья!..» – «Что вас не видать? Нет ли у вас такой-то книги?» – «Куда тут! До книг ли… Вот женитесв, так узнаете, какие такие книги…» Что же это означает? Чего он испугался, отчего вдруг забыл всякую справедливость, съежился, похудел, очерствел, одеревенел и махнул рукой на все святое?.. Что его так внезапно приплюснуло? Говорит: «жена!» Но что же такого в ней ужасного?..
Или вот еще извольте о чем подумать: пишут в газетах, что при французском военном министерстве образуется особый корпус офицеров, который будет то же самое, что в допотопные времена были летучие ящеры: будут летать на воздушных шарах и колотить оттуда мирных жителей бомбами с панкластитом или еще с каким-то новоизобретенным составом, который в сто раз сильней пороха… Жалованья летучим ящерам будет 350 франков пармуа и столовые, а если хорошо будут действовать, то есть попадать прямо в точку, размазживать народ сотнями тысяч, так и прибавка будет и лежион д'онер преподнесут… Спросите-ка этого летучего ящера – из-за чего он свирепствует? Он непременно ответит вам одно: "Фамий!" Хорошо. Пойдем посмотрим, что за кровопийцы те, из которых эта "фамий" состоит. Что же оказывается? Очень миленькая дамочка Жюльетт и бебе, только и всего! И они послали своего мужа и отца свирепствовать под небесами? И не думали! Посмотрите-ка на них: в то время как летучий ящер прицеливается торпедой в мирных обывателей (не в Жюльетт, конечно, а в Амальхен), они, Жюльетт и бебе, оделись, как куколки, взяли зонтики и пошли гулять в Люксамбург… Погуляли, посмотрели Петрушку, причем и мать и дочь одинаково смеялись, заглянули в магазины на шляпки и на куклы и воротились домой… Вышла неприятная сцена с бонной из-за того, что у бебе с утра был красен носик… Конечно, виновата бонна. Затем написали летучему ящеру письмо, в котором только всего и было сказано, что "мы пошли", "пришли", "ушли" и что "бонна виновата"… Из-за чего же он-то летает под облаками с торпедами? Какой чорт его занес туда? Из-за чего он мозжит людей?
Фамий!
Как вам это покажется!
-
Так как никто ничего в сущности не говорил и не спрашивал, то на несуществовавший вопрос мне не приходилось и отвечать. Я продолжал безмолвствовать и слушать.
IX
– Не могу выразить, до чего это трудно. Едва только из «нее» и «меня» вышло одно мыи едва мы на некоторое мгновение ощутили действительную цельность и полноту жизни, – смотрю: что-то мне становится страшно, холодно и одиноко… Она со мною неразрывно, но я опять одинок… В то время как ее, зеленый росток с вострым живым глазком, потянуло в стебель,к солнцу, к теплу, к плодородию, – я, этот критик, насмешник, либерал, радикал, утопист и нигилист, гордец, протестант и вообще чорту не брат, превратился в кореньи полез куда-то в землю, на какую-то темную хлопотливую работу, побежал, как заяц, в мировой съезд защищать купчишку Чистомордова, стал бормотать: «Правда двадцатого ноября!», «Правда пятнадцатого октября, декабря!» Если бы мне предложили сто рублей и столовые, чтобы я превратился в летучего ящера, право бы я ни минуты не задумался.
А взбунтуйся я, прекрати мою черную работу – она исчахнет, а это ужасно, это убийство, это собственная моя смерть; умри она – жизнь моя бесцельна, глупа, и на какой чорт мне купчишка Черноплюев?
Надо жить!
Право, мне кажется, что "в нашем обществе" он и она сходятся только до брака; то есть до брака они употребляют всевозможные усилия найти друг между другом что-нибудь общее– в книге, в мнении, во взглядах; и стремясь к этому общему, под давлением врожденного стремления к полноте существования, делают друг другу всевозможные уступки, выравнивают обоюдные общие взгляды и, теоретически однородные, наконец, образуют из себя одно мы;но тотчас же начинается жизнь, практика жизни, – и роли того и другого опять расходятся совершенно в разные стороны! То же было и с нами: она пошла в тело, стала полнеть, накапливать сил для будущего поколения – в этом сказалось ее дело; мое делосказалось в необходимости добыть материал для ее сил, и вот мы стали расходиться – она в стебель и цвет, а я в корень, она к солнцу, я во тьму… И постепенно между ее и моим делом стала образовываться пропасть.
X
– Первое время после того, как мы сделались мы,было еще довольно сносно. Еще я не глубоко ушел в землю; до меня еще доходили людские разговоры, я еще мог сочувствовать чему-то, думать о чем-то общем, о чужом, общественном и в то же время не скучал, работа была не совсем неприятная (достали перевод с французского)… Но моей жене стал застить пень, оставшийся от того самого дерева, на котором я когда-то плакал, – она не видела солнца, боялась малокровия, а в книге «Уход за детьми» сказано, что малокровие передается по наследству; это ее до чрезвычайности волновало, да и я также трепетал, и вот нужно было квартиру на солнце; перевод не давал соответствующего вознаграждения, и я должен был искать должности присяжного поверенного… Я бегал и искал, как угорелый; энергия моя возросла до чрезвычайности; в одну ночь я проник в землю, под остатки какого-то кирпича, на целых два вершка, здесь уже не было слышно людского говора – не до того мне было, чтобы слушать, что «они там» говорят. Мне самому тошно, мне нужна была квартира на солнце; ей, моей жене, нужно было вытянуться поскорее выше проклятого пня, и я, под единственным впечатлением достать средства, не задумался оплести одного очень почтенного червяка, до логовища которого я проткнулся в землю: это был почтенный, старого завета старик, много поработавший, как я читал у Дарвина, для чернозема. Сначала я набросился на чернозем, но опасность чахотки жены заставила меня приступить к самому старичку… Тонким кончиком обвил я его поперек, проползя под его брюхом снизу; уверил в своей благонадежности, взялся вести его процесс и, постепенно обвивая его из-под низу через верх, так затянул его поперек, так вошел в его доверие, что он, умирая, оставил мне все свое состояние, то есть, говоря, проще, он околел, разложился, я впитал в себя весь этот чернозем, а жена переехала в новую квартиру «на солнце», то есть быстро поднялась выше проклятого пня и стала чувствовать себя лучше…
Затем ей нужно было родить, и я еще глубже вонзился в темные бездны земли…
Постепенно удаляясь от белого света, постепенно теряя связь с общими, теперь уже ненужными, мешавшими мне интересами, я все больше и больше сосредоточивался на изыскании средств; все мои поступки стали вытекать, откровенно говоря, из своекорыстных побуждений. Там, под землей, так же ведь разные пары сплетаются, и так же интригуют друг с другом, конкурируют, перебивают места – у всех "семейство"… И я, конечно, принял в этом участие. Стал "сочувствовать" тому, что дает мне возможность втянуть в себя материальные силы, и не сочувствовал всему, что стремилось положить предел моей алчности… Сердце мое стало портиться, фальшивить, ожесточаться на какую-то неправильную неправду: вот, например, рядом со мною здоровеннейший георгин, и жрет за семерых, я говорю, что "подлец!", и говорю, что надобно положить предел расхищению башкирских земель, а в сущности я зол потому, что мне не досталось в этих землях лоскута и что я должен скрючившись сидеть в управлении московско-индийской железной дороги…
Но иногда вдруг охватит ужас от того бессмысленного, тяжкого, изнурительного труда, от которого ни днем, ни ночью нет покою; зло возьмет от всей этой гадости, которую видишь кругом, – ничего, кроме наживы, высасывания соков из земли и какого-то молчаливого и угрюмого чавканья; перспектив, мало-мальски радующих, – никаких. Из-за чего же все это, спрашивается? "Зубки прорезываются!" Зубки прорезываются! – а я должен подлости делать, подхалимничать, низкопоклонничать? Зубки!..
XI
– С каждым днем наши дела стали расходиться все более и более в разные стороны: там зубки, родимчики – у меня же интриги, какие-то авансы, что-то нечистое в шнуровых книгах, страх потерять место… Да где же во всем этом что-нибудь общее? Я не знаю, как мне быть, как справиться, – а она показывает мне зубок и требует всего моего внимания… Она все больше и больше уходит в тайну разветвления своего дела, я же только чувствую увеличивающуюся потребность все глубже и глубже вонзиться в землю и, стало быть, все дальше быть и от нее и от общих интересов. Оба мы измучиваемся на своих, отдельных делах, не имеющих между собою ничего общего, и обоих нас начинает разбирать обида.
"Никакого сочувствия моим подземным страданиям!" – злобно думаю я, опустошая земский сундук, и зная, что она теперь там, вверху, на солнце, только и думает, как бы одеть своих детей по последней моде.
Так мы, корни, рычим там, под землей. А они, цветы-то, тоже разве не возмущены нами? Как бы не так:
"Только и знаешь, придет из управления летучих ящеров, только и разговору, что динамит да динамит, да взрывчатые вещества, да кто на сто процентов больше убьет… У Коли насморк, а он мне о председателе земской управы, очень мне нужно! Целый день одна, дождемся обедать, а после обеда он уйдет играть в карты, тут поневоле одуреешь…"
Так вот и живем изо дня в день!
Правда, и теперь у нас иногда бывают минуты, когда мы опять мы,в самом деле. Но увы! это уже в несчастливые минуты горького сознания, что мы оба несчастны и что все наши страдания для будущих якобы поколений ровно ничего не означают, что поколения будут страдать так же, как и мы… Вот и теперь вокруг нас, умирающих, уже начинают жить наши дети, уже и они поженились, – а я уже слышу как мой старший сын, роясь носом под землей, ворчит:
"Никакого развития!"
Бедняга!..
И нечего вам жалеть, что град прекратил нашу жизнь преждевременно – надоело! Измучились!.. Не налети град, пришла бы осень, зима, завалило бы нас снегом, и бесполезная мука жизни окончилась бы точно так же без всяких результатов…
Здесь я очнулся; в совершенно темную станционную комнату вошла кухарка со свечкой. Яркий свет ослепил меня – я очнулся, вспомнил, что голоден, и потребовал самовар…
-
Вот какую небылицу рассказал мне мой дорожный спутник.
– Что ж, – сказал я ему, – все это правда.
– Да! для цветов, пожалуй, правда, а для людей – правда, да не вся!
– Что же тут нехватает?
– Нехватает людского права сказать: "не хочу!" Вот чего нехватает… А вот эта-то борьба с узостью и желание добиться полноты существования, переощущать себя, так сказать, во всевозможных направлениях, – она-то и сложилась теперь в такую непривлекательную картину семейной разладицы…








