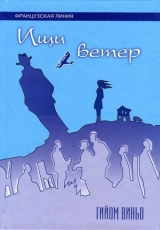
Текст книги "Ищи ветер"
Автор книги: Гийом Виньо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Она вернулась, одетая в длинную футболку. Дышать стало легче. Мы сели за низкий столик, мне выпало играть белыми.
– Тристан дрыхнет?
– Угу… И вряд ли скоро продерет глаза. Они с Дэйвом вчера вылакали все, что было на судне. Таких ершей заделывали, кошмар. Мы только под утро легли.
– А тебе, я смотрю, хоть бы что?
– А мне – двадцать три года… – озорно подмигнула она и пощупала свой бицепс.
Я сделал первый ход пешкой. Я буду не я, если не выиграю эту партию.
– А тебе-то сколько лет?
– Тридцать шесть.
– Значит… тринадцать лет разницы. Это…
– Играй, – отрезал я.
Я сразу задал игре такой темп, что Нуна не могла не понять, как кровожадно я настроен. Она действовала осторожно, терпеливо расставляла ловушки, ждала, когда я попадусь. Каждый ход обдумывала целую вечность, ей нравилось заставлять меня ерзать от нетерпения. Она сама клюнула на мою наживку, это было здорово. Я наступал вразброд, скорее дразня, чем всерьез угрожая, и тем самым готовил хитроумнейшую и смертельно опасную западню: каждая сумбурная атака давала возможность стратегического отступления. Вот этого-то Нуна и не видела. Впервые я, кажется, смог заманить ее – так, что она и не заметила, – на свою территорию. Еще какое-то время она теснила меня, полагая, что победа у нее в кармане. Наконец я пожертвовал слона, и она, окончательно утратив бдительность, взяла его конем, тем самым конем, который был ключевой фигурой ее защиты. Она, конечно, это знала, но не думала, что я сумею сразу же проникнуть в образовавшуюся брешь. Я же именно это и собирался сделать, причем так элементарно, что она не разгадала маневра. Пешка уж слишком явно прикрывала ферзя. Вот чего я добивался: заморочить ее до такой степени, чтобы самое простое решение даже в голову не пришло. Делать ставку на ошибку противника в шахматах нельзя ни в коем случае, кроме одного: если это ваш единственный шанс добиться победы. Я откинулся в кресле с довольным вздохом. Нуна уставилась на меня, не понимая в чем дело, перевела взгляд на доску и подскочила, как ужаленная.
– Да это же… Ах ты… ты… – заикаясь, выговорила она.
Я молчал: не хотел портить себе удовольствие. Я ведь обыграл ее не в шахматы – в этой игре она была сильнее меня, я обыграл ее в покер. В очередной раз я вспомнил добрым словом дядю Брюса. Нуна, надувшись, щелчком опрокинула своего короля.
– Не думала, Джек, что ты такой бессовестный.
– Ничего ж себе… час от часу не легче! Ты не умеешь проигрывать… гм… это на тебя похоже. То же бесстыдство в другом обличье.
Мне в лицо полетела подушка.
– Реванш! – потребовала Нуна, расставляя фигуры.
– Попозже, – улыбнулся я. – Перевари сначала…
– Сука…
– Сука?
– Да, Джек, да, ты – су-ка…сука и бездарь к тому же, – провозгласила она, очень стараясь сохранить серьезный вид, – и это ей почти удалось.
Я расхохотался. Никто еще не обзывал меня сукой. Было совсем не обидно.
16
Я отнес Тристану чашку кофе, но он даже глаз не соизволил открыть. От него разило перегаром, а по цвету лица я заключил, что до вечера он, пожалуй, не приведет себя в человеческий вид. Мы с Нуной пошли пройтись по тропе над морем. Я хотел было вернуться к своим обычным занятиям, в частности, к подсчету автомобилей, но она доставала меня, пока я не уступил. Вообще-то я не люблю, когда меня достают.
В кои-то веки проглянуло солнышко, и мы присели на скалистом мысу над бухтой. Достали сигареты, закурили и довольно долго беседовали. Нуна забавно курила, манерно и неуклюже. Выдыхала дым, словно свечи задувала на именинном пироге, а сигарету брезгливо держала двумя пальчиками. Нет, все-таки есть настоящие курильщики – я из их числа, и все остальные, которых мне не понять. Зачем глотать дым, если нет потребности, если можешь без этого обойтись?
– Зря ты куришь, Нуна, – сказал я, – тебе не идет.
– Мне не идет? Чушь какая… Что ты хочешь этим сказать?
– Ладно, проехали.
Она, смеясь, покачала головой.
– Смешной ты… И такой с виду нормальный.
Я лег на спину и закрыл глаза. Ветер играл нашими волосами, ласкаясь. Нуна нагнулась ко мне и теплым поцелуем коснулась щеки. Я ощутил кожей улыбку. Глаз открывать не стал. Прошло минут десять или чуть больше.
– Это к чему?
– Что, поцелуй? Ни к чему. Просто так. Не вникай, Джек, не надо… Не ищи во всем скрытый смысл, бывает ведь, что его нет…
Я задумался. Мне бы хотелось так или иначе с ней согласиться. Серебристый «Боинг» прочертил в небе длинную борозду.
– Почему они летают? – вдруг спросила Нуна голосом Маленького Принца, показав пальцем на крошечный в вышине самолетик.
– Ты должна бы знать. Ты ведь изучаешь естественные науки?
– Я учусь на биологическом! Я… я могу тебе объяснить, как делают мутагенный корнфлекс, но откуда же мне знать все на свете… И потом, я никогда раньше об этом не задумывалась. Так что, можешь объяснить или ты просто тупой пилот?
– Тупой, но объяснить могу.
Я приподнялся на локте, собираясь с мыслями.
– Теория полета, сейчас-сейчас… Слушай. В основе данного явления – четыре силы, противодействующие парами. По вертикальной оси мы имеем вес, стало быть, силу тяжести, которой противодействует подъемная сила.
– Объясни.
– О силе тяжести ты должна иметь хотя бы смутное представление… Или еще нет? Тогда с годами узнаешь…
– Да ты просто зациклился на возрасте, – перебила она. – Как это понимать? Утешаешься? Рано нажитый артрит заговариваешь? Что, легче от этого твоему колену? Скажи.
Рассмешила-таки меня. И весело подмигнула.
– Ладно, с силой тяжести, будем считать, разобрались. А подъемная сила – это… это то, что, собственно, и держит машину в воздухе. Она возникает в результате трения воздуха о крылья, которые, в силу их формы и угла по отношению к земле, создают зону высокого давления сверху и пониженного снизу. Растет динамическое давление на поверхность крыла, и, стало быть, падает давление статическое, данное явление подчиняется закону Бернулли, но это уже физика… а в ней я не силен. В общем, примерно восемьдесят процентов нашей подъемной силы составляет это самое пониженное давление под крылом.
– Уф! Понятно.
– Далее, по горизонтали мы имеем силу тяги и лобовое сопротивление. Сила тяги, механическая или же реактивная, – это искусственно созданная сила, призванная преодолеть лобовое сопротивление, то бишь, естественное сопротивление воздуха любому перемещающемуся в нем предмету. Проще говоря, трение.
– Ясно.
– Так вот, когда ты летишь горизонтально и с постоянной скоростью, это значит, что все четыре силы находятся в равновесии. При взлете сила тяги и подъемная сила превышают свои противодействующие. При посадке – наоборот. Вот тебе в общих чертах теория полета.
Нуна сосредоточенно размышляла.
– Величайшее, в сущности, открытие, – заключила она, – это подъемная сила. Но подъемная сила – это ведь тоже сопротивление? Она возникает от трения воздуха о крылья, так?
– Ну да.
– Похоже на насмешку.
– Насмешка? Физическое явление не может быть насмешкой, оно… просто есть, и все.
– Так ведь… Борясь с противодействующей силой, ты создаешь ту, что тебе нужна. Прямо извращение какое-то получается? Нет сопротивления – нет и полета… Это выбор.
Сам я никогда не рассматривал этот вопрос с экзистенциальной точки зрения, но ход ее мысли мне понравился.
– Быстро схватываешь, – кивнул я.
Она улыбнулась.
– Хорошо объясняешь, просто отлично для тупого пилота… с артритом.
Мы долго смотрели на самолетик, пока он, мигнув, не скрылся за горизонтом.
– Итак, почему же вы расстались, ты и сестра Тристана?
Вопрос застал меня врасплох. Я не видел связи с теорией полета или видел ее слишком ясно.
– Моника.
– Ага, Моника.
Я закурил новую сигарету. Нуна внимательно смотрела на меня, и от ее взгляда было тепло щеке. Я попробовал не думать о ней.
– Авария, – нехотя произнес я.
– Ну да, понятно, это всегда авария… А серьезно?
– Нет, правда – авария. Самолетная, если быть точным.
– Какая связь?
– За штурвалом был я. Я его угробил. Она мне этого не простила.
– Что значит не простила? Это был ее самолет?
Действительно, прозвучало по-дурацки. Объяснять мне не хотелось.
– Слушай, забудь, ладно?
– Чего она тебе не простила? – не унималась Нуна.
Я встал, отряхнул одежду тыльной стороной ладони.
– Все, Нуна, мы не знакомы.
Это было грубо, я сразу пожалел. Но что сказано, то сказано. Я пошел в дом считать машины.
17
Шаря по книжным полкам, я сделал одно занятное открытие и подивился только, что раньше не замечал: там был каталог моей первой выставки, тот, ради которого Мюриэль только что в лепешку не расшиблась. Хороший снимок на обложке – из серии, за которую меня обласкал «Нэшнл Джиографик». Я хорошо помнил историю этого снимка – не совсем обычную.
Я тогда ждал французов, которых отвез охотиться; это было в двух часах к северу от Валь-д’Ор. Прилетел я раньше назначенного времени: ветер был подходящий, а турбокомпрессор нового «Бивера» выжимал на сто лошадиных сил больше, чем старый. Я расположился на маленьком пляжике рядом с пристанью, чтобы спокойно перекусить сандвичем, а заодно, может быть, сделать пару снимков: грех было не воспользоваться по-утреннему рваным небом с солнечными прогалинами в клочьях облаков и этим странным, неудержимым светом, который так ценится иконописцами.
И тут я увидел черного медведя. Он медленно, с опаской, шел по плавучей пристани, время от времени останавливаясь и принюхиваясь. Я затаил дыхание и лишь через несколько минут сообразил схватиться за аппарат. Медведь дошел до края пристани, сел, склонив голову набок, и задумчиво уставился на гидросамолет. Картинка – трогательная и забавно несуразная. Я сделал снимок. Хотел еще, но оказалось, что кончилась пленка. Я порылся в карманах в поисках запасной, но все осталось в самолете. Ничего, снимок был, и я это знал. Иногда приходится гадать, а иногда знаешь: есть.
Я бросил на пристань остаток сандвича – просто хотел посмотреть, что будет. Медведь посмотрел на меня, вроде бы совсем не удивившись, встал, понюхал кусок и моментально проглотил. Я думал, он даст деру, но ничуть не бывало: зверь осторожно перебрался с пристани на пляж и направился в мою сторону. Видел я медведей за четыре года в Абитиби, но те были куда пугливее.
В лесу раздались голоса – совсем близко. Это мои французы подходили от стоянки по тропе, спускавшейся к озеру. Медведь насторожил уши, но и тут не испугался. Один из охотников показался из кустарника метрах в тридцати. Увидев зверя он быстро скинул свой рюкзак и прицелился. Медведь не шевелился, был царственно спокоен – и это под дулом карабина. Прежде чем я успел вмешаться – а что я, собственно, мог сделать? – грянул выстрел, оглушительный в тишине, прокатился долгим эхом по озеру, и над верхушками черных елей взмыли тучи перепуганных птиц.
Медведь и ухом не повел. Невозмутимо, без малейшей враждебности, он уставился на диковинного зверя в оранжевой куртке, наделавшего столько шуму. Медведь, наверное, глухой, подумалось мне, или валиума где-то хватил, что ли, бред какой-то. Оранжевый зверь, между тем, выругавшись сквозь зубы, перезарядил карабин и выстрелил еще раз, даже толком не прицелившись. Пуля врезалась в воду метрах в ста от берега. «Да что с тобой, Марсель, окосел?» – засмеялся кто-то из охотников. Тут я решил, что Марсель использовал свой шанс – более чем! – и, подобрав камень, изо всех сил швырнул его в зверя. Я угодил ему прямо в нос. Медведь жалобно взвизгнул и потрусил, поскуливая, в заросли – наконец-то. Я в жизни не видел ничего подобного, впору было подумать, что этот медведь вырос в зоопарке. Марсель направился ко мне; он был пьян от ярости да и просто пьян, судя по походке.
– Эй, ты! Куда лезешь, чтоб тебя! Какого черта сунулся? Ты пилот, твою мать, или кто?..
– На медведей – не сезон, – твердо ответил я.
Я бессовестно врал: сезон заканчивался только через два дня.
– Херня какая-то! В брошюре было другое написано! Я ведь…
– В брошюре допущена ошибка. Я не вожу в своем самолете браконьеров и не хочу лишиться лицензии. Ну все, пора лететь, погода портится.
Надеясь, что от слова «браконьер» он поостынет, я взял свои вещи и пошел к самолету. Марсель продолжал брюзжать, но уже по инерции. Правда, на борту этот идиот пристал ко мне, чтобы я «дал ему порулить»: это, мол, пара пустяков, а с меня причитается за моральный ущерб. Я пообещал уступить ему свое место, когда мы взлетим, и набрал высоту шесть тысяч футов, взяв изрядный темп подъема. Под десятикратно усиленным таким образом действием алкоголя Марсель и трое его дружков немедленно погрузились в этиловую кому, и даже приближающаяся гроза не нарушила их сон. «Гистотоксичная гипоксия» – вот как это называется и, надо сказать, срабатывает безотказно. Я мог не беспокоиться. И у меня был потрясающий снимок.
Я назвал его «Ганди» (к великому огорчению Мюриэль) и вот наткнулся на него в съемном доме на побережье Мэна. Если Тристан был прав насчет совпадений, то я, убейте, не понимал, что мне хотят этим сказать. И все-таки в этот вечер я не считал машины. Я листал каталог и думал о Ганди, о том медведе. Надеюсь, что мой крестник с тех пор остерегается французов и что нос у него чешется всякий раз, когда он встречает двуногих.
– О чем ты думаешь?
Я не слышал, как пришла Нуна. Погода опять испортилась.
– О Ганди, – ответил я, украдкой сунув каталог под диванную подушку.
Нуна, кажется, хотела что-то сказать, но передумала, и вид у нее был отчего-то печальный. Она поднялась к Тристану.
18
Мюриэль. Вот ведь как. Полная противоположность Нуне. Что я в ней нашел, в Мюриэль, – ума не приложу. Женщина той породы, которую я ненавижу, одна из тысячи: манерная, лживая, расчетливая. Грязный мужской ум и совершенно убойное тело, тело жрицы и жертвенная душа. Язык у нее был острый, а оргазм заносчивый. Великолепная Мюриэль.
Мы с ней переспали один раз. Она тогда таскала меня по вечеринкам Сохо, демонстрировала всем как свое очередное открытие, восходящую звезду натуралистического неореализма, – такого течения отродясь не существовало, но все покупались на название. В общем, пыль в глаза. И ведь срабатывало. Люди платили за снимки немалые деньги, о них писали в журналах, цены росли, и спрос соответственно. Вот так, через пять столетий после опытов да Винчи Мюриэль каждый день изобретала вечный двигатель. «Сессна» который месяц пылилась в ангаре, выставки следовали одна за другой так быстро, что я не успевал проявлять пленки, скопившиеся за последние три года. Похвалы лились в уши, коктейли – в глотку, кокаин запивался валиумом и снова занюхивался кокаином, и не сразу, но мало-помалу, я и сам в себя поверил.
Двадцать минут шестого, рассвет на Манхэттене после нескончаемой вечеринки у Джоэля Стейна, адвоката великих мира сего и импрессарио художников из любви к искусству, только что купившего три четверти экспозиции. Он меня обожает – знать бы, за что. То же небо над головой, что и везде, но здесь оно почему-то кажется бархатным. По последней у Мюриэль. Чарли Паркер [18]18
Чарли Паркер – знаменитый джазовый пианист; Bird (Птица) – его прозвище.
[Закрыть], какой полет со скольжением, это изумительно, она-то ничего не смыслит, но Bird, обдолбанная птаха с опаленными крыльями, я и забыл, что это за класс. Сегодня я поцапался с Моникой по телефону. Она нападала, я уворачивался. Только так мы с ней и общаемся, уже довольно давно. Коварное декольте Мюриэль соскальзывает с плеч, и этот холодный смешок, когда я железной хваткой за шею клоню ее к себе, ощущая жгучее желание и что-то еще. Она высвобождается, ускользает, медленно, с ленцой, шуршит, падая, платье, белье, разбивается рюмка о плиточный пол – это уже напоказ, удовольствия ради.
И когда я беру ее на полу в этой по-полярному студеной кухне, лежа среди осколков стекла; когда меня овевает дыханием севера то ли вздох, то ли смех, за той стеной, где покоятся останки тысячи поверженных мужчин, которыми мог бы быть я; когда она получает удовольствие на свой манер, с царственным взглядом, отнятым ею у меня; когда бледно-лиловый свет заливает это контрабандное небо; когда я кончаю, кончаюсь, исхожу весь, досуха, до донышка; все это время я, такой смешной, такой жалкий я, так высоко залетевший я, думаю о Монике. Я думаю с мстительной радостью, что теперь-то, наконец, она сможет плюнуть мне в лицо – сколько месяцев уже об этом мечтает – и назвать меня подонком, потому что я им стал, потому что, в сущности, всегда им был, и мы с ней, наконец-то, сможем возненавидеть меня вместе, единодушно. Вместе.
Я буду плакать от этой радости, буду плакать утром в постели Мюриэль, неудержимо, немо, и останусь нем, когда она призовет меня к ответу, пустит в ход угрозы, окатит презрением. Она вышвырнет меня за дверь, как чумного, как душевнобольного, и побожится, что мне конец, что весь Нью-Йорк сегодня же от меня отвернется. И Нью-Йорк будет прав. Я вернусь домой, вернусь к угробленному самолету, вернусь к жене, которой скоро у меня не станет, и, может быть, отдохну, наконец, в холодном объятии моей любви.
19
С билетом на самолет в кармане я уехал в тот же день, автобусом с Гранд-Сентрал, увозя с собой несколько снимков и следы змеиного яда на коже. Своим запахом Мюриэль сумела меня совратить, и он же теперь стал мне особенно невыносим; я чувствовал его на себе, как саван, воняя трахом в салоне «Грейхаунда», катившего к северу, воняя смертью.
Пересадка в Монреале, два часа ожидания в терминале, похожем на морг. Неоновая ночь, холодный дым, кофе из автомата. Почему автобус? Потому что четыре часа полета – маловато для крестного пути. Мне было необходимо физически ощутить расстояние, видеть каждый дорожный указатель, считать километровые столбики; был необходим парк Ла-Верандри, восхитительно унылый в глубокой ночи; необходимо пить дрянной кофе, мочиться на себя в тесной туалетной кабинке, нещадно стукаясь о стены от тряски, прикладываться к мерзавчику «Бакарди» и погружаться в муторное оцепенение.
Я приехал под утро, с выжженной алкоголем душой; меня шатало от усталости, шла кровь носом – последний алкалоидный привет. Моника спала. Я рухнул на софу в гостиной и под ясным, чистым утренним светом провалился в сон, как в печь крематория.
Проснувшись, я увидел белевший на журнальном столике листок: «Потом все объяснишь. Отсыпайся. Кофе пей без молока, кончилось, извини. М.». Почти нежная записочка. Я посмотрел на часы. Было четыре пополудни. У меня все болело, полчаса потребовалось только на то, чтобы собраться с силами и встать. Завтра будет еще хуже – это я знал наверняка. Я выпил утренние остатки из кофеварки, отвратительную, горькую до рвоты жидкость, потом просто сидел в кухне, не сводя глаз с шоссе, чутко прислушиваясь, не заурчит ли мотор «Гольфа», который я узнал бы среди всех других. «Бьюик» с моего отъезда стоял в гараже, и одна шина у него совсем спустила. До меня дошло, что сегодня четверг, а это значило, что Моника вернется не раньше одиннадцати. По четвергам она ужинала с коллегами. Я на их ужинах бывал редко, все эти учителя, на мой взгляд, до того погрязли в своих профессиональных дрязгах, что скука была смертная, и я, силясь развеять ее, не в меру пил. Я бы еще как-нибудь потерпел, не будь там директора начальной школы, толстяка-недомерка в неизменном коротком галстуке, у которого имелись теории обо всем и идеи ни о чем. С ним я сцепился в первую же неделю по приезде в Валь-д’Ор и, слава Богу, хоть одно дело уладил. Он подъезжал к моей жене, но ни один ухажер не волновал меня меньше, чем этот Жан Жодуэн. Вот уж кто будет рад узнать о том, что скоро случится с нами, со мной и Моникой.
Моника вернулась, когда я уже лежал в постели, причем, довольно давно. Я слышал, как она на цыпочках поднялась по лестнице, как чистила зубы. Под одеяло она скользнула осторожно, стараясь не задеть меня.
– Добрый вечер, love, – тихо произнес я.
Она вздрогнула, села и повернулась ко мне.
Погладила меня по волосам.
– Ты ждал меня?
– Да, я не спал. Как прошел ужин?
– Гмм. Я думала, ты приедешь только в понедельник.
– Так получилось.
По идее, она должна была спросить меня, почему я вернулся раньше, как прошла выставка и все такое, но она не спросила. Легла, вытянулась рядом со мной, близко-близко.
– Ты принимал сегодня душ?
– Нет, а что? Плохо пахну?
Она секунду помедлила.
– Кажется… потом, чуть-чуть…
Нет, любовь моя, я пахну вовсе не потом, и ты это знаешь. Я пахну «Шанелью» номер какой-то там, трахом я пахну, спермой, я пахну киской Мюриэль, и этот мускусный запашок здесь, между нами, в воздухе и на моих пальцах, и в моей бороде – да, ты его учуяла, я знаю, – так пахнет между ног у Мюриэль, ни с чем другим не спутаешь, ты согласна? Мюриэль, конечно же, ты ее помнишь… Неотразимая красотка – тогда ты так сказала, не могла не сказать, надо было заклясть эту недобрую красоту, надо было извлечь ее из молчания, как из шкатулки, красоту этой суки, вытащить на свет Божий, не правда ли? Да-да, та самая красотка, что зло вышучивала твой плохой английский, конечно же, ты ее помнишь; мы не забываем людей, которым с удовольствием выцарапали бы глаза, думается мне.
– Я приму душ, если хочешь. Да, ты права, мне самому противно. Я сейчас, две минуты.
Я встал. Пошел в ванную. Пустил душ. Сел на дно ванны, обхватив голову руками, и попытался собраться с мыслями, а вода текла, омывая внешние следы – засохшие выделения, крошечные царапины. Душ для измены – то же самое, что посмертный грим для покойника: трогательное усилие. Мое забальзамированное сердце все еще билось, и я, оцепенев под горячими струями, хотел одного: чтобы оно угомонилось наконец – остановись, дурацкий насос!
Моника постучала в дверь. Уже целую вечность я не подавал признаков жизни. Горячая вода в резервуаре давно кончилась, встав, я почувствовал, как окоченели руки и ноги, и понял, что был близок к гипотермии. Я закутался в халат.
– Да-да! Выхожу!
Я лег, меня бил озноб. Моника села рядом, взяла сигарету, закурила, глядя в стену. Она бросила курить больше года назад, но держала старую, смятую пачку «Кэмела» в ящике ночного столика. Когда ей случалось выкурить сигарету, как сейчас, в темноте, это значило, что она о чем-то размышляет.
Кури, любовь моя, сегодня ты это заслужила. Ну же, смелее. Заставь меня выложить правду, не мне же это за тебя делать. Но нужна ли она тебе, эта правда? Она просачивается, как подземные воды, верно? Она уже затопила лабиринт твоего мозга и вот-вот прорвет плотины, я уже чувствую, как они поддаются ее напору. Предчувствие все отчетливей, свет все ярче, это, как заря, убивающая наповал запоздавшего вампира – горизонт розовеет, любовь моя, смерть близка. Как ты встречаешь ее? Бежишь прочь, роешь землю ногтями, ищешь убежища в нашей с тобой темнице? Нет, я тебя знаю. Заря – разве от нее спасешься?
– Что случилось, Жак? Что-то ведь случилось.
Я не отвечу тебе, love. Этого мало. Ты ведь сильнее, я знаю, ты достойнее. Загони же меня в угол. Не надо мне запасных выходов, лазеек для бегства. Господи Боже, Моника, я улегся в нашу с тобой постель! И ты стерпишь эти мерзкие запахи? Мать твою, чего ж тебе еще надо?
– Ты…
Да, я. Любовь моя. Добей.
– Ты… ты спал с… с кем?… Ты спал с Мюриэль?…
Мое молчание было знаком согласия, каждая секунда говорила «да».
– Я люблю тебя, Моника.
Она сжала губы. И стон – протяжный, низкий, как в самолете, когда мы падали, – точно такой же стон, только слабый, вырвался из ее горла, а глаза неподвижно смотрели в стену, как тогда на верхушки черных елей. Я ничего не сказал, ничего не сделал.
Все решалось сейчас, но все было уже решено. Лишь бы она не поддалась слабости, молился я, лишь бы не вздумала простить, сохранить дышавшие на ладан надежды. Да, я сказал «люблю», потому что не хотел, чтобы ей было легко. Пусть об этом выборе, который вызревал в ней, – выборе трудном, мучительном, – пусть она о нем никогда потом не пожалеет. Я в большом долгу перед ней, но за это с меня спросится в первую очередь.
Держись, любовь моя, еще немного. Ты сильная. Начни новую жизнь, в которой мы с тобой не будем «мы». Не прощай меня, оставь позади то, что умерло, не оглядывайся. Ты-mo ведь не предала бы меня, нет, ты – кремень. Ты не предала бы, ты знаешь, держись за это, вот твоя точка опоры. Мы – не ровня. Лев не спит с гиеной. Моника, львица моя, оставь меня стервятникам.
– Все кончено, Жак?…
Я стиснул зубы, ничего не сказал. Вот оно, свершилось. Почти.
– Все кончено, Жак.
Она встала, ночная рубашка соскользнула на пол, я увидел ее голой в последний раз, округлость груди, спину в последний раз, тень ее лона, мельком, в последний раз, молочную белизну живота. Она натянула джинсы, свитер, закрутила волосы в узел. Дрожащей рукой подобрала пачку «Кэмела».
Тихонько, словно в доме спали, закрылась дверь, заурчал мотор «Гольфа». И все. Потом, восемь дней кряду – Эрик Сати, его «Гимнопедии», особенно третья, похожая на мокрое зимнее утро, без шарфа, когда так пусто в груди. Чемоданы, «Бьюик», сменить шину и – пять часов пути, бабушкин домик в Ла-Минерв, небытие, которое надо выстроить и потом обихаживать, как цветы у подножия обелиска. И знать, все это время знать, что настанет день – и я до него доживу, —когда я смогу жить без нее. Вот что, наверное, было хуже всего: знать это. Что я стану таким.
20
Я нашел закинутую на книжный шкаф головоломку и принялся собирать ее на кофейном столике в гостиной. «Кувшинки» Моне из тысячи кусочков.
Уже много-много лет я не возился с головоломками. Вообще-то, я это делал только в детстве, с отцом. На исходе осени, когда безжалостная темнота опускалась на мою песочницу и шалаш среди деревьев, отец открывал старый шкаф и доставал головоломки. Мы сидели над ними часами, молча, с головой уйдя в свое занятие, он машинально барабанил пальцами по столу, я насвистывал или, может, наоборот, не помню. Отец варил для нас горячий шоколад. Он действовал методично, начинал с краев, а мне не терпелось сразу отыскать лица, предметы. Он уступал их мне, оставляя себе небо, поля и прочий фон, а потом бурно восторгался, когда я с такой гордостью, будто сам их нарисовал, показывал ему собаку или даму с зонтиком, или с торжеством помещал красный домик в середину кукурузного поля, которое он терпеливо собирал из множества кусочков. Сколько себя помню, я всегда думал, что умнее отца. Смешно? Еще бы! Но он делал мне этот щедрый подарок.
Головоломку с кувшинками я начал собирать с краев: рано или поздно что-нибудь да понимаешь.
Пришла Нуна, села рядом и, ни слова не говоря, тоже принялась за дело.
– Тристан уже встал? – спросил я.
– Нет. Спит, – ответила она с ноткой скуки в голосе.
Я нашел четвертый угол.
– Он всегда столько пьет или это только сейчас, на каникулах отрывается?
Я задумался. Пожалуй, любой ответ будет несправедливым.
– Тристан… Тристан вообще редко себя ограничивает, – сказал я наконец.
Она кивнула, помолчала.
– А он всегда такой… ну, кипучий, энергичный, жизнерадостный?
Если бы… Я вздохнул. Откуда бы тогда взялись у Тристана на запястьях тонкие шрамики – такие «зарубки» уж точно не лгут.
– Нет. У него случаются черные дни, как у всех…
Как у всех, только хуже, добавил я про себя. Нуна сосредоточилась на головоломке.
– А кто такая Луиза? – спросила она через какое-то время.
– Луиза? Это… это тристанова бывшая… А что?
Нуна помедлила.
– Он пишет ей письмо… Я случайно наткнулась сейчас – искала расческу.
– Ты прочла?
Она уставилась на меня с таким возмущением, будто я обвинил ее в некрофилии или еще каком извращении похуже.
– Да ты что? Дурак! Я просто увидела имя… Ну и мне стало интересно, кто это, вот и все…
– Они остались друзьями… Созваниваются иногда, переписываются.
Вот это уже чистой воды фантазия. Тристан и Луиза были кем угодно, только не друзьями. Эта парочка друг друга стоила, оба без башни, только Тристан из них двоих был сумасброднее, а Луиза – стервознее. Мои пальцы механически сортировали кусочки головоломки по цветам, а мозг лихорадочно работал в автономном режиме. Зол я был на Тристана страшно. Я-то думал, что на сей раз все и правда всерьез, что его балетная краля изгнана окончательно, сожжена и пепел развеян, и даже тот факт, что Луиза еще поддерживает, с позволения сказать, дружбу с Франсуазой Молинари – рыбак рыбака! – ничего не изменит. Семь лет они с Тристаном от души терзали друг друга, семь лет Луиза каждые полгода бросала его с упоением падающего ножа гильотины и возвращалась, как только выяснялось, что он вполне способен без нее обойтись. Следовал бурный медовый месяц со слезами, обещаниями и радужными планами на будущее. Затем, при первой же выходке Тристана – а за ним не заржавеет! – она паковала чемоданы и утешалась вояжем, курсами самосовершенствования и перепихоном с первым попавшимся вышибалой из дискотеки. Последним был некий Карлос – наглый, как танк, любитель йоги и мотоспорта; к этим занятиям после короткой встречи с Тристаном ему пришлось добавить физиотерапию дважды в неделю, из-за выбитого плеча. Джиу-джитсу по-бразильски – была у Тристана и такая блажь.
Я ничем не выдал своих эмоций, сосредоточившись на кувшинках. От всей души хотелось надеяться, что я ошибаюсь, а Тристан просто выплескивает на бумагу накипевшее и пишет Луизе, что все кончено бесповоротно. Увы, такое было бы для него нетипично: при всех своих недостатках Тристан не склонен ворошить старые обиды и сводить счеты. Он начисто лишен исторической перспективы,что избавляет его от многих выводов, хороших или плохих, неважно. В общем, письмо было дурным знаком.
Нуна поднялась через полчаса, поставив на правильное место четыре или пять кусочков, в том числе подпись Моне – единственную легко опознаваемую деталь картины.
– Знаешь, это… это очень,ну, просто очень нудное занятие! – вздохнула она.
Я улыбнулся. Она совершенно права.
– Надо рассматривать это как тибетскую мандалу…
– Это еще что такое?
– Ну, знаешь, такие геометрические фигуры, которые выстраивают буддийские монахи на земле из разноцветного песка. Они собираются впятером и трудятся неделями, а когда закончат, даже ничего не фотографируют – сразу сметают все или развеивают песок над рекой, что-то в этом роде. И начинают новую.
– А, ну да, я видела по телеку. Сделают, а потом сами уничтожают. Ужас, правда?
– Все зависит от точки зрения. Для мирового культурного наследия, конечно, хорошего мало. Но, уничтожая свои творения, они подавляют гордыню. Их действия свободны от самолюбования. Это просто действие, здесь и сейчас. Это же, если угодно, аллегория жизни – мандала…
– Из тебя вышел бы отличный монах, Джек, – обронила она с улыбкой.
– Надеюсь, в следующей жизни. Боюсь, пока не готов… Остались еще кое-какие желания. Кое-где.
Нуна метнула на меня косой взгляд – надо полагать, спрашивала себя, издеваюсь я над ней или нет. Я и сам себя об этом спрашивал, но одно мог сказать наверняка: одной жизни мне не хватит, чтобы возродиться в Лхассе, с раскосыми глазами и неизменной улыбкой на губах.








