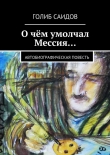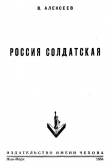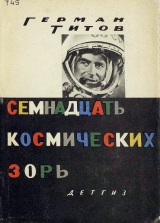
Текст книги "Семнадцать космических зорь"
Автор книги: Герман Титов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Нам было радостно встретить на съезде и Главного Конструктора космических кораблей и его коллег, чьи имена еще не обнародованы, но уже вписаны золотыми буквами в историю нашего государства, в летопись наших побед на пути к вершинам коммунизма. В Кремлевском Дворце съездов мы все, пожилые и молодые коммунисты, с одинаковым чувством гордости за свою Родину, за свою партию слушали Никиту Сергеевича Хрущева. Впечатлений от докладов, от той неповторимой обстановки сплоченности, братства и уверенности в победе коммунизма так много, что их не выскажешь в нескольких фразах.
Тогда я часто задумывался над тем, как я, внук крестьяни-на-бедняка, сын сельского учителя, сегодня стал делегатом съезда партии. Я понимаю, что дело, конечно, не во мне лично... Слушая Никиту Сергеевича, выступления делегатов, я все больше ощущал сердцем, как много сделано партией, советским народом со дня исторического залпа «Авроры» и какая громадная ответственность теперь ложится на нас, молодых. Ведь это нам придется претворять в жизнь то, о чем люди мечтали веками.
На съезде я встретился и познакомился с одним из старейших членов нашей партии, с Еленой Дмитриевной Стасовой, верной соратницей великого Ленина. Это они, первые коммунисты России, отдали все свои силы, всю жизнь тому, чтобы сегодня мы могли собраться в Кремле и говорить о коммунизме как о конкретной задаче ближайших двух десятков лет.
И сейчас я невольно все чаще и чаще вспоминаю историю коммуны своего родного села. Мои деды и односельчане, создавая эту коммуну, уже тогда угадывали еще неясные для них черты коммунизма, который сегодня советские люди решили построить и построят в короткие сроки. Мне особенно понятно, почему программа построения коммунизма имеет глубокие народные корни. Работая сообща, жадно впитывая культуру, штурмуя мудреную для них грамоту, мои деды, сибирские мужики – коммунары – уже на заре Советского государства мечтали о радостном завтра.
Свою мечту, дела и завоевания они передали как эстафету нашим отцам и старшим братьям. В боях с фашистами наши отцы и братья отстояли завоевания революции, сохранили в своих сердцах дедовские мечты и передали их нам.
До того как стать космонавтом, я служил в авиационной части. Там я узнал ее боевую историю, имена героев, через руки которых пришла к нам, молодым летчикам, дедовская эстафета. Летчики нашей части, Оскаленко, Севастьянов, Ма-цевич, Лобов и многие другие, не жалели ни крови, ни жизни, чтобы отстоять ленинские идеи.
Многие герои Отечественной войны погибли, но они принесли победу...
Знаете, мне показалось, что, когда Елена Дмитриевна Стасова знакомилась со мной, она очень пристально глядела на меня, будто взвешивала: в какие руки вручается теперь эстафета, пронесенная через царские тюрьмы и революцию, разруху и голод гражданской войны, через пятилетки, через горе и кровь военных лет? Кто примет эстафету, которую несли миллионы коммунистов и беспартийных через все испытания?
С этой эстафетой идти нам, молодым...


L D J CKOPE после полета в космос мне пришлось еще и еще раз поглядеть на нашу планету, но теперь уже не с космической, а с нашей земной высоты. Посыпались многочисленные приглашения побывать в гостях у друзей: в Германской Демократической Республике, в Румынской Народной Республике, Монгольской Народной Республике, в странах Юго-Восточной Азии. Почти месяц мы были в Индонезии, Бирме и Демократической Республике Вьетнам. Вскоре в составе делегации Ака-
демии наук я полетел в США, где работал Международный конгресс по мирному использованию космического пространства. В сентябре 1962 года мы ездили в Югославию и Болгарию.
Впечатлений от этих поездок так много, что им можно посвятить отдельную книгу. Я же расскажу на этих страницах не обо всех поездках и далеко не обо всех фактах, которые взволновали меня и запомнились на всю жизнь. Тот теплый прием, который оказали нам во многих странах, убеждает в том, что у нас очень много братьев, единомышленников и искренних друзей. Их так много, что сердце радуется.
В Германскую Демократическую Республику мы прибыли в дни, когда республика решила положить конец провокациям реваншистов из Западной Германии и закрыла границу между Западным и Восточным Берлином. В те дни в Германской Демократической Республике все были полны решимости защищать свои права и жили одной мечтой – мечтой о мире.
Однажды в Берлине мы увидели старика, который долго бежал за нашей машиной. Должно быть, он пережил не одну войну и, возможно, не одного сына потерял в их огне. Старику было трудно бежать, хоть машина двигалась совсем медленно, но он бежал, махал флажком и кричал всего два слова: «Мир – дружба!», «Мир – дружба!»
Там, в Берлине, да и в других городах, нас встречало очень много народу и среди них было много детей. Одна западно-берлинская газета в эти дни писала, что Титова в ГДР встречают только дети, рассчитывая тем самым задеть не только нас, но и немецких друзей из ГДР. Эти глупцы, видимо, не понимают, что дети – «индикаторы» жизни и как раз по ним можно судить, чем живет народ той или иной страны. В ГДР действительно много детей, и это – первое свидетельство того, что люди хотят жить в мире, мечтают о спокойном и прекрасном будущем. И было очень радостно видеть улыбающихся, счастливых ребятишек в городах и селах Германской Демократической Республики.
Поездка по странам Юго-Восточной Азии для меня, сибиряка, была особенно интересной. У нас в Сибири пальмы не растут, да и за бананами нередко постоишь в очереди, а тут вдруг попадаешь в страну, где кокосовые пальмы и банановые деревья растут прямо вдоль улиц городов...
Изумрудным ожерельем экватора называют Индонезию. Страна раскинулась на трех тысячах больших и маленьких вечнозеленых островов. Есть среди них такие, которых не найдешь ни на одной географической карте, и такие, на которых свободно разместилось бы не одно крупное государство Европы. Как только наш самолет опустился на бетон аэродрома в Джакарте, мы поняли, что с этой минуты мы в стране палящего солнца, неповторимых зеленовато-голубых океанских далей, в стране тропических лесов и чистосердечных друзей. Их было сотни, тысячи встречающих. И где бы мы ни появлялись во время последующей поездки по стране – на стадионах и в индонезийских деревнях, в учебных заведениях или у подножия знаменитого буддийского храма Барабодур, осматривая это немое свидетельство высокой тысячелетней культуры страны, нас всегда сопровождали теплые улыбки красивого и гостеприимного народа.
Жаркий и влажный климат Индонезии заставляет жителей делать домики, далеко не похожие на русские избы или украинские хаты; крохотные рисовые поля, расположенные террасами, селения, утопающие в сочной и буйно растущей зелени, так непохожи на бескрайние просторы алтайских степей и наши села...
Индонезийцы очень музыкальный народ. Почти каждая наша встреча в городах и деревнях выливалась в музыкальный праздник. Нас встречали и провожали своеобразными национальными танцами в красочных костюмах и масках; и как радовались артисты и публика, когда нам нравилось мастерство исполнителей и уже полюбившиеся в нашей стране мелодии и ритмы индонезийской народной музыки.
Мы были в Индонезии, когда индонезийский народ требовал освобождения от голландцев территории Западного Ириа-на. На митингах в Макасаре и Паре-Паре, в Медане и Джокьякарте, в Бандунге и других городах люди решительно поддерживали правительство и президента Сукарно и были готовы к борьбе за полное освобождение своей страны от колонизаторов.
Индонезия была провозглашена независимой республикой еще в августе 1945 года после почти трехсотпятидесятилетнего господства европейских колонизаторов. Это были три с половиной века почти не прекращающейся борьбы народа за свою свободу. В годы второй мировой войны индонезийцы сражались с японскими оккупантами. Но, несмотря на провозглашение республики, еще пять лет продолжал индонезийский народ упорную борьбу с голландскими интервентами, сменившими японских. Много патриотов страны пало в борьбе за свободу и независимость республики. Мы возложили венок на братскую могилу героев, хорошо понимая чувства, переживаемые народом. Нам, как никому, знакома горечь потерь, и индонезийцы знают это. Я был уверен, что индонезийский народ добьется окончательной победы и навсегда избавится от интервентов, и был очень рад услышать сообщение о том, что голландские солдаты вынуждены были покинуть территорию Западного Ириана.
Интерес, который проявляет народ Индонезии да и других стран к достижениям Советской России, очень велик. На встречах со студентами и преподавателями, с рабочими и крестьянами мы везде слышали одни и те же просьбы:
– Расскажите нам побольше о ваших успехах в области освоения космоса, о советской науке, о ваших атомных электростанциях...
Этот интерес понятен. Народам многих стран, особенно тем, кто недавно сбросили ярмо колониализма, твердили о том, что чудеса техники могут рождаться лишь в США, Англии, одним словом, в западных странах, и вдруг они узнают, что первая атомная электростанция построена в Советском Союзе, первый атомный ледокол – в Советском Союзе, спутник– в Советском Союзе, Лунник – тоже, первый человек в космосе – советский человек, и первая страна, строящая коммунизм,– советская страна... Люди стали задумываться все больше и больше и теперь уже хотят всё знать о советской стране, о советских людях.
И всюду мы слышали слова благодарности советскому народу за помощь, которую он оказывает странам, ставшим на путь независимости в создании национальной промышленности.
Каждая страна имеет свои особенности, каждая по-своему интересна. Когда мы летели над Бирмой, то сверху, из иллюминаторов «ИЛа», мне показалось, что в Рангуне меньше жилых домов, чем... пагод – буддийских храмов. Недаром Бирму называют Страной тысячи пагод.
Бирманский Союз, как стало называться в 1945 году это молодое и в то же время древнее государство, в прошлом так же, как и Индонезия, находился под гнетом колонизаторов и богатства страны подвергались жесточайшему ограблению. Бирманский народ вел непримиримую борьбу с английскими колонизаторами и не сложил оружия до тех пор, пока не завоевал полного освобождения. История страны уходит в глубь веков: когда-то Бирма была одним из сильнейших государств Восточной Азии, с высоко развитой культурой.
Бирманцы сохранили и по сей день и древние обычаи, и национальные костюмы, музыку, танцы, и религиозные традиции
МС далеких времен. В Бирме, например, считается проявлением хорошего тона, когда мужчина уходит время от времени в монахи. «Служба» монашья там не тяжела, потому что монахи, в общем-то, не работают. По утрам они ходят от дома к дому, собирая подаяние, в полдень обедают и все остальное время предаются размышлениям о жизни Будды. Нам рассказали, что в стране постоянно насчитывается более двухсот тысяч монахов.
В центре Рангуна стоит самая большая в мире пагода Шве-догон – Золотая Пагода. Входить туда можно только босиком. Экскурсии, которых бывает в пагоде множество, приносят немалый доход монахам. В пагоду мы пришли рано утром, но ящик для денег уже был заполнен до половины.
Но нужно отдать должное служителям культа. В тяжелые дни борьбы за национальную независимость страны рядовые монахи вместе с народом храбро сражались против английских колонизаторов. В Рангуне мне показали памятник, воздвигнутый национальному герою, буддийскому монаху У Вис-сару, погибшему в застенках колониальной тюрьмы. Трудолюбивый, талантливый народ Бирмы гостеприимно, по-дружески встретил нас, проявляя живой интерес ко всему, что касается нашей страны и жизни советского народа.
В Демократической Республике Вьетнам мы сразу почувствовали иной ритм жизни. И хотя народ Вьетнама живет пока еще скромно, Хо Ши Мин сказал мне, что народ демократического Вьетнама далеко шагнул по пути прогресса и далеко позади нищета, бедность и прежняя экономическая отсталость бывшей французской колонии.
Президент Хо Ши Мин – очень приятный, мудрый и внимательный человек. Дав нам возможность отдохнуть денек, он повез нас в увлекательную прогулку по заливу Ха Лонг. Залив Ха Лонг – Залив Спящего Дракона. В нем более трех тысяч островов разных размеров и форм.
Кажется: действительно уснул под водой огромный дракон и только его каменные плавники, в виде различных рыб, дельфинов, остались на поверхности моря. Над бухтой стоял легкий туман. То тут, то там по тусклой глади воды скользили рыбацкие лодки, и их огромные косые паруса издали казались крыльями больших бабочек, упавших от усталости в море. В тот день температура была +16°. Здесь это считалось самым холодным временем года.
К полудню солнце разогнало туман и Ха Лонг вдруг засиял всей своей волшебной красотой. Стало жарко, и «па Хо» – так Хо Ши Мин велел мне звать его, предложил выкупаться на крохотном песчаном пляже одного из островков.
– Не замерзнешь? – спросил он меня, лукаво улыбаясь.
Через секунду мы уже на шлюпке гребли к небольшому
островку. Его серые, блестящие от росы камни выбрасывались отвесной стеной вверх и только в одном месте переходили в золотой пятачок крохотного песчаного пляжа.
– Что это за остров? – спросил товарищ Хо Ши Мин командира катера, когда мы, вволю накупавшись, снова перебрались на борт сторожевика.
– Значится под номером сорок шесть, – ответил моряк.
– Я думаю, раз Герман Титов сам навсегда не может остаться у нас во Вьетнаме, мы оставим его по-другому, – сказал па Хо и, обняв меня за плечи, добавил: – Дарим тебе этот остров! Приезжай сюда всегда, когда захочешь, будешь дорогим гостем! – и, уже обращаясь к капитану, пояснил свою мысль: – Исправь на карте: остров № 46 отныне будет называться островом Германа Титова...
Моряки аплодировали, поздравляли меня, а я испытывал и чувство неловкости за такой почет и чувство благодарности сердечному па Хо и всему народу этой далекой и близкой нашему сердцу страны.
По пути из Вьетнама домой для заправки самолета горючим мы произвели посадку в Гуаньчжоу. Пока шла заправка, мы провели приятных полтора часа со встретившими нас китайскими школьниками. Разговаривали, нас угощали крепким китайским чаем. И здесь, в Китайской Народной Республике, как везде, самыми «осведомленными» в вопросах космических полетов, самыми любознательными были, конечно, эти ребята. И они тоже мечтали стать космонавтами.

ДНАЖДЫ весенним утром наш самолет опустился на Нью-Йоркском аэродроме. На этот раз он сел довольно надолго. Здесь мне довелось пробыть вместе с женой около двух недель.
Ш
Нью-Йорк мне не понравился. Я считаю, что люди должны строить город для того, чтобы в нем можно было нормально жить, работать, отдыхать. Этому вовсе не способствуют небоскребы, закрывающие от людей солнце, грохот надземных
поездов, большое количество машин на узких улицах, гарь, копоть заводов. Множество машин на улицах не облегчает, а затрудняет движение, и, если люди ходят по своим делам пешком, они быстрее достигают цели. Сверкающие, вспыхивающие, взрывающиеся молниями со всех сторон световые рекламы не привлекают, а скорее отталкивают и, конечно, утомляют.
Куда более приятен, тих и спокоен Вашингтон – административный центр Америки. Здесь много зелени, не видно промышленных предприятий и небоскребов, так как специальным законом запрещается кому бы то ни было строить здания выше Капитолия, в котором заседает Конгресс – высший законодательный орган Соединенных Штатов Америки. Одним словом, американцам пришлось прибегнуть к закону, чтобы спасти свою собственную столицу от своих же собственных дельцов и предпринимателей, которые – дай им только волю– и Вашингтон и его парки и скверы утопили бы в заводской копоти и задавили бы столицу скалами небоскребов, превратив ее улицы в ущелья.
В Вашингтоне нас познакомили с американским астронавтом Джоном Гленном. Я с интересом ожидал этой встречи. Мне хотелось поговорить с человеком, который совершил три оборота вокруг Земли в малоудобном космическом корабле, пережив перед этим немалые волнения и тревоги.
Многие, наверное, знают, что полет Гленна откладывался 10 раз! Много раз он поднимался в кабину, подолгу ждал старта, но старт то из-за неисправности корабля, то из-за погоды откладывался...
Как-то на пресс-конференции меня спросили:
– Чьи космонавты смелее – американские или советские?
Ответить на этот вопрос довольно трудно, и вряд ли для тех, кто уже слетал в космос, эти сравнения имеют какое-либо значение. Но определенно американцы отчаянные ребята,
потому что решиться лететь на ракетах, которые один раз взлетают, а другой взрываются, могут не всякие смельчаки...
Правда, нетрудно понять Гленна. Мне рассказали, что однажды, отвечая журналисту, восхищавшемуся его мужеством, Гленн заметил, что он решился на свой полет, потому что на лучший корабль в ближайшем будущем надеяться было трудно. Довольно грустное признание...
С Гленном мы провели вместе целый день. Ездили в машине по городу, и он рассказывал о памятниках столицы. Мы побывали у памятника Линкольну, в музеях. Днем был прием у президента Кеннеди, затем в нашем посольстве, и вечером Гленн пригласил меня с Тамарой в гости.
Весь вечер мы провели у него в доме. У Гленна приятная жена и двое детей. Девочке шестнадцать лет, сыну четырнадцать. Понимают ли они, как отец рисковал, когда десять раз залезал в узкую, как горлышко бутылки, капсулу?
Аллан Шеппард, совершивший год назад суборбитальный полет, то есть скачок в космос и немедленную посадку, тоже был в гостях у Гленна. После разговора с Шеппардом у меня сложилось впечатление, что американские астронавты, сделав свое трудное дело, ведут довольно прозаическую жизнь.
Мне очень хотелось побывать в концертных залах Америки. И однажды мы поехали в один из самых больших залов Нью-Йорка – Радио-сити. Был пасхальный день, и представление началось церковным песнопением девиц в «ангельских» нарядах. Два органа сопровождали этот благочестивый хор.
Вот, думаю, попал! Но вскоре началась концертная программа, где были и ковбои, и поножовщина, и стрельба, и эффектный пожар на сцене. Одним словом, все двадцать четыре американских удовольствия. Я обратил внимание, как люди принимали эту программу: аплодисменты возникали в этом огромном зале маленькими очажками – то тут кучка людей захлопает в ладоши, то там.
Настоящий шквал аплодисментов потрясал зал, когда на другом концерте мы присутствовали на выступлении советской труппы артистов. И стоило появиться на сцене «запорожским казакам» в атласных шароварах и исполнить свой шуточный танец, как весь зал в одном порыве разразился бурей аплодисментов. А сопровождавший нас полицейский, предки которого, как он утверждал, переселились из Украины в Америку, даже по-настоящему прослезился.
Понимают американцы настоящее искусство, любят его! Вот почему и пользовались такой популярностью у них выступления балета Большого театра, танцевального ансамбля Игоря Моисеева и других коллективов, которые гастролировали в США.
В Нью-Йоркском национальном музее искусств рядом с полотнами, принадлежащими кисти мировых мастеров, я видал какие-то фиолетовые пейзажи и странные картины. Я по-своему отношусь к изобразительному искусству, в котором разбираюсь, как мне кажется, не очень здорово. И если картина мне нравится, я считаю, что она хороша. Тогда мне показалось, что и гиду эти сиреневые картины тоже малоприятны, хоть он и старался их защищать. Залы, где висят эти «произведения», пусты. Подойдя к одному из ядовито-сиреневых пейзажей, я спросил гида:
– Нравится?
– Неплохо, – ответил он.
На вопрос, знает ли он наших пейзажистов – Шишкина, Левитана, Айвазовского, он сказал, что знает и что ему нравятся их работы. Но добавил:
– А вот автору этих абстрактных картин так представился пейзаж, и он видит его по-своему...
Мы долго спорили с ним, и в конце концов он вынужден был, как мне показалось, согласиться, что если я, например, возьмусь написать его портрет, то, как бы я ни представлял его, я не смогу нарисовать вместо человеческого лица... лошадиную морду.
Пришлось мне встречаться и со студентами Америки. И я убедился, что у студентов всего мира много общего. Все они, конечно, люди молодые, все хотят дружить, учиться, работать, любят спорт, и у всех студентов по всей земле всегда не хватает одного дня на подготовку к экзаменам.
И... все дружно не хотят идти под ружье, в солдаты.
Пришлось разговаривать мне и с капиталистом. Он тоже не хочет войны. Оказывается, он вложил свой капитал в строительство международной выставки, которая будет в Нью-Йорке. Вложил с тем расчетом, что он в дальнейшем заработает на этом предприятии.
– А если война – плакали мои денежки, – сказал невесело он.
Во многих странах удалось мне побывать за время, прошедшее после полета в космос, со многими людьми довелось говорить и даже спорить. Одни искренне готовы бороться и отстаивать до конца мир. Таких тысячи. Другие просто боятся за собственную шкуру, но все хотят жить, растить детей, видеть над головой солнце, а не черные грибообразные взрывы.
Когда я ехал в Соединенные Штаты, то, признаюсь, очень побаивался... журналистов. Все-таки нас учат летать в космос, а не выступать на разных официальных и импровизированных пресс-конференциях. И вопросы были на первых встречах неожиданные. Например, спрашивали, как я отношусь к твисту. Жену спрашивали, сколько она привезла платьев в Америку. А некоторые «деятели пера» договорились до того, что допытывались у Тамары, какие продукты она купила в США, чтобы потом готовить из них обед в Москве...
Были и недоуменные вопросы: каким же все-таки образом удалось Советской России, в их представлении чуть ли не дикой стране, перегнать саму Америку? Перегнать в освоении космического пространства и в развитии науки, техники, в культуре и искусстве. Я не пытался наставлять таких невежд на путь истинный – времени не было; но не раз мне пришлось вспомнить письмо старых русских профессоров и академиков, которые были воспитаны еще при царском режиме и вместе с тем еще около тридцати лет назад обратились ко всем ученым мира, ко всем работникам науки и техники: «Многие из нас,– писали они, – разделяли кастовые предрассудки духовной аристократии, рассматривали пролетариат как грядущих гуннов, разрушителей культуры и цивилизации. История доказала обратное: капитализм уничтожает культуру – ее спасает и развивает пролетариат, класс героический, способный на огромные жертвы, класс творческий, созидающий, организующий».
Правда, не все в Соединенных Штатах заблуждаются на этот счет. Есть и реально мыслящие. Например, журналист из популярного в США красочного журнала «Лук» писал: «Первый советский спутник изумил Запад, он вдребезги разбил застарелый миф об этой огромной таинственной стране.
Невозможно больше представлять общественную систему, которая способна запустить в космос тяжелые корабли, как систему примитивного рабского труда, как плененное общество, которым управляют деспоты. Нет, такое может свершить лишь организованное, находящееся в движении общество... И разве можно отмахнуться от того факта, что их экономика растет вдвое быстрее, чем экономика Соединенных Штатов?»
Яснее не скажешь.
И, как правило, меня спрашивали одно и то же:
– Чем вас поразила Америка?
Мне пришлось откровенно сказать:
– Своей двуликостью.
И вправду первое впечатление – будто у Америки два лица. Одно поражает своей наивностью, неосведомленностью, порой даже невежеством: минимум сведений оно черпает во всякого рода рекламе. Другое лицо – далеко не наивно, и оно ловко использует такое несоответствие, такое уродство и делает и делает деньги. Настоящие американцы, мне кажется, понимают это, и это их смущает. Им порой становится неловко за «больших детей», я не раз слышал в США этот термин. Резал слух и другой: «средний американец». Неужели человек с юношеских лет до глубокой старости так и должен носить кличку «средний»! В США так и есть. Средний американец живет как в шорах специально подготовленных для него телепередач, газет, реклам, выводов на все случаи жизни, пережеванных и в рот положенных в красивой облатке с яркой этикеткой. Все это он «проглатывает» вперемешку с очередным сандвичем, жевательной резинкой, бутылкой пепси-кола, кинофильмом с десятками убийств.
Это общее впечатление, оно не относится, конечно, к людям, чей здравый смысл, душевная красота, гостеприимство, стремление к миру, познания и сердечность украшают Америку и американцев. Мне вспоминаются такие две встречи.
В Вашингтоне, когда Джон Гленн знакомил нас с достопримечательностями города, мы вышли из машины. Случилось так, что нас здесь ждали. Кто-то, видимо, предупредил, что приедут сюда космонавты. Стояла толпа. Раздались приветственные возгласы: «Добро пожаловать!» Выкрикивали наши имена: «Гленн! Титов!» Раздались аплодисменты.
Пройдя толпу, мы очутились на тротуаре. И лицом к лицу столкнулись с женщиной. Она, как заводная, подпрыгивала на одном месте, видимо, чтобы лучше, через головы других, увидеть то, что происходит в центре толпы, и кричала: «Титов! Титов!» Ее взгляд скользнул по нашим лицам, а мы с Гленном, осторожно обойдя ее, пошли по тротуару. Я обернулся. Люди расходились, а «средняя американка», это была безусловно она, будто в экстазе, еще продолжала подпрыгивать и кричать: «Титов! Титов!» Что ее так взволновало? Что она пыталась увидеть? Автомобильную катастрофу, прыгающего на мостовой дельфина или голого карлика? Это останется загадкой и для меня и для нее.
Другая встреча произошла у меня на западном побережье США, в городе Сиэттле, в одном из залов аэропорта. Зал был набит репортерами, полицейскими, пассажирами; когда же мы вышли из тоннеля, соединяющего самолет с вокзалом, через толпу и кордон полицейских навстречу нам пробивалась девушка. В ее руках я увидел букет сирени.
– Я вырастила ее в своем саду, в городе Такома. Боялась, что опоздаю к вашему прилету, – волнуясь, сказала нам Марлин Брайс – так отрекомендовалась она. – Теперь я счастлива. – И добавила по-русски, покраснев при этом от смущения: – Добро пожаловать...
Спасибо, Марлин Брайс. В памяти о поездке по Америке я сохраню и ваше имя и ваше «добро пожаловать».
Среди вопросов журналистов были и такие: почему мы, советские люди, тратим большие деньги на ракеты, вместо того чтобы улучшить жизнь народа. А один журналист с ехидцей спросил так:
– Разве русские предпочитают ракеты маслу?
– Русский народ, – ответил я, – любит белый хлеб есть с маслом. Но у нас кусок застревает в горле, когда мы видим, что американские самолеты, вооруженные ядерными бомбами, патрулируют в воздухе, когда вокруг нас строятся военные базы. И если мы сегодня иногда отказываем в чем-то себе, то делаем это потому, что очень хорошо знаем, что такое война, и делаем все, чтобы сохранить мир на всей планете.
...Перечитав написанное, я снова вспомнил утро 12 апреля 1961 года на космодроме Байконур, первое утро новой эры. Тогда казалось, будто сама вековая история человечества
стояла за нашими спинами и ждала, чем же мы отчитаемся за все сделанное Человеком, прошедшим тернистый путь от каменного ножа до полета человека к звездам. Мы выдержали это испытание. Какими путями пойдем мы дальше? Куда направим свои силы? Как используем свое, признанное во всем мире, могущество?
На эти вопросы я нахожу ответ в обращении Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР и нашего правительства ко всем народам мира. Там сказано, что нам, советским людям, строящим коммунизм, выпала честь первыми проникнуть в космос. Победу в освоении космоса мы считаем не только достижениями нашего народа, но и достижениями всего человечества, и мы с радостью ставим их на службу всем народам, во имя прогресса, счастья и блага всех людей на земле.
Делу мира и науки служили и будут служить полеты моих друзей в космос. Во имя мира был совершен и мой полет, во время которого я встретил и проводил семнадцать космических зорь.
Да, я видел нашу Землю оттуда, из дальних высот, видел ее всю. Она прекрасна, но она слишком мала, чтобы затевать на ней опасные ядерные авантюры. И мы должны беречь мир, беречь нашу Землю.


И'
'w*'



Родное село, где прошло босоногое детство, где пошел учиться в школу.


Вырос. И, закончив школу, выбрал свою дорогу. Дома с нетерпением ждали мать, отец и сестренка писем Германа.



Космонавт должен много знать.


Хорошие стихи в чесы отдыха.


Кто может лучше рассказать о космической станции.

Чайковский

*s 8^к%rf
t
■ jk
у aSlyfc– с '– А^ fagJg
РЩ// .Жй |' о •
РЗГяг >
хшШ
ii^teSF/, – т* "1 niMh 1т
В комплекс тренировок к космическому полету входит и акробатика...
И велосипед.

И ротор, который бешено крутится в трех плоскостях с космонавтом в кабине.


И камера тишины, где человек живет и работает много дней, где связь с миром прервана. Только врачи наблюдают за космонавтом через экраны телевизора.


Качающийся стол.
Рейнское колесо.


2. Все быстрее несется по кругу коромысло центрифуги. Огромная тяжесть давит на грудь и плечи.

3. Головокружительные полеты на лопинге.
4. В камере невесомости в салоне мчащегося реактивного бомбардировщика.
5. Медицинский контроль.
6. Акробатические сальто на подкидной сетке.
Вот далеко не полный перечень упражнений и тренировок космонавта.
В воскресные дни Герман отдыхал, гуляя по Москве; занимался домашними делами и вместе с Тамарой увлекался фотографией.




За день перед отпетом на космодром.


Последние шаги по земле.
Космонавт-2—Герман Титов перед полетом в космос.

К старту готов I

Пуск

Космический корабль «Восток-2» вышел на орбиту, близкую к расчетной
Полет проходит успешно.


Здравствуй, родная Земля!

Первым поздравил Германа Титова с победой его дублер Андриян Николаев.
Герман Титов докладывает Никите Сергеевичу об успешном завершении космического полета.
Хрущеву


Сто шагов славы.
Космические братья встретились.
Ликует столица, приветствуя героя.



«Как не гордиться и как не радоваться нашему народу, породившему таких героев...» – сказал Никита Сергеевич Хрущев.

«Ну как, отец, не посрамил твой сын земли русской?»
3 Д П ПИ /in cniJpvwMt /Л IHItfftM 111 ■п'и. Йек:‘|мли11«. 1-/ЛИ‘!Г ОКОГП ИМ'ЛЬЛЙ 1ФП0К?
м<лмк^и1К
[[;,’|И||||.М1Л

Вновь за учебу, теперь уже в стенах Военно-Воздушной академии.


Перед новым полетом в космос.
Последние тренировки в космическом корабле. Друг всегда рядом.


В театре...
В гостях у пионеров школы имени Зои Космодемьянской.


Тот, кто хочет вновь лететь к звездам, должен быть всегда здоров.