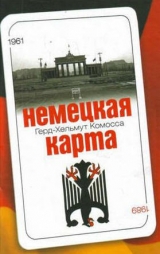
Текст книги "Немецкая карта"
Автор книги: Герд-Хельмут Комосса
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
Игра краплеными картами – предложение стать атташе в Москве
Настало время вернуться летописцу к собственно цели этих воспоминаний о последних десятилетиях и о плотно вписанных в них событиях, которые имели определенное значение, но до сих пор остаются неизвестными заинтересованному читателю.
В один прекрасный день у командира 12–й танковой бригады бундесвера в Амберге, в казарме императора Вильгельма, неожиданно появился генеральный инспектор бундесвера адмирал Армии Циммерман. Чего–то чрезвычайного в этом не было. Генеральный инспектор частенько наведывался в части, чтобы составить себе личное о них впечатление. Но это посещение имело и особую цель. На полигоне адмирал отвел меня в сторону и спросил: «А не хотели ли бы вы стать атташе в Москве?» Вообще–то я к этому вопросу был подготовлен приятелем из Управления кадров и поэтому отвечал без размышлений. «Нет, благодарю вас. Москвы я не пожелал бы ни себе, ни моей семье. Жизнь под постоянным присмотром, контролем, в стране, где мне пришлось столько пережить? Нет, благодарю».
Мне показалось, что адмирал даже испытал некое облегчение, причины которого тогда мне были непонятны. Возможно, принимая во внимание мою службу в войсках, он присматривался ко мне для выдвижения на командную должность. Но тогда он ничего больше не добавил. Еще до этого в Бонне уже подумывали о назначении меня военным атташе в Вашингтон, но и тогда это не состоялось из–за моего желания служить в войсках.
В министерстве обороны, естественно, испытывали трудности с замещением поста в Москве. Кроме меня, кажется, не было офицера в генеральском звании, который учил бы русский еще в школе, а потом и четыре года на нем разговаривал. В конце концов выбор пал на командира 10–й воздушнодесантной бригады в Вайдене. Когда на учебном полигоне в Графенвёре я поздравил его с этим интересным назначением, он не выглядел особенно счастливым. Желая несколько приободрить его, я заговорил по–русски, но он только отмахнулся. «Нет, я не говорю по–русски, – ответил полковник В., – и не собираюсь его учить. В атташате всегда можно обойтись английским». Но только не в Советском Союзе, подумал я и сказал ему это. Потому что твердо помнил: в России знание языка играет очень существенную роль. Когда меня в свое время представляли главному инженеру целлюлозно–бумажного комбината, это выразилось в его возгласе: «Да он говорит по–русски! Это наш человек». Был в этом какой–то очень непосредственный отзвук русской души: он наш, он говорит на нашем языке.
Надо сказать, что полковник В. чувствовал себя в Москве не слишком комфортно, хотя это и была очень заманчивая должность для офицера бундесвера. К сожалению, он рано умер. Я действительно не претендовал на этот пост, что, возможно, было ошибкой.
Генерал Книрков: противник и друг одновременно?
Стоп–кадр из прошлого. Конец 70–х гг. Скучноватый рутинный прием в Бонне. Свыше двух часов на ногах, непрерывное перемещение по залу с бокалом шампанского в руке. (Участвует только очень узкий круг в небольшом помещении.) Разговоры. Официальные приемы по незначительным поводам не имеют ничего общего с рейнским менталитетом.
Шеф службы безопасности бундесвера наблюдал за советским военным атташе генералом Книрковым, который явно старался привлечь к себе его внимание. Как бы случайно он все время оказывался недалеко от шефа, но, казалось, тот не замечал русского. Не стоит, полагал он, затевать беседу здесь. Разумеется, ему было известно, что советский генерал всего два дня как вернулся после доклада из Москвы. Знал он (не будем строить догадки, как и от кого), что русский генерал Книрков получил указание вступить в разговор с новым шефом. Похоже, однако, что сегодня вечером генералу это не удастся. Шеф считал, что ему не следует здесь, на глазах у всех, вступать в разговор с русским генералом. Поэтому он избегал даже случайного обмена взглядами с русским и находил все новых собеседников. Но русский знал свое дело – недаром он столько лет прослужил в ГРУ. Внезапно он оказался перед супругой шефа службы безопасности и попытался завязать с ней разговор. Он представился: «Сударыня, разрешите представиться. Генерал Книрков, советский военный атташе». И спросил: «И как вам нравится здесь, в Бонне?» Шефу ситуация показалась абсурдной. Он обернулся к генералу и спросил того по–русски: «А вам, генерал, как нравится в Бонне?»
Русский выглядел удивленным. Вряд ли до этого ему приходилось встречать немецкого генерала, владеющего русским, что он и сказал. Как где–то выше уже отмечалось, в бундесвере не придавали значения владению русским языком на генеральском уровне, полагая, что вряд ли он сможет пригодиться.
Отношения Германии и России в ближайшие годы будут становиться все более значимыми. Германия, которая как раз к началу нового столетия сформулировала свою стратегию, будет вынуждена уже в самом скором времени ее менять. Это вытекает из современной ситуации в регионах активных действий НАТО. Мы включены в систему договоров и не можем просто игнорировать требования, вытекающие из этих договоров и относящиеся к Германии. Как, например, в ноябре 2006 г. в связи с Афганистаном. Какое–то время мы можем пренебрегать требованиями США и других партнеров по НАТО Но долго так продолжаться не может. «Немцев на фронт!» – этот клич будет все громче звучать в наших ушах. НАТО ждет немецкие войска на юге Афганистана. Наша подпись под договором дает ей на это право. Военное планирование в рамках союза входит в компетенцию НАТО, сколько бы мы тут ни пытались отвертеться. Потому что альтернатива только одна – союз начнет крошиться, что совсем не в наших интересах.
«Солидарность» – прекрасное слово. Но уж слишком часто его используют в определенных целях. Всего лишь вопрос времени, и немецким солдатам, рядом с американскими и британскими, придется закапываться в землю под огнем противника.
Насколько я понимаю, немецкая внешняя и оборонная политика весьма скоро начнет все сильнее влиять на политику внутреннюю.
В области экономической Россия уже развертывает свои порядки на подходе к Германии. Русских все сильнее влечет в Германию, гораздо более привлекательную, чем Польша. Кто задумывается над тем, что в Германии уже свыше трех миллионов переселенцев с российских просторов? У кого болит голова при виде самого настоящего вторжения русского капитала в Германию? Он скупает виллы в Баден—Бадене, а футбольный клуб «Шальке 04» не нарадуется появлению русского спонсора. Сырьевой экспорт при нынешнем уровне цен позволяет русским оказывать влияние на нашу экономику. Особенно значимо их присутствие в энергетических концернах и в металлургии. Русские нередко осуществляют крупные сделки через третьи фирмы. В этом им очень хорошо помогает бывший германский канцлер. И не важно, в какой области бывший федеральный канцлер дает свои советы, в любом случае он усиливает российское влияние' в Европе. Наблюдатель этой игры не может не восхищаться российской стратегией в этом сражении без оружия. Примеров успеха этой стратегии сколько угодно.
В последнее время Россия пытается протиснуться и в крупный европейский концерн по производству вооружений EADS. Если это удастся, русских можно будет поздравить с удачным «гешефтом». Разве в Западной Европе позабыли, что EADS не просто крупный концерн вооружений, но и особенно масштабно сотрудничает в том, что военные стратеги в свое время окрестили стратегической оборонной инициативой (СОИ), т. е. в развертывании космического оборонительного щита? Ведь это настоящий прорыв в совершенно новые, глобальные масштабы оборонительной политики. И нет второй такой фирмы, кроме EADS, которая столь интенсивно работала бы над программой «звездных войн».
Президент США и Генеральный секретарь Михаил Горбачев подписали 21 ноября 1985 г. на саммите в Женеве, 22 года тому назад, заявление, в котором оба государственных деятеля провозгласили своей целью «…воспрепятствовать гонке вооружений в космосе и положить ей конец на Земле, а также ограничить потенциал ядерных вооружений и их количество».
Для России не может быть сегодня на Западе более привлекательного проекта!
Германия и Россия – вот тема, которая должная нас занимать гораздо больше сейчас, чем в недавнем прошлом. Проблема эта затрагивает не только немцев, но и всю Европу, и довольно непосредственно.
Сотрудничество под скрещенными знаменами
Взаимодействие с французскими вооруженными силами было совершенно лишено каких–либо трений. Генералы обеих армий относились друг к другу с обоюдным уважением, Можно утверждать, что сотрудничество во всех областях было особенно доверительным. Отношения с французами (в отличие от отношений с американцами, канадцами и британцами) хотя и совершенно незначительно, но все же затруднялись обоюдной слабостью знания языка. Лишь ничтожно малый процент выпускников Военной командной академии в Гамбурге выбирал в качестве изучаемого языка французский. Большинство делало выбор в пользу английского. Но желание сотрудничества с французами было очень сильным.
Еще будучи командиром 12–й танковой дивизии, я приложил немало усилий для углубления сотрудничества и заложил основы официального партнерства с 5–й танковой дивизией. Сотрудничество было закреплено после совместных полевых учений построением обеих частей и речами командиров. Когда я вышел вперед, по колонне пробежал гул: порыв ветра всколыхнул и переплел наши национальные флаги. Это было всеми воспринято как своего рода символ. Это парадное построение после совместных учений было и впрямь символом нашей сплоченности. Мы присягали братству по оружию и скрепляли его.
В дальнейшем прошло много встреч, прежде всего на батальонном уровне. Обмен идеями между командующим территориальной группой войск «Юг» и верховным командующим французскими вооруженными силами в Германии, одновременно командовавшим и их 1–й армией, не превратился во что–то повседневное и рутинное, но с обеих сторон стал гораздо более интенсивным.
В связи с визитом в Бонн начальника французского генштаба и его встречей с генеральным инспектором бундесвера генералом де Мезьером я вписал в памятку последнего для беседы требование «привилегированных отношений» между вооруженными силами обеих стран. И меня очень порадовало, что канцлер Хельмут Коль впоследствии перенял эту формулу и возвысил ее до постулата.
Примеру, поданному тогда в Гейдельберге частями территориальной группы «Юг», последовали нижестоящие командиры. Всегда особенно сердечно проходили встречи в Страсбурге, в 1–й французской армии. Тем не менее существовал один пункт, на котором дальнейший разговор всегда пресекался. Это было неоднократно высказанное мной пожелание согласовать с моим французским партнером вопросы применения ядерного оружия в моем секторе ответственности. Я находил просто невыносимым, что внутри союза НАТО определенный элемент боевых действий не мог стать предметом обсуждения двумя военачальниками высокого ранга. Всякий раз моя попытка заговорить при встрече на эту тему пресекалась замечанием с французской стороны: «Это вопрос политический. И обсуждать его надлежит не солдатам, а в Париже и Бонне». О французскую стойкость расшибались остатки моего восточнопрусского упрямства. Конечно, у меня было общее представление о потенциале французского ядерного оружия. Знал я и самое для меня важное: радиус полета ракет средней дальности покрывал южный регион Федеративной Республики, а именно он и был сектором моей ответственности.
Когда в Страсбурге я прощался по случаю моего убытия на новую должность и после особо торжественной (во французском духе) церемонии мы с французским генералом де Л. уединились за чашечкой кофе от наших делегаций, я с легкой улыбкой заметил, что так и не утратил интереса к французским ядерным планам. И генерал не может этого не понимать.
Он понял. Последовавший за этим разговор над картой Центральной и Южной Европы я не могу расценить иначе, как знак огромного доверия. Теперь я был в курсе. Но и по сей день на моих глазах и моих губах печать. Впрочем, в Бонне интерес к национальному французскому ядерному планированию был не столь велик, как могло бы быть полезным.
Мои проводы в Страсбурге прошли с церемониальной пышностью, как если бы я был немецким верховным главнокомандующим в ранге «четырехзвездного» генерала. Французы все никак не могли взять в толк, насколько скромно звание соответствующего им по должности немецкого военачальника. Они и представить себе не могли, чтобы партнером по переговорам с их «пятизвездным» генералом мог быть генерал «двухзвездный». Они этого просто не понимали. И выправить этот недостаток высшие военачальники старались этикетом, обращаясь с немецкими сотоварищами, как если бы они были равны по званию.
Первые шаги к примирению – новое начало и новые аспекты
Два года на русском фронте, хотя и с двумя краткими перерывами для продолжения военного образования, оставили по себе глубокую память. Плюс четыре года плена – настоящая школа войны для солдата, едва достигшего 20–летнего возраста. Прежде всего необходимо было избавиться от искаженного образа русского человека, навязанного солдату вермахта. Это же относилось в равной мере и к образу немца, каким его рисовало русским людям их начальство. Впечатления молодого солдата 20–25 лет глубоко врезались в его сознание и уже не отпускали на протяжении всей жизни. Вот и сейчас, через десятилетия, во мне оживают встречи с такими русскими, как Книрков, Болонин, инженер Радченко и Павлюченко.
Эти русские всплывают из глубин памяти и не хотят меня оставить. Уж очень глубоко врезалось в сознание все пережитое на фронте и в плену. Его следы остались и в подсознании.
Разговор с генералом Книрковым вдруг как–то сразу стал политическим. Сначала он очень темпераментно посетовал, что федеральный канцлер все еще не ответил на недавнее письмо Председателя Президиума Верховного Совета, хотя оно уже недели три как лежит на его столе. Это просто неслыханно и совершенно не соответствует дипломатическим стандартам. Может ли он сообщить в Москву, что ответ последует скоро? Мой собеседник меня заинтересовал и не только в служебном плане.
Довольно быстро я заметил, что военные атташе США, Англии и Франции отнюдь не случайно начали ходить вокруг нас. Я услышал, как американец шепнул англичанину: «Они говорят по–русски, ничего не понятно. А вы что–то улавливаете?» И в самом деле, беседа с генералом Книрко– вым уже растянулась более чем на сорок минут, и это бросалось в глаза.
Вдруг Книрков совершенно неожиданно задает мне вопрос: «А ведь то письмо в 1953 г. вы не просто так сами написали, верно?» «Какое письмо?» – вопросом на вопрос ответил я, напряженно соображая, что генералу вообще может быть известно о том письме. Я действительно написал после смерти Сталина письмо на русском языке на имя тогдашнего Председателя Президиума Верховного Совета Булганина. В июле 1953 г., пока еще не распалась «тройка» Булганин – Хрущев – Маленков, я в подробном письме предлагал открыть новую после опустошительной войны главу в германосоветских отношениях. Настало время, рассуждал я, установить дипломатические отношения между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германией, а Советскому Союзу пора отпустить на родину немецких военнопленных. Возможно даже установление дружеских отношений. Как известно, некоторое время спустя из Москвы поступило приглашение канцлеру Конраду Аденауэру посетить столицу СССР для переговоров о восстановлении дипломатических отношений.
Не получив тогда из Москвы никакого ответа, я предполагал, что письмо было перехвачено БНД или Ведомством по охране конституции. И сейчас, разговаривая с генералом Книрковым, я едва мог поверить, что письмо дошло до Кремля и Булганина и сыграло некую политическую роль. Но получалось, что это так и произошло.
В том 1953 году это было не единственное письмо, отправленное мною в Советский Союз. Я уже упоминал, что во время пребывания в 1945–1949 гг. в лагере для военнопленных в городе Тильзит между мною и начальником по производству тамошнего целлюлозно–бумажного комбината старшим лейтенантом Болониным и инженером Радченко установились почти дружеские отношения. Для того времени это было достаточно необычно. Предпосылкой для этого послужили мое знание русского и присущая обоим совершенно необычная для русских официальных лиц открытость в общении с военнопленным. Мы с Радченко нередко полеживали на полянке за фабричными корпусами, курили и вместе размышляли над тем, какими станут немецко–русские отношения, когда затянутся раны войны. Оба мы верили в прочное примирение обоих народов. Скоро к нашему мнению присоединился и старший лейтенант Болонин. Вот сблизились же немецкий офицер и русские. Как только позволяли обстоятельства, мы пускались в очень серьезные разговоры.
Скоро Болонин стал приглашать меня домой на чашку чая. Однажды он обратился ко мне с просьбой давать его 17–летней дочери уроки игры на фортепиано. К сожалению, из–за убогости моих навыков я не мог заняться ее музыкальным образованием. Все мое искусство исчерпывалось бойким наигрыванием двумя пальцами простеньких вещиц вроде «Полевой розочки» или «Песни немцев». Когда я вынужден был признаться юной даме в слабости моей квалификации, она совсем близко подошла ко мне и начала колотить меня своими нежными кулачками в грудь, все сильнее и сильнее, Болонин, поглядывая на это, только похохатывал, а затем вышел из комнаты. Тут Тамара, нежная девушка с черными волосами и темными огненными глазами, уже всерьез разъярилась. Я пробовал отстранить ее руки, очень осторожно, бережно, не причиняя боли. Ее грудь тесно прижалась к моей, я чувствовал ее. Она нежно терлась об меня. Что было делать? Попробовать успокоить ее, как успокаивают молодую лошадь? Левой я пытался схватить ее руки, а правой гладил по волосам. Может быть, мне не стоило этого делать. Я чувствовал совсем близко ее горячее дыхание, биение ее сердца. «Боже мой!» – стучало у меня в висках.
Сегодня я спрашиваю сам себя, позволительно ли описывать такой эпизод, такое мгновение, такое интимное сближение двух людей, делать его достоянием других? Можно ли, как делаю я сейчас, посвящать в это читателя? Не лучше ли промолчать о переживаниях или даже чувствах двух молодых людей? Молоденькой женщины, еще почти ребенка, 17 или, возможно, всего лишь 16 лет от роду, и немецкого военнопленного. Летописец, полагаю я, имеет право и даже должен излагать все правдиво при соблюдении той границы, за которой ущемляется человеческое достоинство. Мне думается, что мой долг поведать эту историю. Разве она не обогащает привычную картину жизни пленных в чужой и враждебной среде, как бы начисто лишенной чувств? А если прочувствовать эту ситуацию с позиции девушки? Молодая русская, которую все убеждало, что всех немцев, фашистов можно только ненавидеть? Война разрушает все. Но даже она не в состоянии убить в человеке самые естественные глубокие чувства.
Жизнь неожиданно сводит молодого военнопленного и девушку из неприятельского стана, их чувства внезапно, без включения какой–либо, выражаясь по–современному, системы раннего предупреждения, бурно взрываются. Сейчас только не поддаться безумию, думаю я. Не потерять голову. Наконец выдавливаю из себя: «Нет, Тамара, так нельзя. Мы не должны это допустить. Поймите, пожалуйста!»
Она резко вырвалась, изо всех сил оттолкнула меня. Я заглянул ей в глаза, и мне стало страшно: не полыхала ли в них снова ненависть? Та ненависть, которая шла рядом с нами, солдатами, до самой Волги? Бушевало ли в ней оскорбление? Обида юного существа, чьи чувства не приняты всерьез? Все случившееся было невероятным, ни с чем не сравнимым. Я думал только, что, как бы я ни поступил, в любом случае все будет ошибкой. Я только слышал, как она крикнула мне и раз, и два, и три: «Дурак! Дурак!»
По пути в лагерь, проходя домик охраны, я почувствовал кровь на верхней губе. Мне вспомнилась моя школа в Нидерзее до войны, учитель, которого мы наградили не очень приличным прозвищем. Он явно невзлюбил меня; чаще, чем другим, давал подзатыльники. Как–то раз он заставил меня боксировать с сыном рабочего–лесника, здоровым парнем, возвышавшимся надо мной на целую голову. Он тогда здорово избил меня, после чего на губе у меня остался рубец. Дорога домой вела через речку, наверное, это был просто ручеек, в котором мы, мальчишки, нередко устраивали рыбную ловлю с самодельными гарпунами, длинными палками с приделанными к ним обычными столовыми вилками. Вот и в тот день мы разожгли небольшой костер и жарили на нем рыбешек. В зеркале лениво текущего ручейка я разглядывал свою физиономию и смывал с губ кровь.
Слава Богу, далее ничего не последовало. Мне пришлось найти для Тамары в нашем лагере учителя музыки. С задачей успешно справился один наш приятель Г. из Эшвайлера.
В тех обстоятельствах беседы втроем с Болониным и Радченко носили характер почти что заговора. Чистосердечно глядя мне в глаза, они уверяли меня, что оба коммунисты. Но это как–то не очень убеждало меня. Шли месяцы, Радченко регулярно снабжал меня сатирическим журналом «Огонек», изданием в своем роде единственным. Если инженер меня не заставал, он оставлял журнал дежурному офицеру с просьбой передать его мне как можно скорее. Некоторые статьи мы потом долго обсуждали. У них было некое единое видение мировой ситуации. Вторая мировая война была давно закончена, уже три года тому назад. Американцы – в этом у них не было ни тени сомнения – рвутся к мировому господству. Но у них, русских, свои представления на этот счет. «Война – капут!», она осталась позади. Через три – пять лет у Германии будет свое правительство, а ее значение в мире будет из года в год возрастать.
Они в несколько завуалированной форме передавали через меня своего рода послание на родину: тесное сотрудничество Советского Союза и Германии пойдет на пользу обоим народам. Они часто говорили: «Приходите снова друзьями». Это же, впрочем, нередко повторяли простые русские в разговорах с военнопленными. Ненависть военных лет растворялась в надеждах на совместное будущее. Вновь и вновь слышалось: Россия и Германия в союзе – это изменит мир, будет на пользу всему миру.
[Временами у меня складывалось впечатление, что они даже доверяли мне своих дочерей и даже позволили бы увезти их в Германию, все равно кого, настолько пришелся им по нраву я, пленный офицер, который так хорошо владел их языком и был почти одним из них. Но может быть, в тогдашнем моем положении это было лишь ошибочное, совершенно неправильное представление? Может быть, надежда на то, что все когда–то хорошо закончится, в том числе и этот плен?
Когда в начале марта 1949 г. солнце побаловало север Восточной Пруссии первым теплом, а мы снова пили чай втроем у Болонина, оба всерьез взялись за меня. «Ты скоро снова будешь в Германии, – сказал Болонин. – Тебе надо выполнить поручение. Ты не дурак. Если у вас снова будет правительство, тебе надо будет рассказать о впечатлениях, которые ты у нас получил, о своем личном опыте. Тебе надо это сделать, рассказать правду – это в интересах твоей страны. А мы хотим мира с вами, сотрудничества, дружбы, понимаешь ты, как у нас здесь! Дружбы. Ты должен попытаться связаться с теми, кто у власти, и сказать им, что необходимо в интересах наших стран». «Но, – возразил я, – я ведь не коммунист». «Ну что ты за чушь несешь? – сказал Болонин. – Ты должен приехать к себе на родину демократом. Не надо тебе становиться коммунистом, дубина ты этакая!» «Черт возьми!»
Разговаривая с советским генералом в Бонне, я думал и об этих встречах со своими русскими друзьями Болониным и Радченко в Тильзите. А вернувшись потом домой, я пытался добиться примирения с Россией. Я искал пути к нормализации отношений с Россией.
Так я в 1953 г. связался с Болониным и Радченко и написал обоим письма по–русски. Хотя я и боялся, что мои письма не дойдут без проблем до Москвы и Новосибирска, но теплилась все же и какая–то надежда, что кто–нибудь смог бы счесть интересными мысли бывшего военнопленного немецкого офицера и передать послания в Кремль. Ведь Сталин умер. Но ни из Москвы, ни из Новосибирска ответа поначалу не последовало.
Вернемся, однако, ненадолго к генералу Книркову, атташе, становившемуся все дружелюбнее. Он вел себя даже вполне по–товарищески, ведь мы оба, по его словам, были солдатами, и приглашал меня к себе домой – закусить и выпить чаю. Его жена, говорил он, превосходно готовит, и у меня будет случай в этом убедиться. «Приходите, пожалуйста!» Да и верно, надо было обязательно прийти. Признаюсь, что искушение принять это приглашение было велико. Мне были бы очень интересны дальнейшие беседы. Но имел ли я право следовать профессиональному любопытству? Не будет ли это уже чем–то сродни измене родине? Нет, я понимал, что конспирация – один из важнейших методов разведывательной работы. А если с ее помощью можно достичь пользы для своей страны, следовало идти особыми и необычными путями. Долго думал я над тем, что же следовало делать в столь нестандартной ситуации.]








