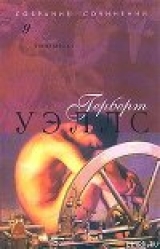
Текст книги "Тоно Бенге"
Автор книги: Герберт Джордж Уэллс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
Последнее, что запомнилось мне из нашего продолжительного диспута, – это высказанное кузеном сожаление, что ему «приходится спать в одной постели с язычником».
На следующий день, к моему немалому удивлению, он донес о случившемся отцу, что совсем не вязалось с моими представлениями о порядочности. За обедом дядя Никодим обрушился на меня.
– Ты болтаешь всякую чепуху, Джордж, – буркнул он. – Надо думать, прежде чем говорить.
– Что он такое сказал, отец? – полюбопытствовала миссис Фрепп.
– Я не могу повторить его слова.
– Какие это слова? – запальчиво крикнул я.
– Спроси вот у него, – ответил дядя и указал ножом на доносчика, дабы я припомнил и глубже осознал свое преступление. Тетка посмотрела на свидетеля.
– Так он не…? – Она не договорила.
– Хуже! Он богохульник, – ответил дядя.
После этого тетка уже не могла прикоснуться к еде. В глубине души я начал уже немного сожалеть о своей дерзости, сознавая, что вступил на гибельный путь, но все же продолжал стоять на своем:
– Я рассуждал вполне разумно.
Вскоре мне пришлось пережить еще более неприятные минуты, когда я встретил двоюродного брата в узеньком, мощенном кирпичом переулке, который вел к бакалейной лавке.
– Ябеда! – крикнул я и изо всех сил ударил его по щеке. – А ну-ка…
Он отскочил назад, удивленный и испуганный. В этот момент его глаза встретились с моими, и я уловил в них блеск внезапной решимости. Он подставил мне другую щеку и сказал:
– Бей! Бей! Я прощу тебя!
Никогда еще я не встречал более подлого способа увильнуть от заслуженной взбучки. Я отшвырнул его к стене и, предоставив ему прощать меня сколько угодно, направился домой.
– Лучше тебе не разговаривать с двоюродными братьями, Джордж, – заметила тетка, – пока ты не возьмешься за ум.
Так я стал отщепенцем.
В тот же вечер за ужином кузен нарушил воцарившееся между нами ледяное молчание.
– Он ударил меня, – заявил он матери, – за то, что я в прошлый раз все рассказал отцу. А я подставил ему другую щеку.
– Дьявол попутал его, – торжественно провозгласила тетка, не на шутку перепугав старшую дочь, сидевшую рядом со мной.
После ужина дядя сбивчиво и нескладно начал уговаривать меня покаяться, прежде чем я лягу спать.
– А что, если ты умрешь во время сна, Джордж? – устрашал он меня. – Куда ты тогда попадешь, а? Подумай-ка об этом, мой мальчик.
Я был уже достаточно напуган, чувствовал себя глубоко несчастным, и слова дяди совсем обескуражили меня, но я по-прежнему держался вызывающе.
– Ты проснешься в аду, – вкрадчиво продолжал дядя Никодим. – Разве ты хотел бы, Джордж, проснуться в аду, гореть в вечном огне и стонать? Разве тебе это будет по вкусу, а?
Он уговаривал меня «только взглянуть на огонь в печи у него в пекарне», перед тем как ложиться спать.
– Это, пожалуй, тебя образумит, – добавил он.
В ту ночь я долго не мог уснуть. Братья спали сном праведников справа и слева от меня. Я начал было шептать молитву, но тут же умолк: мне стало стыдно и пришло в голову, что бога все равно этим не задобришь.
– Нет, – твердо сказал я себе. – Будь ты проклят, если ты трус!.. Но ты не трус. Нет! Ты не можешь быть трусом!
Я бесцеремонно растолкал братьев, торжественно заявил им об этом и, успокоив свою совесть, мирно уснул.
Я безмятежно спал не только эту, но и все последующие ночи. Страх перед наказанием свыше ничуть не мешал мне спать на славу, и я убежден, что не помешает до конца дней моих. Это открытие составило целую эпоху в моей духовной жизни.
Я никак не ожидал, что все завсегдатаи воскресных богослужений ополчатся против меня. Но так именно и случилось. Я очень хорошо помню, как все это происходило, вижу десятки глаз, направленных на меня, слышу кислый запах кожи, чувствую, как о мою руку трется шершавый рукав черного платья тетки, сидевшей рядом. Вижу старого торговца молоком из Уэльса, который «боролся» со мной, – все они боролись со мной, прибегая к молитвам и увещеваниям. Но я упорно сопротивлялся, хотя был подавлен их единодушным приговором, сознавая, что своим упорством обрекаю себя на вечное проклятие. Я чувствовал, что они правы, что бог, вероятно, на их стороне, но убеждал себя, что это мне безразлично. Чтобы скорее от них отвязаться, я заявил, что вообще ни во что не верю. Они пытались рассеять мое заблуждение цитатами из священного писания, что теперь мне кажется совершенно недопустимым полемическим приемом.
Я вернулся домой все тем же нераскаявшимся грешником, но в душе чувствовал себя одиноким, несчастным и навеки погибшим. Дядя Никодим лишил меня воскресного пудинга.
Только одно существо заговорило со мной по-человечески в этот день гнева – младший Фрепп. Он поднялся после обеда наверх в комнату, где меня заперли наедине с библией и моими мыслями.
– Послушай, – неуверенно начал он. – Ты хочешь сказать, что нет… никого… – Он замялся, не решаясь выговорить роковое слово.
– То есть как это нет никого?
– Ну, никого, кто бы всегда следил за тобой?
– А почему должен кто-то быть? – спросил я.
– Но ведь ты не можешь так думать, – продолжал брат. – Ведь не станешь ты говорить, что… – Он снова осекся. – Пожалуй, мне лучше не разговаривать с тобой.
С минуту он стоял в нерешительности, потом повернулся и зашагал прочь, озираясь с явно виноватым видом.
С этого дня жизнь стала для меня совершенно невыносимой; эти люди навязали мне такой атеизм, который ужасал даже меня самого. И когда я узнал, что в следующее воскресенье «борьба» возобновится, мужество покинуло меня.
В субботу я случайно увидел в окне писчебумажного магазина карту Кента, и она подсказала мне мысль о бегстве. Добрых полчаса я стоял перед ней, добросовестно ее изучая, хорошенько запомнил все деревни на пути, который мне предстояло проделать. В воскресенье я встал около пяти часов утра, когда мои товарищи по кровати еще спали сном праведников, и пешком пустился в Блейдсовер.
Смутно припоминаю это долгое, утомительное путешествие. От Чатама до Блейдсовера ровно семнадцать миль, и я добрался туда только к часу дня. В пути я встретил немало увлекательного и даже не слишком устал, хотя один башмак невыносимо жал мне ногу.
Утро в тот день было, по всей вероятности, ясное, так как помню, что где-то возле Ичинстоу-Холла я оглянулся и увидел устье Темзы – реки, сыгравшей впоследствии огромную роль в моей жизни. Но тогда я не знал, что это широкое водное пространство грязно-бурого цвета и есть Темза, и принял ее за море, которого никогда еще не видел. По воде сновали разного рода суда, парусники и даже пароходы; одни поднимались вверх по течению, направляясь к Лондону, другие спускались вниз, к морским просторам. Я долго следил за ними взглядом и думал: уж не отправиться ли мне вслед за ними к морю?
Приближаясь к Блейдсоверу, я начал сомневаться, хорошо ли меня там примут, и уже раскаивался, что вздумал вернуться сюда. Быть может, неказистый вид судов, которые мне удалось как следует разглядеть, положил конец моим мечтам о море.
Я выбрал кратчайший путь – через Уоррен – и решил пересечь парк, чтобы избежать встречи с возвращающимися из церкви прихожанами. Мне не хотелось попадаться им на глаза, пока я не повидаюсь с матерью, и в том месте, где тропинка вьется между холмов, я свернул с дорожки и не то чтобы спрятался, а просто встал за кустами. Здесь, помимо всего прочего, я не рисковал наткнуться на леди Дрю, которая обычно ездила по проезжей дороге.
Странное чувство испытывал я, стоя в своей засаде. Я воображал себя дерзким разбойником, отчаянным бандитом, замыслившим налет на эти мирные места. Впервые я так остро почувствовал себя отщепенцем, и в дальнейшем это чувство сыграло большую роль в моей жизни. Я осознал, что для меня нет и не будет места в этом мире, если я сам не завоюю его.
Вскоре на холме появились слуги, которые шли небольшими группами: впереди – садовники и жена дворецкого, за ними две смешные неразлучные старухи-прачки, потом первый ливрейный лакей, что-то объяснявший маленькой дочке дворецкого, и, наконец, моя мать в черном платье; с суровым видом шагала она рядом со старой Энн и мисс Файзон.
С мальчишеским легкомыслием я решил превратить все в шутку. Выскочив из кустов, я крикнул:
– Ку-ку, мама! Ку-ку!
Мать глянула на меня, смертельно побледнела и схватилась рукой за сердце.
Нужно ли говорить, какой переполох вызвало мое появление. Разумеется, я не стал им докладывать, что заставило меня возвратиться в Блейдсовер, но держался стойко и упрямо твердил:
– Ни за что не вернусь в Чатам… Скорее утоплюсь, чем вернусь в Чатам…
На следующий день разгневанная мать повезла меня в Уимблхерст, сердито заявив, что отдаст меня дяде, о котором я никогда не слыхал, хотя он жил неподалеку. Она не сказала мне, что меня ожидает, и на меня так подействовало ее негодование и тот факт, что я причинил ей крупную неприятность, что я не стал ее расспрашивать. Я знал, что мне не приходится рассчитывать на милость леди Дрю. Мое окончательное изгнание было решено и подписано. Я уже начал сожалеть, что не бежал к морю, разочарованный видом облака угольной пыли и безобразных судов, на которые глядел в Рочестере. Море открыло бы передо мной широкую дорогу в мир.
Наша поездка в Уимблхерст не слишком хорошо запечатлелась в моей памяти. Я помню только, что мать сидела рядом со мной в напряженной и надменной позе; казалось, она презирала вагон третьего класса, в котором мы ехали. Помню также, как она отворачивалась от меня к окну всякий раз, когда начинала разговор о дяде.
– Я помню твоего дядю мальчиком, с тех пор мне не приходилось его видеть, – сказала она. – Про него говорили, что он очень смышленый, – прибавила она явно неодобрительным тоном.
Моя мать не слишком-то ценила в человеке ум.
– Года три назад он женился и обосновался а Уимблхерсте. Думаю, у его жены водились кое-какие деньжонки.
Она замолчала, перебирая в памяти давно забытые эпизоды.
– Медвежонок… – сказала она наконец, что-то вспомнив. – Когда он был твоих лет, его называли Медвежонком… Сейчас ему должно быть лет двадцать шесть – двадцать семь.
С первого же взгляда на дядю я вспомнил о Медвежонке. Мать оказалась права: внешностью и повадками он действительно чем-то напоминал медвежонка. Трудно было найти для него более меткое прозвище. Он был довольно ловок, но не отличался изяществом манер и обладал живым, но неглубоким умом.
Из лавки стремительно вышел на тротуар низкорослый человечек в сером костюме и комнатных туфлях из серого сукна. Его молодое, слегка одутловатое лицо украшали очки в золотой оправе. Я успел заметить также жесткие, взъерошенные волосы, неправильный, крючковатый нос, в иные моменты казавшийся орлиным, и уже намечавшееся брюшко, круглое, как бочонок.
Он буквально выскочил из лавки и остановился на тротуаре, с нескрываемым Восторгом созерцая что-то на витрине; потом с довольным видом почесал подбородок и вдруг юркнул бочком в дверь, словно его втянула туда чья-то рука.
– Это, вероятно, он, – сказала мать прерывающимся от волнения голосом.
Мы прошли мимо витрины, причем я и не подозревал, что вскоре мне придется до тонкостей ознакомиться со всеми выставленными там предметами. Это была обыкновенная витрина аптеки, если не считать фрикционной электрической машины, воздушного насоса, двух-трех треног и реторт. Все это заменяло привычные синие, желтые и красные бутыли, красовавшиеся в витринах других аптек. Среди этой лабораторной утвари стояла гипсовая статуэтка лошади – в знак того, что имеются лекарства для животных, а у ее ног были разложены пакеты с душистыми травами, стояли пульверизаторы, сифоны с содовой водой и другие предметы. В центре витрины висело объявление, тщательно написанное от руки красными буквами:
Покупайте заблаговременно пилюли Пондерво от кашля.
Купите сегодня же! Почему?
На два пенса дешевле, чем зимой.
Вы запасаетесь яблоками. Почему же вам не купить лекарство, которое непременно понадобится?
Впоследствии я убедился, что это объявление, его тон как нельзя лучше характеризовали моего изобретательного дядю.
В стеклянной двери, над рекламой, восхвалявшей детские соски, появилось лицо дяди. Я разглядел, что у него карие глаза, а от очков на носу пролегла полоска. Видно было, что дядя не знает, кто мы такие. Он осмотрел нас с головы до ног, затем с профессиональной любезностью широко распахнул перед нами дверь.
– Вы не узнаете меня? – задыхаясь, спросила мать.
Дядя не решился признаться в этом, но не смог скрыть своего любопытства. Мать опустилась на маленький стул возле прилавка, заваленного мылом и патентованными лекарствами; она беззвучно шевелила губами.
– Стакан воды, мадам? – предложил дядя и, описав рукой широкую кривую, прыгнул куда-то в сторону.
Отхлебнув из стакана, мать проговорила:
– Этот мальчик похож на своего отца. С каждым днем он становится все больше и больше похож на него… И вот я привезла его к вам.
– На своего отца, мадам?
– На Джорджа.
Несколько мгновений лицо дяди по-прежнему выражало полнейшее недоумение. Он стоял за прилавком, держа в руке стакан, который отдала ему мать. Но понемногу он начал догадываться.
– Черт возьми! – воскликнул дядя, потом еще громче: – Господи боже мой!
При этом восклицании у него свалились с носа очки, Поднимая их, он на мгновение скрылся за ящиками с какой-то кроваво-красной микстурой.
– Десять тысяч чертей! – гаркнул он и стукнул стаканом по прилавку. – Боги Востока! – С этими словами он бросился к замаскированной в стене двери, и уже из другой комнаты донесся его возбужденный голос: – Сьюзен! Сьюзен! – Потом он снова появился перед нами и протянул нам руку. – Ну, как вы поживаете? – спросил он. – Никогда в жизни я не был так потрясен. Подумать только… Вы! – Он горячо потряс вялую руку моей матери, а затем и мою, придерживая при этом очки указательным пальцем левой руки. – Заходите! – спохватился он. – Заходите же. Лучше поздно, чем никогда. – И он увлек нас в гостиную, находившуюся позади аптеки.
После Блейдсовера эта комната показалась мне маленькой и душной, но куда более уютной, чем логово Фреппов. Слабый запах некогда поглощенных здесь блюд носился в воздухе, и с первого же взгляда создавалось впечатление, что все здесь подвешено, обернуто или задрапировано. Газовый рожок в центре комнаты и зеркало над камином были украшены муслином ярких тонов; камин и доска над ним обрамлены каким-то материалом с бахромой в виде пушистых шариков (я впервые увидел такую бахрому), даже абажур на лампе, стоявшей на маленьком письменном столе, напоминал большую муслиновую шляпу. На скатерти и оконных занавесках я заметил все ту же бахрому в виде шариков, а на ковре были вытканы розы. По обеим сторонам камина стояли небольшие шкафы, и в нише виднелись грубо сколоченные полки, устланные розовой клеенкой и заваленные книгами. На столе, корешком вверх, лежал словарь, на раскрытом бюро валялись исписанные листы бумаги и другие доказательства внезапно прерванной работы. На одном из листов я успел прочитать крупно и отчетливо выведенные слова: «Патентованная машина Пондерво. Эта машина облегчит вам жизнь».
Дядя открыл в углу комнаты маленькую дверь, похожую на дверцу шкафа, и за ней оказалась узенькая лестница. Таких узких лестниц я в жизни никогда еще не видел.
– Сьюзен! – закричал дядя опять. – Ты нужна здесь. Кое-кто хочет тебя видеть. Просто удивительно!
В ответ раздались какие-то невнятные слова, затем над нашими головами что-то загремело, словно кто-то с раздражением швырнул на пол тяжелый предмет; после этого вступления на лестнице послышались осторожные шаги, и в дверях показалась моя тетка, держась рукой за косяк.
– Это тетушка Пондерво! – объявил дядя. – А это жена Джорджа, и она привезла к нам своего сына.
Он окинул комнату быстрым взглядом, потом метнулся к письменному столу и перевернул белой стороной кверху объявление о патентованной машине. Затем указал на нас очками:
– Ты ведь знаешь, Сьюзен, что у меня есть старший брат Джордж. Я не раз говорил тебе о нем.
Он порывисто отошел в глубину комнаты, остановился на коврике перед камином, надел очки и кашлянул.
Тетушка Сьюзен с любопытством рассматривала нас. Это была довольно хорошенькая стройная женщина лет двадцати трех – двадцати четырех. Я помню, как меня поразили ее необыкновенно голубые глаза и нежный румянец. У нее были мелкие черты лица, нос пуговкой, круглый подбородок и длинная гибкая шея, выступавшая из воротника светло-голубого капота. Ее лицо выражало откровенное недоумение, а маленькая вопросительная морщинка на лбу свидетельствовала о несколько ироническом желании понять, к чему клонит дядя; видимо, она уже раз навсегда убедилась в тщетности такого рода стараний и примирилась с этим. Всем своим видом она, казалось, говорила: «О боже! Что он еще мне преподносит?» Впоследствии, узнав ее поближе, я обнаружил, что ее попытки понять мужа постоянно осложнялись вопросом: «Что это он еще надумал?» В переводе на наш школьный жаргон это прозвучало бы: «Что это ему еще втемяшилось?»
Тетушка поглядела на меня и на мать, потом снова повернулась к мужу.
– Ты ведь слыхала о Джордже, – повторил он.
– Милости просим, – произнесла тетушка, спустившись с лестницы и протягивая нам руку. – Милости просим. Правда, это такая неожиданность… Я не смогу вас ничем угостить, в доме ничего нет. – Она улыбнулась, с добродушной усмешкой бросила взгляд на мужа и добавила: – Если только он не соорудит какое-нибудь снадобье. На это он вполне способен.
Мать церемонно пожала ей руку и велела мне поцеловать тетю.
– Ну, а теперь давайте сядем, – проговорил дядя с каким-то неожиданным присвистом и деловито потер руки. Он придвинул стул матери, поднял и сейчас же снова опустил штору на маленьком окне и возвратился на свое прежнее место перед камином.
– Честное слово, – сказал он, как человек, принявший окончательное решение, – я очень рад вас видеть.
Пока взрослые разговаривали, я внимательно разглядывал дядю. Мне удалось подметить в его внешности немало любопытных черточек.
На подбородке у него я заметил небольшой порез; его жилетка была застегнута не на все пуговицы, словно в тот момент, когда он одевался, что-то отвлекло его. Мне понравился насмешливый огонек, порой вспыхивавший у него в глазах. Я следил, словно зачарованный, за движением его губ, несколько изогнутых книзу, и с удивлением отмечал, что в очертаниях его рта есть какая-то неправильность, губы двигались как-то «кособоко», если можно так выразиться, отчего он начинал порой шепелявить и присвистывать. Не ускользнуло от меня и то, что во время разговора на лице у него то появлялось, то исчезало выражение какого-то торжества. Он то и дело поправлял очки, которые, по-видимому, были неудобны ему, нервно шарил в карманах жилетки, прятал руки за спину и начинал смотреть куда-то поверх наших голов; иногда он привставал на носки и тут же круто опускался на пятки. У него была привычка время от времени с силой втягивать воздух сквозь зубы, и тогда раздавался какой-то жужжащий звук. Я могу изобразить его только как мягкое «з-з-з»…
Больше всех говорил дядя. Мать повторила все, что она уже сказала в начале нашей встречи: «Я привезла к вам Джорджа…» – но почему-то умалчивала о цели нашего приезда.
– Вы довольны своим жилищем? – спросила она и, получив утвердительный ответ, продолжала: – У вас очень уютно. Дом невелик и не требует особенных хлопот. Вам, кажется, неплохо в Уимблхерсте?
Дядя, в свою очередь, засыпал ее вопросами о высокопоставленных обитателях Блейдсовера. Мать отвечала так, будто она была близкой подругой леди Дрю. Тема вскоре истощилась, и на минуту все замолчали, а затем дядя пустился в рассуждения об Уимблхерсте.
– Это место, – начал он, – совсем не по мне.
Мать кивнула головой, словно ей это было уже известно.
– Я не могу здесь развернуться, – продолжал дядя. – Здесь мертвечина. Никогда ничего не случается.
– Он вечно ждет каких-то событий, – отозвалась тетушка Сьюзен. – Когда-нибудь все эти события обрушатся на него лавиной, и он сам будет не рад.
– А вот и наоборот! – весело ответил дядя.
– Вы хотите сказать, что торговля идет вяло? – спросила мать.
– О! Еле-еле. Здесь нет роста, нет развития. Люди здесь приходят за пилюлями, когда заболеют сами, или за каким-нибудь лекарством для лошади, если она заболеет. Но поди дожидайся, пока это случится. Вот ведь какие здесь люди! Вы не можете заставить их раскошелиться и купить какое-нибудь новое средство. К примеру сказать, как я убеждал их покупать лекарства заранее, да побольше! Слушать не хотят! Затем я пытался распространить среди них свое маленькое изобретение – систему страхования от простуды: вы платите по уговору каждую неделю, а когда простудитесь, то получаете таблетки от кашля до тех пор, пока не перестанете чихать и кашлять. Понимаете? Но боже мой! Они не способны воспринимать никакие новшества, они отстали от века. Они не живут – какое там! – просто проз-зябают и других вынуждают прозябать… З-з-з…
– Ах! – воскликнула мать.
– Меня такая жизнь не устраивает, – добавил дядя. – Жизнь должна бурлить вокруг меня, как водопад.
– Вот и Джордж был такой же, – промолвила мать, немного подумав.
– Он все время старается оживить свою торговлю, – заговорила тетушка Сьюзен, бросая нежный взгляд на мужа. – Он выставляет в окне все новые объявления, дня не проходит, чтобы он что-то не придумал. Вы просто не поверите. Я частенько нервничаю из-за его затей.
– И все это ни к чему, – сказал дядя.
– Да, и все это ни к чему, – согласилась жена. – Он не в своих силах. (Она хотела сказать: «Не в своей стихии».)
Наступила долгая пауза.
Этой паузы я ожидал с самого начала разговора и сразу же навострил уши. Я знал, что будет дальше: речь пойдет о моем отце. Я окончательно убедился в этом, когда глаза матери задумчиво остановились на мне. В свою очередь, дядя и тетушка окинули меня взглядом. Тщетно пытался я придать своему лицу выражение благоглупости.
– Мне кажется, – промолвил дядя, – для Джорджа будет интереснее побывать на рыночной площади, чем сидеть здесь и болтать с нами. Там есть памятник старины – любопытная штучка, позорный столб с колодками.
– Я не прочь посидеть и с вами, – сказал я.
Дядя поднялся и с самым добродушным видом повел меня через аптеку. На пороге он остановился и довольно дружелюбно выразил некоторые свои мысли:
– Ну, разве это не сонное царство, Джордж, а? Вон посмотри, на дороге спит собака мясника, а ведь до полудня еще полчаса! Я уверен, что ее не разбудит даже трубный глас в день Страшного суда. Поверь, никто здесь и не проснется! Даже покойники на кладбище – и те только повернутся на другой бок и скажут: «Не тревожьте вы нас лучше!» Понимаешь?.. Ну, хорошо. А позорный столб с колодками сразу вон за тем углом.
Он смотрел мне вслед, пока я не скрылся из виду.
Так мне и не пришлось услышать, что они говорили о моем отце.
Когда я вернулся, мне показалось, что дядя каким-то чудесным образом стал больше в мое отсутствие и возвышался над всеми остальными.
– Это ты, Джордж? – крикнул он, когда звякнул колокольчик двери. – Заходи!
Я вошел в комнату и увидел его на председательском месте перед задрапированным камином.
Все трое повернулись в мою сторону.
– Мы тут говорили, что не худо бы сделать из тебя аптекаря, Джордж, – сказал дядя.
Мать быстро взглянула на меня.
– Я надеялась, – заявила она, – что леди Дрю сделает что-нибудь для него… – И она снова замолчала.
– Что же именно? – спросил дядя.
– Она могла бы замолвить о нем словечко кому-нибудь, возможно, пристроить его куда-нибудь… – Как все служанки, мать была твердо убеждена, что все хорошее на этом свете достигается только протекцией. – Он не из тех, для кого можно что-нибудь сделать, – добавила она, отказываясь от своей мечты. – Он не умеет приспосабливаться. Стоит только сказать, что леди Дрю хочет помочь ему, и он становится на дыбы. Он так же непочтительно относился к мистеру Редгрэйву, как и его отец.
– Кто этот мистер Редгрэйв?
– Священник.
– Хочет быть чуточку независимым? – живо спросил дядя.
– Непокорным, – ответила мать. – Он не знает своего места и думает, что сможет добиться чего-нибудь в жизни, насмехаясь над людьми и пренебрегая ими. Может быть, он поймет свою ошибку, пока еще не слишком поздно.
Дядя почесал свой порезанный подбородок и взглянул на меня.
– Ты знаешь хоть немного латынь? – отрывисто спросил он.
Я ответил отрицательно.
– Ему придется немного заняться латынью, чтобы сдать экзамен, – пояснил дядя матери. – Хм… Он мог бы брать уроки у преподавателя нашей школы – ее недавно открыло благотворительное общество.
– Как! Я буду учить латынь? – взволнованно воскликнул я.
– Немножко, – ответил дядя.
– Я всегда хотел изучать латынь! – заявил я с жаром.
Меня давно мучила мысль, что в этом мире трудно жить, не зная латыни, и Арчи Гервелл убедил меня в этом. Это подтверждала и литература, прочитанная мною в Блейдсовере. С латынью я связывал какую-то не совсем осознанную мною мысль об освобождении. И вот теперь, когда, казалось, я уже и мечтать не мог об учении, мне преподнесли такую приятную новость.
– Латынь тебе, конечно, ни к чему, – сказал дядя, – но ее нужно знать, чтобы выдержать экзамены. Ничего не поделаешь!
– Ты займешься латынью потому, что так нужно, – заявила мать, – а вовсе не потому, что ты этого хочешь. Кроме того, тебе придется изучать еще и многое Другое…
Одна мысль о том, что я не только смогу продолжать учение и читать книги, но что это даже будет моей непременной обязанностью, подавляла во мне все другие чувства. Я давно уже считал, что для меня навсегда потеряна такая возможность. Вот почему слова дяди так взволновали меня.
– Значит, я буду жить с вами? – спросил я. – Учиться и работать в аптеке?
– Выходит, что так, – отозвался дядя.
Словно во сне я прощался в тот же день с матерью – до того ошеломил меня неожиданный поворот судьбы. Я буду изучать латынь! Мать гордилась этим не меньше меня; унижение, которое она испытывала из-за меня в Блейдсовере, теперь отошло в прошлое; к тому же она преодолела отвращение, с каким относилась к своему вынужденному визиту к дяде, и считала, что устроила мое будущее. Все это внесло в наше прощание оттенок искренней нежности, которой никогда не бывало раньше, когда мы расставались.
Я помню, как усадил мать в вагон и стоял в открытых дверях ее купе. Мы и не подозревали тогда, что скоро навсегда перестанем огорчать друг друга.
– Будь хорошим мальчиком, Джордж, – сказала она. – Учись. Не ставь себя на одну доску с теми, кто выше и лучше тебя, и… не завидуй им.
– Не буду, мама.
Я беззаботно дал это обещание и, пока она пристально смотрела на меня, все размышлял, не смогу ли сегодня же вечером засесть за латынь.
Внезапно что-то кольнуло ее в сердце – не то какая-то мысль, не то воспоминание, а может быть, и предчувствие… Когда кондуктор с шумом начал закрывать двери вагонов, она торопливо, словно стыдясь своего порыва, сказала:
– Поцелуй меня, Джордж.
Я вошел в купе. Она потянулась ко мне, жадно схватила в свои объятия и крепко прижала к себе. Это было так непохоже на нее! Я успел заметить, как заблестели ее глаза и по щекам вдруг покатились слезы.
В первый и в последний раз в жизни я видел, что мать плачет. И вот она уехала, а я остался, расстроенный и недоумевающий, забыв на время даже о латыни, и все еще видел перед собой новый для меня, необычный образ матери, какой она была в минуту нашего расставания.
Мысль о ней не покидала меня и позже, хотя я старался отогнать ее, пока наконец не понял, что мать представляла собой. Бедное, гордое, ограниченное создание! Бедный, строптивый, непослушный сын! Впервые я осознал, что и моей матери были присущи человеческие чувства.
Следующей весной моя мать неожиданно и к великому недовольству леди Дрю умерла. Ее милость, прихватив с собой мисс Соммервиль и Файзон, немедленно сбежала в Фолкстон, чтобы вернуться после похорон, когда на место моей матери водворится уже другая экономка.
На похороны меня привез дядя. Помнится, накануне поездки ему пришлось пережить неожиданную неприятность. Узнав о смерти матери, он послал в мастерскую Джадкинса в Лондон свои клетчатые брюки с наказом выкрасить их в черный цвет, но мастерская своевременно не прислала брюки обратно. На третий день взволнованный дядя послал, без всякого, правда, результата, несколько телеграмм – одну резче другой. На следующее утро ему пришлось нехотя уступить настояниям тетушки Сьюзен и облачиться во фрак, сшитый, несомненно, в те дни, когда дядя был стройным юношей. На фоне других воспоминаний о наших сборах на похороны матери над всем остальным высится, подобно колоссу Родосскому, фигура дяди в брюках из тонкого глянцевитого черного сукна.
А у меня были свои неприятности. Дядя купил мне цилиндр с такой же траурной лентой, как у него; это был мой первый цилиндр, и в нем я чувствовал себя чрезвычайно стеснительно.
Смутно вспоминаю комнату матери с белой панелью и странное чувство, охватившее меня при мысли о том, что ее больше нет здесь и никогда уже не будет; в памяти всплывают знакомые люди, такие непохожие на себя в траурной одежде, и неловкость, какую я испытывал оттого, что был центром всеобщего внимания. И все же душевное смятение не мешало мне чувствовать у себя на голове новый цилиндр – это ощущение то исчезало, то появлялось вновь.
Но все эти мелочи отступают на задний план перед одним особенно отчетливым и печальным воспоминанием, властно завладевшим моей душой. Я иду во главе печальной процессии по кладбищенской дорожке за гробом матери к месту ее погребения; слышу медлительный голос старого священника, его торжественные, скорбные, но не тронувшие мою душу слова:
– Я есмь воскресение и живот, глаголет господь. Верующий в меня, иже и умрет, жив будет и не умрет во веки веков…
Не умрет вовек! Было чудесное весеннее утро, на деревьях набухали и распускались почки. Все в природе цвело и ликовало, груши и вишни в саду церковного сторожа стояли, словно осыпанные снегом. На могильных холмиках кивали своими головками нарциссы, ранние тюльпаны и множество маргариток. Звенели птичьи голоса. И на фоне этой радостной картины на плечах у мужчин медленно плыл коричневый гроб, наполовину скрытый от меня капюшоном священника.
Так мы подошли к открытой могиле…
Несколько минут я стоял в оцепенении, наблюдая, как гроб с прахом матери готовятся опустить в землю, я прислушиваясь к словам молитв. Мне даже казалось, что происходит нечто весьма интригующее.
Но незадолго до конца погребения я вдруг почувствовал, что ведь я так и не сказал матери то самое главное, что должен был сказать; она ушла молча, не простив меня и не выслушав моих ненужных теперь оправданий. Внезапно я понял все, чего до сих пор не мог уяснить, и посмотрел на нее с нежностью. Я вспомнил не ее добрые дела, а ее добрые намерения, которые ей не удалось осуществить по моей же вине. Теперь я понял, что под маской строгости и суровости она скрывала свою материнскую любовь, что я был единственным существом, которое она когда-либо любила, и что до этого печального дня я по-настоящему ее не любил. И вот она лежит в гробу, немая и холодная, и умерла она с сознанием, что я обманул все ее надежды, и теперь она уже больше ничего обо мне не узнает…








