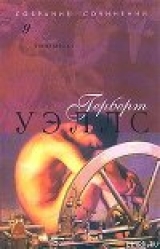
Текст книги "Тоно Бенге"
Автор книги: Герберт Джордж Уэллс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
Роясь в старых воспоминаниях, я убеждаюсь теперь, что хоть и был очень занят своими исследованиями в те богатые событиями годы, а все-таки мне довелось повидать и немало высокопоставленных особ; я видел вблизи механизм, которым управляется наша изумительная империя, сталкивался и беседовал с епископами и государственными мужами, с женщинами, причастными политике, к с женщинами, от политики далекими, с врачами и военными, художниками и писателями, издателями больших газет, с филантропами и вообще со всякими знаменитыми, выдающимися людьми. Я видел государственных деятелей без орденов, видел епископов едва ли не в светской одежде, когда на них мало что оставалось от шелка и пурпура и вдыхали они не ладан, а дым сигары. Я мог тем лучше рассмотреть их, что они-то смотрели не столько на меня, сколько на моего дядюшку, сознательно или бессознательно прикидывая, как бы его обработать и получше использовать в своих интересах – в интересах самой неразумной, коварной, преуспевающей и бессмысленной плутократии, какая когда-либо обременяла собою человечество. До той самой минуты, пока не разразился крах, никто из них, насколько я мог заметить, не возмущался дядюшкиным надувательством, почти неприкрытой бесчестностью его приемов, дикой неразберихой, которую он вносил своим неожиданным вторжением то в ту, то в иную область коммерции. Ясно помню, как они окружали его, как были предупредительны, не спускали с него глаз, как умели находить с ним общий язык; маленький, толстенький и неуклюжий, с жесткими волосами, коротким носиком и самодовольно выпяченной нижней губой, он неизменно оказывался в центре внимания. Чуждый всему окружающему, он бродил среди знаменитостей и нередко улавливал шепот:
– Это мистер Пондерво!
– Вон тот маленький?
– Да, маленький, невежа в очках.
– Говорят, он заработал…
Или я видел его на каком-нибудь помосте или трибуне – рядом с тетей Сьюзен в сногсшибательной шляпке, – окруженный титулованными особами в пышных нарядах, он, по его собственному выражению, «умел не ударить лицом в грязь», солидно жертвовал на то или иное широко известное, благотворительное начинание и, случалось, даже произносил перед восторженной аудиторией короткую зажигательную речь во славу какого-нибудь доброго дела.
– Господин председатель, ваши королевские высочества, милорды, леди и джентльмены, – начинал он среди затихающих аплодисментов, потом поправлял свои упрямые очки, откидывал фалды фрака – руки в боки – и произносил речь, сдабривая ее изредка своим неизбежным «ззз». При этом руки у него все время были в движении: то он хватался за очки, то за карманы; он то и дело, по мере того как фраза толчками, словно часовая пружина, раскручивалась, медленно приподнимался на носках, а договорив ее, опять опускался на пятки. Точно так же, размахивая руками и раскачиваясь на носках, он когда-то в первую нашу встречу, стоя перед холодным камином в крохотной задрапированной гостиной, говорил с моей матерью о моем будущем.
В те нескончаемые жаркие вечера в уимблхерстской крохотной лавчонке он вслух мечтал о «Романтике современной коммерции». И вот теперь его романтические мечты сбылись.
Говорят, что, достигнув вершины своего богатства, мой дядюшка потерял голову, но если можно сказать начистоту всю правду о человеке, которого как-никак любишь, так ведь ему, собственно, нечего было терять. Он всегда был фантазер, сумасброд, неосмотрителен, опрометчив и сумбурен, и нахлынувшее на него богатство лишь дало волю его натуре. Несомненно, в пору своего расцвета он нередко бывал очень раздражителен и не терпел возражений, но, я думаю, что причина не в его умственном расстройстве, а скорее в каком-то скрытом телесном недуге. И, однако, мне нелегко судить его и нелегко во всей полноте раскрыть читателю те перемены, которые совершались в нем. Я слишком часто встречался с ним, слишком много картин и впечатлений беспорядочно теснится в моей памяти. Вот он напыжился, обуянный манией величия, вот съежился и скис, он то сварлив, то неуязвимо самодоволен, но неизменно стремителен, порывист, непоследователен и полон энергии, – и при этом, уж не знаю, как определить, где-то глубоко, неуловимо, по самой природе своей, донельзя нелеп.
Быть может, потому, что так спокоен и хорош был тот летний вечер, мне особенно запомнился один наш разговор на веранде моего домика за Крест-хиллом возле сарая-мастерской, где хранились мои летательные аппараты и воздушные шары. Такие разговоры мы вели нередко, и, право, не знаю, почему именно этот запал мне в память. Видно, так уж случилось. Дядя зашел ко мне после кофе, чтобы посоветоваться по поводу потира, который в приступе величия и щедрости, поддавшись назойливым уговорам некоей графини, он решил преподнести в дар одной весьма достойной церкви в Ист-Энде. Я в порыве еще более необдуманного великодушия предложил заказать рисунок чаши Юарту. Юарт сразу же сделал превосходный эскиз священного сосуда, окаймленного подобием ангельского хоровода из этаких бледнолицых Милли с распростертыми руками и крыльями, и получил за это пятьдесят фунтов. А потом пошли всякие проволочки, которые очень бесили дядюшку. Потир все больше и больше ускользал из-под власти почтенного коммерсанта, становился неуловим и недосягаем, как святой Грааль, и, наконец, Юарт вовсе перестал работать над эскизом.
Дядюшка забеспокоился…
– Понимаешь, Джордж, они уже хотят получить эту окаянную штуку.
– Какую окаянную штуку?
– Да этот потир, черт бы его побрал! Они уже начинают про него спрашивать. Дела так не делаются.
– Но ведь это искусство, – возразил я. – И религия.
– Ну и пускай себе. Но ведь это плохая реклама для нас, Джордж. Наобещали, а товар не даем… Я, кажется, спишу твоего друга Юарта в убыток, вот чем это кончится, и обращусь к какой-нибудь солидной фирме…
Мы сидели на складных стульях на веранде, курили, пили виски и, покончив с потиром, предавались размышлениям. Дядюшка уже забыл о своей досаде. На смену раскаленному, полному истомы дню пришел великолепный летний вечер. В ярком лунном свете смутно вырисовывались очертания холмов, убегающих вдаль волна за волной; а далеко за холмами крохотными яркими точками светились огни Лезерхэда, и прямо перед нами, словно влажная сталь, сверкал край помоста, с которого я запускал свои планеры. Стоял, должно быть, конец июня, потому что, помню, в роще, скрывавшей от нас светлые окна «Леди Гров», заливались и щелкали соловьи…
– А ведь мы добились своего, Джордж? – сказал дядя после долгого молчания. – Помнишь, что я говорил?
– Когда же это?
– В этой дыре на Тотенхем-Корт-роуд. А? Это был прямой, честный бой, и мы выиграли.
Я кивнул.
– Помнишь, я тебе говорил… про Тоно Бенге?.. Как раз в тот день я и напал на эту идею.
– Я так и думал… – признался я.
– Мир великолепен, Джордж, в наше время всякому может посчастливиться, была бы только хватка. Вытащил козырь – и пожалуйста, действуй!.. А? Тоно Бенге… Подумай только! Мир великолепен, Джордж, и чем дальше, тем лучше становится. Нет, я доволен жизнью и рад, что мы не упустили своего. Мы выходим в большие люди, Джордж. Счастье само идет нам в руки. А? Эта история с Палестиной…
Он задумался и с минуту тянул сквозь зубы свое «ззз», потом умолк.
Его музыкальную тему подхватил сверчок в траве, давая дядюшке время вновь собраться с силами. Сверчок, кажется, тоже воображал, что он уже добился своего, что осуществились какие-то его планы. «Ззз-дорррво, – выговаривал он. – Зз-дорррво…»
– Бог ты мой, что за домишко был у нас в Уимблхерсте, – вдруг заговорил дядя. – Вот я как-нибудь выберу денек, и мы прокатимся туда на автомобиле, Джордж, и не пощадим пса, который спит на главной улице. Там вечно спал какой-нибудь пес, без этого не бывало. Никогда не бывало… Хотел бы я еще разок поглядеть на ту нашу лавчонку. Надо полагать, старый Рэк по ею пору стоит у себя на пороге и скалит зубы; а Марбл – старый бездельник! – выходит в белом фартуке с карандашом за ухом и делает вид, что он занят делом… Интересно, знают ли они, что я за персона теперь. Хотел бы я, чтобы они это узнали.
– Кончилась их спокойная жизнь: там у них теперь международная чайная компания и всякие другие компании, – сказал я. – А насчет пса, который там шесть лет спал посреди улицы, так ему, бедняге, теперь и там не очень-то спится, – автомобили гудят, и у него нервы расстроены.
– Все пришло в движение, – сказал дядя. – Ты, пожалуй, прав… В великое время мы живем, Джордж. Наступает великая, грандиозная, прогрессивная эпоха. Взять хоть Палестинское начинание… Какая смелость… Это… это такой процесс, Джордж. И он в наших руках. Вот сидим и управляем ям. Нам это доверено… Вот сейчас, кажется, все тихо. Но если бы нам видеть и слышать… – И дядя махнул сигарой в сторону Лезерхэда и Лондона. – А там они, миллионы, Джордж. Только подумай, чем они были до сих пор, эти десять миллионов? Каждый корпел над чем-то в своем углу. Даже в голове не укладывается! Это, как сказал старик Уитмен… Как, бишь, он оказал? Ну, в общем, как сказал Уитмен. Чудный парень этот Уитмен! Чудный старик! Только вот никак не упомнишь, как это он сказал… И эти десять миллионов еще не все. За морями тоже миллионы, сотни миллионов… Китай, Марокко да вообще вся Африка, Америка… И не кто-нибудь, а мы заправляем, у нас хватит и сил и времени… потому что мы всегда были энергичными, ловили удачу, у нас в руках все кипело, мы не ждали, как другие, чтоб нам поднесли готовенькое. Понимаешь? И вот, пожалуйста, мы всем заправляем. Мы вышли в большие люди. И то ли еще будет. Если хочешь знать, мы – сила.
Он помолчал немного.
– Это великолепно, Джордж, – сказал он.
– Англосаксы – народ энергичный, – заметил я словно бы про себя.
– Вот именно, Джордж, все дело в энергии. Поэтому все у нас в руках: все нити, провода, понимаешь, они тянутся и тянутся, от какой-нибудь нашей конторы прямо в Западную Африку, и в Египет, и в Индию, на восток и на запад, на север и на юг. Правим миром, если хочешь знать. И чем дальше, тем крепче держим его в руках. Творим. Возьми хоть этот палестинский канал. Блестящая мысль! Вот мы ввяжемся в это, возьмемся за это дело – и мы и другие, – устроим шлюз-зззз, пустим воду из Средиземного в Мертвое – подумай, как все переменится! Пустыня цветет, как роза, Иерихон пропал, вся святая земля под водой… Тут, глядишь, и христианству конец…
Он задумался на мгновение.
– Выроем каналы, – бормотал он. – Туннели… Новые страны… Новые центры… зззз… Финансы… Тут не одна Палестина… Хотел бы я знать, как далеко мы пойдем, Джордж. Сколько больших дел у нас на мази! Уж люди понесут нам свои денежки, будь спокоен. Почему бы нам не выйти в большие воротилы, а? Тут, правда, есть свои загвоздки… но я с ними справлюсь. Мы еще немножко мягкотелы, но ничего, станем потверже… Я думаю, я стою что-нибудь около миллиона, если все подсчитать и учесть. Даже если сейчас уйти от дел. Великое время, Джордж, замечательное время!..
Я поглядел на него, с трудом различая его в сумерках, маленького и кругленького, и, не скрою, как-то вдруг понял, что он не очень-то много стоит.
– Все у нас в руках, Джордж, у нашего брата, большого человека. Надо держаться друг за друга… И всем заправлять. Приладиться к старому порядку вещей, как то мельничное колесо у Киплинга. (Это лучшее, что он написал, Джордж… Я как раз недавно перечитывал. Потому и купил «Леди Гров».) Так вот, нам надо управлять страной, Джордж… Ведь это наша страна. Превратить ее в научно-организованное деловое предприятие. Вложить в нее идеи. Электрифицировать ее. Заправлять прессой. Всем заправлять. Всем без изъятия. Я говорил с лордом Бумом. С разными людьми говорил. Великие дела. Прогресс. Мир на деловых рельсах. И это еще – только начало…
Он углубился в размышления.
Затянул свое «ззз», потом затих.
– Да! – изрек он немного погодя тоном человека, который наконец-то разрешил какие-то великие вопросы.
– Что? – спросил я, выдержав подобающую случаю паузу. Дядюшка помолчал минуту и молчал со столь многозначительным видом, что мне почудилось, будто судьба мира колеблется на чаше весов. Но вот он заговорил, и казалось, слова его идут из самой глубины души… Да так оно, наверно, и было.
– Хотел бы я завернуть в «Герб Истри», когда все эти бездельники дуются в карты: Рэк, и Марбл, и все прочие, и выложить им в двух словах, что я о них думаю. Прямо сплеча. Свое мнение о них. Это пустяк, конечно, но хотел бы я им сказать разок… Пока жив… хоть один раз-ззз.
Потом мысль его остановилась на другом.
– Вот взять Бума… – задумчиво произнес он и замолк.
– Замечательно у нас государство устроено, Джордж, наша добрая старая Англия, – снова заговорил он тоном беспристрастного судьи. – Все прочно, устойчиво, и при этом есть место новым людям. Приходишь и занимаешь свое место. От тебя прямо ждут этого. Участвуешь во всем. Вот чем наша демократия отличается от Америки. У них, если человек преуспел, он только и получает, что деньги. У нас другие порядки… по сути дела, всякий может выдвинуться. Вот хотя бы этот Бум… Откуда он взялся!
Дядюшка умолк. К чему это он клонит? И вдруг я понял и едва не скатился со стула от изумления, но удержался, выпрямился и ощутил под ногами твердую землю.
– Неужели ты это серьезно?.. – сказал я.
– Что, Джордж?
– Взносы в партийную кассу. Взаимная выгода. Неужели мы и этого достигли?
– К чему это ты ведешь, Джордж?
– Сам знаешь. Только они на это не пойдут!
– На что не пойдут? – повторил он не слишком уверенно и тут же прибавил: – А почему бы и нет?
– Они даже и баронета тебе не дадут. Ни за что! Хотя, правда. Бум… И Колингсхед… и Горвер! Они варили пиво, занимались всякими пустяками. В конце концов Тоно Бенге… Это тебе не посредник на скачках или еще что-нибудь в этом роде!.. Хотя, конечно, и посредники на скачках бывают весьма почтенные! Это не то, что какой-нибудь болван ученый, который не умеет делать деньги!
Дядюшка сердито заворчал; мы и прежде расходились во взглядах на этот предмет.
Бес вселился в меня.
– Как они будут тебя величать? – размышлял я вслух. – Викарий, наверно, хотел бы Гров. Слишком похоже на гроб. Непростая это штука – титул. – Я ломал голову над разными возможностями. – Вот я тут вчера натолкнулся на социалистическую брошюрку. Стоит прислушаться. Автор говорит: мы все «делокализуемся». Недурно сказано: «делокализуемся»! Почему не стать первым делокализованным пэром Англии? Тогда можно взять за основу Тоно Бенге! Бенге – это, знаешь ли, совсем неплохо. Лорд Тоно Бенгский – на всех этикетках, везде и всюду. А?
К моему удивлению, дядюшка вышел из себя.
– Черт подери, Джордж, ты никак не возьмешь в толк, что я говорю серьезно! Ты всегда измывался над Тоно Бенге! Как будто это какое-то жульничество! Это – совершенно законное дело, совершенно законное! Первоклассный товар, своих денег стоит… Приходишь к тебе поделиться, рассказать о своих планах, а ты измываешься. Да, да! Ты не понимаешь, это – огромное дело. Огромное дело. Пора бы уже тебе привыкнуть к нашему новому положению. Надо уметь видеть вещи, как они есть. И нечего скалить зубы…
Нельзя сказать, что дядюшка был поглощен одними только делами да честолюбивыми устремлениями. Он успевал еще следить за развитием современной мысли. Например, его чрезвычайно поразила эта, как он выражался, «идея Ницше насчет сверхчеловека и всякое такое».
Соблазнительная теория сильной, исключительной личности, освободившейся от стеснительных оков обыкновенной честности, перепуталась у него в голове с легендой о Наполеоне. Это дало новое направление его фантазии. Наполеон! Самый большой вред человечеству нанес он тогда, когда его полная грандиозных потрясений и превратностей жизнь завершилась и романтические умы начали создавать о нем легенды. Я глубоко убежден, что дядя потерпел бы куда менее страшное банкротство, если бы его не сбила с толку эта легенда о Наполеоне. Дядюшка был во многих отношениях лучше и добрее тех дел, которые он вершил. Но в минуты сомнения, когда он оказывался перед выбором, поступить ли достойно или воспользоваться низменной выгодой, в эти минуты культ Наполеона влиял на него особенно сильно. «Подумай о Наполеоне, представь себе, как отмахнулся бы от таких угрызений совести непреклонный, своевольный Наполеон» – такие размышления всегда кончались тем, что он делал еще один шаг на пути бесчестья.
Дядюшка, правда, без всякой системы коллекционировал наполеоновские реликвии: чем толще оказывалась книга о его герое, тем охотнее он покупал ее; он приобретал письма, и побрякушки, и оружие, которое имело весьма отдаленное отношение к Избраннику Судьбы, и даже раздобыл в Женеве старую карету, в которой, быть может, ездил Буонапарте, правда, он так и не доставил ее домой; он заполонил мирные стены «Леди Гров» его портретами и поставил статуи, предпочитая, как заметила тетушка, те портреты, где Наполеон был изображен в белом жилете, подчеркивающем его полноту, и статуэтки Наполеона, стоящего во весь рост, заложив руки за спину, так что его брюшко становилось особенно заметно. И, взирая на все это, сардонически усмехались со старых полотен Даргены.
Иной раз после завтрака дядюшка останавливался у окна – освещенный падавшим из него светом, заложив два пальца между пуговицами жилета и прижав к груди подбородок, он размышлял, самый нелепый маленький толстяк на свете. Тетя Сьюзен говаривала, что в эти минуты она чувствовала себя «старым фельдмаршалом, которого изрядно поколотили!».
Быть может, из-за пристрастия к Наполеону дядя стал реже обычного прибегать к сигарам; хотя в этом я не слишком уверен, но смело могу сказать, что, прочитав книгу «Наполеон и прекрасный пол», он доставил тете Сьюзен немало огорчений, так как на время эта книга возбудила в нем интерес к той стороне жизни, о которой, поглощенный коммерцией, он обычно забывал. Немалую роль тут сыграло внушение. Дядюшка воспользовался первым же удобным случаем и завел интрижку!
Это было не такое уж страстное увлечение, и подробностей я так никогда и не узнал. И вообще-то мне стало известно об этом совершенно случайно. Однажды я, к своему изумлению, встретил дядю на приеме у Робберта, члена Королевской академии, который в свое время писал портрет моей тетушки; компания там собралась разношерстная, сливки общества смешались с богемой, дядюшка стоял поодаль в нише у окна и разговаривал, или, вернее, слушал, что говорит ему, понизив голос, полная невысокая блондинка в светло-голубом платье – некая Элен Скримджор, которая писала романы и руководила изданием еженедельного журнала. Толстая дама, оказавшаяся рядом со мной, что-то сказала по их адресу, но, и не расслышав ее слов, я без труда понял, что связывает этих двоих. Это бросалось в глаза, как афиша на заборе. Я был поражен, что не все это замечают. А быть может, и замечали. На ней было великолепное бриллиантовое колье, слишком великолепное для журналистки, и смотрела она на дядюшку взглядом собственницы, права которой, однако, сомнительны; чувствовалось, что он у нее на привязи, но веревочка туго натянута и грозит оборваться; кажется, все это неизбежно в подобных интрижках. Здесь узы, соединяющие двух людей, и сильнее натянуты и менее прочны, чем в браке. Если мне нужны были еще какие-нибудь доказательства, достаточно было заглянуть в глаза дядюшке, когда он поймал мой взгляд, – в этих глазах я прочел и замешательство, и гордость, и вызов. И на следующий же день он воспользовался первым удобным случаем, чтобы мимоходом рассыпаться в похвалах уму и дарованиям своей дамы, боясь, что я превратно пойму, в чем тут суть.
Потом одна из ее приятельниц кое о чем насплетничала мне. А я был слишком любопытен, чтобы не выслушать ее. Никогда в жизни я не представлял себе дядюшку в роли влюбленного. Оказалось, что она называет его своим «Богом в автомобиле» – так звали героя романа Антони Хопа.
Между ними было твердо установлено, что дядюшка безжалостно покидает ее в любую минуту, как только его призывают дела, и дела действительно его призывали. Женщины не занимали в его жизни большого места – оба это понимали, – главной его страстью было честолюбие. Огромный мир призывал его и благородная жажда власти. Я так и не мог понять, насколько искренни были чувства миссис Скримджор, но вполне вероятно, что ее покорили прежде всего его финансовое величие и ослепительная щедрость, и, возможно, она и в самом деле вносила в их отношения какую-то романтическую нотку… Должно быть, на их долю выпадали удивительные минуты…
Поняв, что происходит, я очень расстроился и огорчился за тетю. Я подумал, что это будет для нее жестоким унижением. Я подозревал, что она храбрится, потеряв дядину привязанность, и делает вид, что ничего не произошло, а на душе у нее кошки скребут, но оказалось, что я попросту недооценивал ее. Она долгое время ничего не знала, но, узнав, вышла из себя и ощутила бурный прилив энергии. Поначалу чувства ее были не слишком глубоко задеты. Она решила, что дядюшке полезна хорошая взбучка. Надев сногсшибательную новую шляпку, она отправилась в Хардингем и беспощадно отчитала дядюшку, а потом и мне порядком досталось за то, что я до сих пор молчал…
Я пытался уговорить тетю Сьюзен смотреть на вещи трезво, но она с присущей ей оригинальностью взглядов была непоколебима.
– Мужчины не ябедничают друг на друга в любовных делах, – оправдывался я, ссылаясь на обычаи света.
– Женщина! – возмутилась она. – Мужчина! При чем тут мужчины и женщины, речь идет о нем и обо мне, Джордж! Что за вздор ты несешь! Любовь – прекрасная вещь, ничего не скажешь, и уж кто-кто, а я ревновать не собираюсь. Но тут ведь не любовь, а просто чепуха… Я не дам этому старому дураку распускать павлиний хвост перед бабами… Я ему на все нижнее белье нашью красные метки: «Только для Пондерво», – все перемечу до последней тряпки… Не угодно ли? Пылкий любовник нашелся!.. В набрюшнике… в его-то годы!
Я и представить себе не могу, что произошло между дядюшкой и тетей Сьюзен. Но уверен, что ради этого случая она изменила своей обычной манере передразнивать его. Какой разговор состоялся тогда между ними, понятия не имею; хоть я и знал обоих, как никто, мне еще не приходилось слышать, чтобы они всерьез говорили о своих отношениях. Во всяком случае, в ближайшие несколько дней мне пришлось иметь дело с чрезвычайно серьезным и озабоченным «Богом в автомобиле», – чаще обычного он тянул свое «ззз» и нервно жестикулировал, причем эти досадливые, нетерпеливые жесты никак не были связаны с тем, о чем шел разговор в эту минуту. Было ясно, что жизнь вдруг стала казаться ему как никогда сложной и необъяснимой.
Многое в этой истории осталось скрытым от меня, но в конце концов тетя Сьюзен восторжествовала. Дядюшка бросил, вернее, оттолкнул миссис Скримджор, а она написала на эту тему роман, вернее, вылила на бумагу целый ушат оскорбленного женского самолюбия. О тете Сьюзен там даже не упоминалось. Писательница, как видно, и не подозревала, почему ее на самом деле покинули. Наполеоноподобный герой ее романа не был женат, а бросил свою даму, как Наполеон Жозефину, ради союза, имеющего государственное значение…
Да, тетя Сьюзен восторжествовала, но победа досталась ей дорогой ценой. Некоторое время их отношения оставались явно натянутыми. Дядюшка отказался от дамы сердца, но злился – и даже очень, – что вынужден был это сделать. В его воображении она занимала гораздо больше места, чем можно было предполагать. Он долго не мог «прийти в норму». Он стал раздражителен с тетей Сьюзен, нетерпелив, скрытен, и после того как раз-другой с неожиданной резкостью оборвал ее, она остановила поток добродушно-насмешливой брани, который не иссякал долгие годы и так забавно освежал их жизнь. И от этого они оба стали духовно беднее и несчастнее. Она все больше входила в сложную роль хозяйки «Леди Гров». Слуги привязались к ней, как они сами говорили, и за время своего правления она крестила трех Сьюзен: дочек садовника, кучера и лесничего. Она собрала у себя целую библиотеку из старых папок с бумагами и расчетных книг, которые велись в имении. Вдохнула новую жизнь в кладовые и стала великой мастерицей по части желе и настоек из бузины и баранчиков.
Поглощенный своими исследованиями, думая о том, как бы одолеть все препятствия и начать полет, я не обращал внимания на то, как богател мой дядюшка, а с ним и я сам, а между тем его затеи приобретали все более широкий размах, он все больше рисковал и без оглядки, беспорядочно швырял деньгами. Должно быть, его преследовала мысль, что положение его становится час от часу все ненадежнее, и потому в эти последние годы – годы своего расцвета – он все чаще раздражался, все больше замыкался в себе, скрывая многое от тети Сьюзен и от меня. Я думаю, он опасался, что придется объяснить нам истинное положение вещей, боялся, как бы наши шутки ненароком не попали в цель. Даже наедине с самим собой он не решался взглянуть правде в глаза. Он копил в своих сейфах ценные бумаги, которые в действительности не имели никакой цены и грозили лавиной обрушиться на весь коммерческий мир. Но он покупал и покупал, как одержимый, и лихорадочно уверял сам себя, что победоносно шагает к безмерному, беспредельному богатству. Странное дело, в эту пору он без конца приобретал все одни и те же вещи. Казалось, его одолевают навязчивые мысли и желания. За один только год он купил пять новых автомобилей, причем каждый следующий был более мощным и быстроходным, чем предыдущий, – и только одно помешало дядюшке самому сесть за руль: всякий раз, когда он пытался это сделать, его главный шофер грозил немедленно взять расчет. Дядя все чаще пользовался автомобилем. Он страстно увлекался быстрой ездой, скоростью ради скорости.
Потом его стала раздражать «Леди Гров»: ему не давала покоя глупая шутка, услышанная им как-то за обедом.
– Этот дом мне не подходит, Джордж, – жаловался он. – Тут повернуться негде. Он битком набит воспоминаниями о всякой старине… И я не выношу всех этих проклятых Даргенов! Погляди вон на того, в углу. Нет, в другом углу, на субъекта в вишневом мундире. Он так и следит за тобой! Вот я проткну ему кочергой глотку, сразу станет дурак дураком.
– А по-моему, каков есть, таким и останется, – возразил я. – У него такой вид, будто его что-то насмешило.
Дядюшка поправил очки, съехавшие от волнения на кончик носа, и гневно уставился на своих противников.
– Кто они такие? Что они собой представляют? Просто дохлятина – и все. Безнадежно устарели. До реформации и то не дожили. До реформации, которая тоже давно вышла из моды! Шагай в ногу с веком! А они шли наперекор. Просто семейство неудачников – они никогда и не старались!.. Знаешь, Джордж, они полная противоположность мне. Да, да, полная. Нет, так не пойдет… Живешь где-то в прошлом… И мне нужен дом побольше. Я хочу воздуха, и света, и простора, и слуг побольше. Нужен дом, чтоб было где развернуться. А тут выходит раз-ззз-нобой какой-то, прямо ерунда, даже телефона не поставишь!.. Весь этот дом гроша ломаного не стоит, ничего не стоит – только и есть, что терраса. А так он темный и ветхий и набит всяким старомодным хламом и заплесневелыми мыслями… Это какой-то аквариум для золотой рыбки, а не жилище современного человека… Ума не приложу, как меня сюда занесло.
Потом его одолело новое огорчение.
– Этот чертов викарий воображает, будто я еще должен считать себя счастливым, что мне досталась эта «Леди Гров»! Всякий раз, как его встретишь, у него это прямо на лице написано… Погоди, Джордж, я ему еще покажу, какой должен быть дом у современного человека!
И он показал.
Вспоминаю день, когда он, как выражаются американцы, сделал заявку на Крест-хилл. Он пришел посмотреть мою новую газовую установку – я тогда как раз начал делать опыты с запасными баллонами, – и все время его очки, поблескивая, устремлялись куда-то вдаль, на открытый широкий склон.
– Пройдем к «Леди Гров» той дорогой, через холм, – сказал дядя. – Я тебе кое-что покажу. Кое-что стоящее!
В тот летний вечер весь этот пустынный склон был залит солнцем, земля и небо рдели в лучах заката, и посвистывание чибиса или еще какой-то пичуги только подчеркивало чудесную тишину, венчавшую долгий ясный день. Так хорош был этот мир и покой, обреченный на гибель! И мой дядюшка, этот новоявленный властелин и повелитель, в сером цилиндре и сером костюме, в очках на черной ленте, коротенький, тонконогий, пузатый, размахивал руками и тыкал пальцем в пространство, угрожая этому спокойствию.
– Вот оно, Джордж, – начал он и широко развел рукой. – То самое место. Видал?
– А? – переспросил я, потому что все время думал совсем о другом.
– Я купил его.
– Что купил?
– Хочу строить дом! Дом двадцатого века! Это – самое подходящее место!
Тут он изрек одно из своих излюбленных словечек.
– Будет обдувать со всех четырех сторон, Джордж, – сказал он. – А? Со всех четырех сторон.
– Да, тут вас будет продувать со всех сторон, – сказал я.
– Это должен быть не дом, а громадина, Джордж. Под стать этим холмам.
– Правильно, – сказал я.
– Повсюду будут большие галереи, террасы и всякое такое. Понимаешь? Я уже все обдумал! Он будет обращен вон туда, прямо к Вилду. Спиной к «Леди Гров».
– И будет с утра смотреть прямо на солнце?
– Как орел, Джордж! Как орел!
Так он впервые поведал мне о том, что очень скоро стало главной его страстью в годы процветания, – о Крест-хилле. Но кто же не слыхал об этом необычайном доме, который все рос и рос и план которого все время менялся, и он раздувался, как улитка, если на нее посыпать соли, и разбухал, и выпускал рожки и щупальца, и снова рос. Уж не знаю, что за бредовое нагромождение башенок, террас, арок и переходов рисовалось под конец дядюшкиному воображению; и хотя все это внезапно застыло на мертвой точке, едва над нами разразилась катастрофа, дом этот, даже недостроенный, поражает: нелепая попытка человека, не имеющего детей, оставить след на земле. Главного своего архитектора, по фамилии Уэстминстер, дядюшка откопал на выставке проектов Королевской академии – ему понравились смелость и размах, свойственные работам молодого зодчего; но время от времени дядя привлекал ему в помощь разных мастеров, каменщиков, санитарных техников, художников, скульпторов, резчиков по металлу и дереву, мебельщиков, облицовщиков, садовников-декораторов и даже специалиста, который планировал устройство и вентиляцию в новых зданиях Лондонского зоологического сада…
К тому же у дяди были и собственные идеи. Он не забывал о новом доме никогда, но с вечера пятницы до утра понедельника его мысли были отданы дому безраздельно. Каждую пятницу вечером он подъезжал к «Леди Гров» в автомобиле, до отказа набитом архитекторами. Впрочем, он не ограничивался архитекторами, всякий мог получить приглашение к нему на воскресенье и полюбоваться Крест-хиллом, и многие рьяные прожектеры, не подозревая о том, как наглухо, по-наполеоновски, дядюшка отделил в своем сознании Крест-хилл от всяких иных своих дел, пытались умаслить его при помощи какой-нибудь черепицы, вентиляторов или новой электрической арматуры. В воскресное утро, если только погода благоприятствовала, едва отделавшись от завтрака и от секретарей, дядюшка с многочисленной свитой отправлялся на постройку – менял и развивал план нового дома, вносил всяческие усовершенствования, громко, с бесконечными «ззз» отдавал приказания самые поразительные, но, как под конец убедились Уэстминстер и подрядчики, практически никуда не годные.








