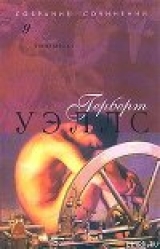
Текст книги "Тоно Бенге"
Автор книги: Герберт Джордж Уэллс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Герберт Уэллс
ТОНО БЕНГЕ
Часть первая
«Дни до изобретения Тоно Бенге»
1. О доме Блейдсовер и моей матери, а также о структуре общества
Большинство людей, по-видимому, разыгрывают в жизни какую-то роль. Выражаясь театральным языком, у каждого из них есть свое амплуа. В их жизни есть начало, середина и конец, и в каждый из этих периодов, тесно связанных между собой, они поступают так, как подсказывает характер исполняемой ими роли. Вы можете говорить о них как о людях того или иного типа. Они принадлежат к определенному классу, занимают определенное место в обществе, знают, чего хотят и что им положено, а когда умирают, соответствующих размеров надгробие показывает, насколько хорошо они сыграли свою роль.
Но бывает жизнь другого рода, когда человек не столько живет, сколько испытывает на себе все многообразие жизни. У одного это происходит в силу неудачного стечения обстоятельств; другой сбивается со своего обычного пути и весь остаток жизни живет не так, как ему хотелось бы, перенося одно испытание за другим.
Вот такая жизнь выпала мне на долю, и это побудило меня написать нечто вроде романа. Моя память хранит множество необычных впечатлений, и мне не терпится как можно скорее поведать их читателю.
Довольно близко я познакомился с жизнью самых различных слоев общества. Меня считали своим человеком люди, стоявшие на различных ступенях общественной лестницы. Я был незваным гостем своего двоюродного дяди – пекаря, впоследствии умершего в чатамской больнице. Я утолял голод кусками, которые тайком приносили мне лакеи из барской кухни. Меня презирала за отсутствие внешнего лоска дочь конторщика газового завода. Она вышла за меня замуж, а затем развелась со мной. Однажды (уж если говорить о другом полюсе моей карьеры) я был – о блестящие дни! – на приеме в доме графини. Правда, она приобрела этот титул за деньги, но все же, знаете, это была графиня. Я видел этих людей в самых разнообразных обстоятельствах. Мне доводилось сидеть за обеденным столом не просто с титулованными особами, но даже с великими людьми. Как-то раз (это – самое дорогое мое воспоминание) в пылу взаимного восхищения я опрокинул бокал шампанского на брюки величайшего государственного деятеля империи – не назову его имени, чтобы, упаси бог, не прослыть хвастуном.
А однажды (хотя это чистейшая случайность) я убил человека…
Да, я видел жизнь во всем ее многообразии и встречал уйму разных людей. И великие и малые – весьма любопытный народ; по своей сущности они удивительно похожи друг на друга, но до курьеза разнятся по внешнему виду. Я сожалею, что, завязав столь многочисленные знакомства, не поднялся в самые высокие сферы и не спустился в самые низы. Было бы презабавно, например, сблизиться с особами королевского дома. Однако мое знакомство с принцами ограничивалось лишь тем, что я лицезрел их на публичных торжествах. Нельзя назвать тесным и мое общение с теми запыленными, но симпатичными людьми, что шатаются летом по большим дорогам, пьяные, но en famille[1]1
по-семейному, в кругу своей семьи (франц.)
[Закрыть] (искупая таким образом свои маленькие грешки), с детскими колясками, кучей загорелых ребятишек, с подозрительными узлами, вид которых наводит на некоторые размышления, и продают лаванду. Землекопы, батраки, матросы, кочегары и другие завсегдатаи пивных остались вне поля моего зрения, и я, думаю, никогда теперь их не узнаю. Мои отношения с особами герцогского звания тоже носили случайный характер. Однажды я отправился на охоту с одним герцогом и, по всей вероятности, в припадке снобизма изо всех сил старался прострелить ему ногу. Но промахнулся. Я сожалею, однако, что мое знакомство ограничилось лишь этим эпизодом, хотя…
Вы спросите, благодаря каким личным достоинствам я смог проникнуть в столь различные слои общества и увидеть в поперечном разрезе британский социальный организм? Благодаря среде, в которой я родился. Так всегда бывает в Англии. Впрочем, так бывает везде, если я могу себе позволить столь широкое обобщение. Но это между прочим.
Я племянник своего дяди, а мой дядя не кто иной, как Эдуард Пондерво, который, словно комета, появился на финансовом небосклоне – да, теперь уже десять лет назад! Вы помните карьеру Пондерво – я имею в виду дни славы Пондерво? Быть может, вы имели даже какой-нибудь пустячный вклад в одном из его грандиозных предприятий? Тогда вы знаете его очень хорошо. Оседлав Тоно Бенге, он, подобно комете или, скорее, как гигантская ракета, взлетел в небесный простор, и вкладчики с благоговейным страхом заговорили о новой звезде. Достигнув зенита, он взорвался и рассыпался созвездием новых удивительных предприятий. Что за время это было! В этой сфере он был прямо-таки Наполеоном!..
Я был его любимым племянником и доверенным лицом и в продолжение всего фантастического пути дядюшки крепко держался за фалды его сюртука. Еще до того как он начал свою головокружительную карьеру, я помогал ему изготовлять пилюли в аптекарской лавочке в Уимблхерсте. Можете считать меня тем трамплином, с которого устремилась ввысь его ракета. После нашего молниеносного взлета, после того как дядя играл миллионами и сыпался с небес золотой дождь, после того как мне довелось осмотреть с высоты птичьего полета весь современный мир, я очутился на берегу Темзы – в царстве палящего жара печей и грохота молотов, среди подлинной железной реальности; я упал сюда, утративший юность, постаревший на двадцать два года, возможно, слегка напуганный и потрясенный, но зато обогащенный жизненным опытом, и намерен теперь поразмыслить над всем пережитым, разобраться в своих наблюдениях и набросать эти беглые заметки. Все, что я пишу о взлете, не только плод моей фантазии. Апогеем моей и дядиной карьеры явился, как известно, наш полет через Ла-Манш на «Лорде Робертсе Бета».
Я хочу предупредить читателя, что моя книга не будет отличаться стройностью и последовательностью изложения. Я задался целью проследить траекторию своего (а также и дядиного) полета по небосклону нашего общества, и, поскольку это мой первый роман (и почти наверняка последний), я намерен включить в него все, что поражало и забавляло меня, все свои пестрые впечатления, хотя они и не имеют прямого отношения к рассказу. Я хочу рассказать и о своих любовных переживаниях, пусть даже несколько странных, ибо они принесли мне немало беспокойства, угнетали меня, заставили изрядно поволноваться; в них я и до сих пор нахожу много нелепого и спорного, и мне кажется, что они станут понятнее, если я изложу все на бумаге. Возможно, я возьму на себя смелость описать людей, с которыми встречался лишь мимоходом, так как нахожу интересным припоминать, что они говорили и делали для нас, а особенно как вели себя в дни кратковременного, но ослепительного сияния Тоно Бенге и его еще более блестящих отпрысков. Могу заверить вас, что кое-кого из этих людей блеск Тоно Бенге осветил с ног до головы!
По существу, мне хочется написать в своей книге чуть ли не обо всем. Я рассматриваю роман как нечто всеобъемлющее…
О Тоно Бенге все еще кричат многочисленные рекламные щиты, на полках аптекарских магазинов все еще красуются ряды флаконов с этим бальзамом, он все еще успокаивает старческий кашель, зажигает в глазах огонь жизни и делает старцев остроумными, как в юности, но его всеобщая известность, его финансовый блеск угасли навсегда. А я – единственный, хотя и сильно опаленный человек, но все же уцелевший после пожара, – сижу здесь, в никогда не смолкающем лязге и грохоте машин, за столом, покрытым чертежами, частями моделей, заметками с вычислениями скоростей, воздушного и водяного давления и траекторий, но все это уже не имеет никакого отношения к Тоно Бенге.
Перечитав написанное, я задаю себе вопрос: правильно ли я изложил все то, о чем собираюсь сказать? Не создается ли впечатление, что я намерен сделать нечто вроде винегрета из анекдотов и своих воспоминаний, где дядя будет самым заманчивым куском? Признаюсь, что только теперь, приступив к своему повествованию, я понял, с каким обилием ярких впечатлений, бурных переживаний, укоренившихся точек зрения мне придется иметь дело и что моя попытка создать книгу окажется в известном смысле безнадежной. Я полагаю, что в действительности пытаюсь описать не более, не менее, как самое Жизнь, жизнь, увиденную глазами одного человека. Мне хочется написать о самом себе, о своих впечатлениях, о жизни вообще, рассказать, как остро воспринимал я законы, традиции и привычки, господствующие в обществе, о том, как нас, несчастных одиночек, гонят силой или заманивают на пронизываемые ветрами отмели и запутанные каналы, а потом бросают на произвол судьбы. Полагаю, что я вступил в тот период жизни, когда окружающее перестает быть только материалом для мечтаний, а начинает приобретать некую реальность и становится интересным само по себе. Я достиг того возраста, когда человек тянется к перу, когда в нем пробуждается критический дух, и вот я взялся за роман, пишу свой собственный роман, не обладая той опытностью, которая, как мне кажется, помогает профессиональному писателю безошибочно избегать повторений и излишних подробностей.
Я прочел довольно много романов, пробовал писать сам и обнаружил, что не могу подчиняться законам этого искусства, как я их себе представляю. Я люблю писать, меня очень увлекает это занятие, но это совсем не то, что моя техника. Я инженер, автор нескольких запатентованных изобретений и открытий. У меня своя система идей. Если у меня и есть какой-то талант, то я почти целиком посвятил его работе над турбинами, кораблестроению и решению проблемы полетов, и, несмотря на все мои усилия, мне ясно, что я рискую оказаться слишком многословным и неумелым рассказчиком. Боюсь, что я потону в море фактов, если буду останавливаться на мелочах или путаться в деталях, давать пояснения или рассуждать, тем более что мне придется рассказывать о действительных событиях, а не о чем-то вымышленном. Мою любовную историю, например, нельзя уложить в рамки обычного повествования, но если я до конца сохраню свою теперешнюю решимость быть правдивым, то вы узнаете эту историю полностью. В ней замешаны три женщины, и она тесно переплетается с другими обстоятельствами моей жизни…
Надеюсь, что всего сказанного достаточно и читатель примирится с моим методом повествования или с отсутствием его, и теперь я могу без промедления перейти к рассказу о своем детстве и о ранних впечатлениях под сенью дома Блейдсовер.
Наступило время, когда я понял, что Блейдсовер – это совсем не то, чем он мне казался, но в детстве я совершенно искренне считал, что он представляет в миниатюре вселенную. Я верил, что блейдсоверская система является маленькой действующей моделью – кстати, не такой уж маленькой – всего мира.
С вашего разрешения, я попытаюсь охарактеризовать значение Блейдсовера.
Блейдсовер находится на Кентской возвышенности, примерно милях в восьми от Ашборо. Из его деревянной старенькой беседки – маленькой копии храма Весты в Тибуре, – построенной на вершине холма, открывается (правда, скорее теоретически, чем в действительности) вид на Ла-Манш к югу и на Темзу – к северо-востоку. Его парк – второй по величине в Кенте; он состоит из эффектно рассаженных буков, вязов и каштанов, изобилует небольшими лужайками и заросшими папоротником ложбинками, где текут ручьи и вьется небольшая речка; в нем имеется три прекрасных пруда, а в зарослях бродит множество ланей. Дом из светло-красного кирпича построен в восемнадцатом веке в стиле французского chateau[2]2
замок (франц.)
[Закрыть]; все его сто семнадцать окон выходят на обширную и благоустроенную территорию усадьбы, и только с башни видны между вершинами холмов голубые просторы, далекие, увитые хмелем фермы, зеленые заросли и поля пшеницы, среди которых кое-где поблескивает вода. Полукруглая стена огромных буков заслоняет церковь и деревню, живописно расположенную вдоль большой дороги, на опушке старого парка. К северу, в самом дальнем углу поместья, находится вторая деревня – Ропдин. Жизнь в этой деревне была более тяжкой не только из-за отдаленности от поместья, но и по вине ее священника. Этот духовный отец был богатым человеком, но наводил суровую экономию, так как церковные сборы все уменьшались и поступали неаккуратно. Он употреблял слово «евхаристия» вместо «тайная вечеря» и в результате потерял расположение высокопоставленных дам Блейдсовера. Вот почему Ропдин в годы моего детства находился как бы в опале.
Огромный парк и красивый большой дом, занимавшие господствующее положение над церковью, деревней и всей окружающей местностью, невольно внушали мысль о том, что они самое главное в этом мире, а все остальное существует лишь, поскольку существуют они. Этот парк и дом олицетворяли дворянство, господ, которые милостиво позволяли дышать, работать и существовать всему остальному миру, фермерам и рабочему люду, торговцам Ашборо, старшим и младшим слугам и всем служащим поместья. Господа делали это с таким естественным и непринужденным видом, величественный дом настолько казался неотъемлемой частью всего окружающего, а контраст между его обширным холлом, гостиными, галереями, просторными комнатами экономки, служебными помещениями и претенциозным, но жалким жилищем священника, тесными и душными домиками почтовых служащих и бакалейщика был так велик, что иного предположения не могло возникнуть. Лишь когда мне исполнилось тринадцать-четырнадцать лет и наследственный скептицизм заставил усомниться в том, что священник Бартлетт действительно знает о боге решительно все, я мало-помалу начал подвергать сомнению и право дворянства на его особое положение и его необходимость для окружающего мира. Пробудившийся скептицизм быстро завел меня довольно далеко. К четырнадцати годам я совершил несколько ужасных кощунств и святотатств: решил жениться на дочери виконта и, взбунтовавшись, поставил синяк под левым глазом, – думаю, что это был левый глаз, – ее сводному брату.
Но об этом в свое время.
Огромный дом, церковь, деревня, работники и слуги всевозможных разрядов и положений – все это казалось мне, как я сказал, вполне законченной социальной системой. Вокруг нас были расположены другие деревни и обширные поместья, куда постоянно наезжали, навещая друг друга, тесно связанные между собой, породнившиеся великолепные олимпийцы – дворяне. Провинциальные города представлялись мне простым скоплением магазинов и рынков, предназначенных для господских арендаторов, центрами, где они получали необходимое образование, причем существование этих городов еще в большей мере зависело от дворянства, чем существование деревень. Я думал, что и Лондон – это всего лишь большой провинциальный город, в котором дворянство имеет свои городские дома и производит необходимые закупки под августейшей сенью величайшей из дворянок – королевы.
Таким, казалось мне, был порядок, установленный на земле самим господом богом.
Даже в то время, когда Тоно Бенге получил широкую известность во всем мире, мне и в голову не приходило, что весь этот великолепный порядок вещей уже подточен в корне, что уже действуют враждебные силы, способные скоро отправить в преисподнюю всю эту сложную социальную систему, в которой я должен был, как настойчиво внушала мне мать, осознать свое «место».
Еще и сейчас в Англии есть немало людей, предпочитающих не задумываться над этим. Иной раз я сомневаюсь, отдает ли себе отчет кто-нибудь из англичан, насколько существующий ныне социальный строй уже изжил себя. В парках по-прежнему стоят огромные дома, а коттеджи, до самых карнизов увитые хмелем, располагаются на почтительном расстоянии. Английская провинция – вы можете убедиться в этом, пройдя по Кенту на север от Блейдсовера, – упрямо настаивает, что она и в самом деле такая, какой кажется. Это напоминает погожий день в начале октября. Лежащая на всем неощутимая и незримая рука будущих перемен словно отдыхает, прежде чем начать свою сокрушительную работу. Но стоит ударить морозу, и все вокруг обнажится, и пышная мишура нашего лицемерия будет лежать, рдея, подобно опавшим листьям, в грязи.
Но это время пока еще не наступило. Контуры нового порядка, возможно, уже в значительной мере обозначились, но подобно тому, как при показе «туманных картин» (так называли в деревне проекционный фонарь) прежнее изображение еще отчетливо сохраняется в вашей памяти, а новое некоторое время еще не совсем определилось, несмотря на свои яркие и резкие линии, новая Англия, Англия наших внуков, пока остается загадкой для меня. Англичанин никогда серьезно не думал о демократии, равенстве и тем более о всеобщем братстве. Но о чем же он думает? Я надеюсь, что моя книга в какой-то мере ответит на этот вопрос. Наш народ не тратит слов на формулы – он бережет их для острот и насмешек. А между тем старые отношения остались, они лишь слегка видоизменились и продолжают меняться, прикрывая нелепые пережитки.
После смерти престарелой леди Дрю блейдсоверский дом перешел вместе со всей обстановкой к сэру Рубену Лихтенштейну. В те дни, когда дядя в результате операций с Тоно Бенге был в зените своей карьеры, мне захотелось посетить этот дом, где моя мать столько лет прослужила экономкой, и я испытал странные ощущения. Нельзя было не заметить некоторых курьезных изменений, происшедших в доме с появлением новых владельцев. Заимствуя образ из своей минералогической практики, замечу, что эти евреи являлись не столько новым английским дворянством, сколько «псевдоморфозой»[3]3
Псевдоморфоза – ложная форма, минеральное образование, внешняя форма которого не отвечает его составу и внутреннему строению.
[Закрыть] дворянства. Евреи – очень хитрый народ, но им не хватает ума, чтобы скрыть свою хитрость. Я сожалею, что мне не удалось побывать внизу и выяснить, каковы настроения на кухне. Можно допустить, что они резко отличались от того настроения, которое там царило раньше. Я обнаружил, что находившееся по соседству поместье Хаукснест также имело своего псевдоморфа: это поместье приобрел издатель газеты, из тех, что бросаются с ворованными идеями от одного шумного и рискованного предприятия к другому. Редгрейв был а руках пивоваров.
Но люди в деревнях, насколько я мог заметить, не ощущали изменений в своем мире. Когда я проходил по деревне, две маленькие девочки неуклюже присели, а старый рабочий поспешил притронуться к шляпе. Он все еще воображал, что знает и мое и свое место. Я не знал этого рабочего, но мне бы очень хотелось спросить его, помнит ли он мою мать и отнесся бы с таким же почтением к моему дяде и старику Лихтенштейну, если бы они появились на улице.
В английской провинции в пору моего детства каждое человеческое существо имело свое «место». Оно принадлежало вам от рождения, подобно цвету глаз, и определяло ваше положение в жизни. Над вами стояли высшие, под вами – низшие; кроме того, имелось несколько сомнительных фигур, положение которых было весьма спорным, но в повседневной жизни мы считали их равными себе.
Главой и центром нашей системы была «ее милость» леди Дрю, старая-престарая, сморщенная и болтливая, но прекрасно помнившая все родословные. Ее неразлучной спутницей была такая же древняя мисс Соммервиль – ее кузина и компаньонка. Эти старухи жили, подобно двум высохшим зернам, в огромной скорлупе Блейдсовера, некогда переполненного веселыми щеголями, изящными, напудренными дамами с мушками и изысканными джентльменами при шпагах. Если не было гостей, старухи целые дни проводили в угловой гостиной, как раз над комнатой экономки, посвящая свое время чтению, сну и уходу за двумя комнатными собачками. В детстве эти старенькие дамы представлялись мне какими-то высшими существами, обитающими, подобно богу, где-то над потолком. Иногда они производили легкий шум, а по временам даже слышались их голоса, и это придавало им некоторую реальность, не лишая их, конечно, превосходства над нами. Изредка мне удавалось видеть их. Конечно, если я встречал их в парке или в кустарнике (где занимался браконьерством), я прятался или, охваченный священным трепетом, убегал подальше, но случалось, что меня призывали «предстать перед старой леди». Я запомнил, что «ее милость» была в платье из черного шелка, с золотой цепочкой на груди, запомнил ее дрожащий голос, которым она внушала мне быть «хорошим мальчиком», ее сморщенные, с обвислой кожей лицо и шею и липкую руку, сунувшую мне полкроны. Позади «ее милости» выступала мисс Соммервиль – еще менее заметное создание в платье лилового цвета с черной и белой отделкой. Ее прищуренные глаза были прикрыты рыжеватыми ресницами. У нее были желтые волосы и яркий цвет лица. Зимними вечерами, когда мы грелись у камина в комнате экономки и попивали настойку бузины, горничная мисс Соммервиль выдавала нам несложные секреты этого запоздалого румянца… После драки с молодым Гервеллом я, разумеется, был изгнан и никогда больше не видел этих старых крашеных богинь.
В апартаментах старух над нашими смиренными головами время от времени собиралось избранное общество. Я редко лицезрел самих гостей, но имел о них отчетливое представление, так как встречался в комнатах экономки и дворецкого с их горничными и лакеями, а они в точности копировали манеры и привычки своих господ. Я понял, что никто в этом обществе не был ровней леди Дрю: одни занимали более высокое положение, чем она, другие – более низкое, как вообще бывает в этом мире.
Я помню, что однажды Блейдсовер посетил принц, которому прислуживал настоящий джентльмен. Принц занимал в обществе несколько более высокое положение, чем наши обычные гости, и это взволновало нас и, возможно, породило какие-то чересчур радужные ожидания. Но вскоре дворецкий Реббитс появился в комнате моей матери со слезами на глазах, весь красный от негодования.
– Взгляните-ка на это! – задыхаясь от негодования, воскликнул Реббитс.
Мать онемела от ужаса. Это оказалось совереном, всего только совереном, который вы можете получить и от простого смертного!
Мне припоминается, что после разъезда гостей в доме наступали беспокойные дни: несчастные старухи наверху, утомленные своими великосветскими обязанностями, становились сердитыми к придирчивыми, переживали упадок физических и духовных сил…
К олимпийцам, занимавшим низшее положение, непосредственно примыкало духовенство, а за ним шли сомнительные существа – не господа, но и не слуги. Духовенство, несомненно, занимает самостоятельное место в английской общественной системе, и в этом отношении церковь за последние двести лет достигла прямо-таки удивительного прогресса. В начале восемнадцатого столетия священник считался, пожалуй, ниже дворецкого и рассматривался как подходящая пара для экономки или какой-нибудь не слишком опустившейся особы. В литературе восемнадцатого столетия священник нередко сетует, что его лишают места за столом и не дают отведать воскресного пирога. Обилие младших сыновей позволило ему подняться над всеми унижениями. Именно такие мысли приходят мне на ум, когда я встречаюсь с высокомерностью современного священнослужителя. Интересно, что в настоящее время школьный учитель, это угнетенное создание, играющее в деревенской церкви на органе, занимает, по существу, то же самое положение, какое занимал приходский священник в семнадцатом столетии. Доктор в Блейдсовере стоял ниже священника, но выше ветеринара; артисты и случайные визитеры размещались где-то выше или нижи этого уровня – в зависимости от их внешности и кошелька; за ними в строгом порядке шли арендаторы, дворецкий и экономка, деревенский лавочник, старший сторож, повар, трактирщик, младший сторож, кузнец (положение которого осложнялось у нас тем, что его дочь заведовала почтовой конторой, где она беззастенчиво перевирала телеграммы), старший сын лавочника, старший ливрейный лакей, младшие сыновья лавочника, его старший помощник и т.д.
Все эти представления об иерархии и многое другое я впитал в себя в Блейдсовере, слушая болтовню лакеев, горничных, Реббитса и моей матери в чисто выбеленной, с панелями из лощеного ситца, заставленной шкафами комнате экономки, где собирались старшие слуги; я слыхал обо всем этом также от ливрейных лакеев, Реббитса и других слуг в обитой зеленым сукном и обставленной виндзорскими креслами буфетной, где Реббитс, считая себя выше закона, без разрешения и без зазрения совести торговал пивом; от служанок и кладовщиц в мрачной кладовке, где пол был устлан циновками, или от кухарки, ее товарок и судомоек в кухне, среди блестящей медной посуды, отражающей пламя очага.
Конечно, в разговоре они не касались своих собственных званий и мест, которые они занимали, это лишь подразумевалось; речь шла преимущественно о чинах и положении олимпийцев. На маленьком туалетном столике, что стоял у стены между шкафами в комнате моей матери, вместе с кулинарными книгами лежала «Книга пэров», «Крокфорд», «Альманах Уайтэкера», «Альманах Старого Мавра» и словарь восемнадцатого века; в буфетной валялась другая «Книга пэров» с оторванной обложкой, а в бильярдной комнате – еще одна «Книга пэров». Помнится, такая же книга была и в той комнате самой нелепой формы, где старшие слуги играли в багатель и после званых обедов отдавали должное остаткам сластей. И если бы вы спросили любого из этих старших слуг, в какой степени родства находится принц Баттенбергский, скажем, с мистером Каннингемом Грэхэмом или герцогом Аргильским, вы получили бы исчерпывающий ответ. В детстве я слыхал множество подобных разговоров, и если все еще не слишком твердо усвоил, когда и как нужно правильно употреблять настоящие и присваиваемые из вежливости титулы и звания, то лишь потому, что питаю отвращение ко всему этому, ибо, уверяю вас, имел полную возможность в совершенстве изучить столь «важные» детали.
Образ моей матери ярче всего сохранился у меня в памяти; мать не любила меня, так как я с каждым днем все больше и больше походил на отца, и хорошо знала свое место, как и место всякого другого человека, исключая моего отца и до некоторой степени меня самого. К ее помощи прибегали, когда требовалось решить какой-нибудь сложный и тонкий вопрос. Я и сейчас слышу, как она говорит: «Нет, мисс Файзон, пэры Англии идут впереди пэров Соединенного королевства, а он всего лишь пэр Соединенного королевства». Она обладала большим опытом в размещении слуг вокруг своего чайного стола, где этикет соблюдался очень строго. Иногда я спрашиваю себя: придерживаются ли такого же строгого этикета в комнатах современных экономок и как моя мать отнеслась бы, например, к шоферу?
В общем, я рад, что так глубоко изучил Блейдсовер, рад хотя бы потому, что, поверив на первых порах по своей наивности во все увиденное, позднее я разобрался в этом, и мне открылось в структуре английского общества много такого, что иначе оставалось бы для меня совершенно непостижимым. Я убежден, что Блейдсовер – это ключ ко всему истинно английскому и загадочному для стороннего наблюдателя. Твердо уясните себе, что двести лет назад вся Англия представляла собой один сплошной Блейдсовер; страна за это время не пережила настоящей революции, если не считать кое-каких избирательных и других реформ, оставивших нетронутыми основы блейдсоверской системы, а все новое, отличающееся от прежнего, рассматривалось как дерзкое посягательство на старые устои или же воспринималось с преувеличенной восторженностью, хотя, в сущности, представляло собой лишь лакировку старого быта.
Если вы уясните себе все это, вам станет понятно, в силу какой необходимости возник и развился тот снобизм, который является отличительным свойством англичанина. Каждый, кто фактически не находится под сенью какого-нибудь Блейдсовера, постоянно как бы разыскивает потерянные ориентиры. Мы никогда не рвали со своими традициями, никогда, даже символически, не потрясали их, как это сделали французы в период террора. Но все наши организующие идеи обветшали, старые, привычные связи ослабли или полностью распались. И Америку можно назвать оторвавшейся и удаленной частью этого столь своеобразного разросшегося поместья. Георг Вашингтон, эсквайр, происходил из дворянского рода и чуть было не стал королем. Знаете ли вы, что стать королем Вашингтону помешал Плутарх, а вовсе не то обстоятельство, что он был американцем?
Больше всего в Блейдсовере я ненавидел вечернее чаепитие в комнате экономки. Особенно ненавистна была мне эта церемония в те дни, когда у нас гостили миссис Мекридж, миссис Буч и миссис Лейтюд-Ферней. Некогда все трое были служанками, а теперь жили на пенсию. Так старые друзья леди Дрю посмертно награждали своих верных слуг за длительные заботы об их житейских удобствах; миссис Буч, кроме того, была опекуншей любимого скайтерьера своих покойных господ.
Ежегодно леди Дрю посылала этим особам приглашение на чай в качестве поощрения за добродетель и в виде назидания моей матери и служанке мисс Файзон. Они сидели вокруг стола в черных, блестящих, с оборками платьях, украшенных гипюром и бисером, поддерживали с важным видом разговор и поглощали огромное количество кекса и чая.
Память рисует мне этих женщин существами весьма внушительных размеров. В действительности они не отличались высоким ростом, но тогда казались мне просто великаншами, так как сам я был маленьким. Они угрожающе вырастали на моих глазах, неимоверно разбухали, надвигались на меня.
Миссис Мекридж была рослой смуглой женщиной. Со своей головой она проделывала поистине чудеса: будучи лысой, она носила величественный чепец, а на лбу, над бровями, у нее были нарисованы волосы. Ничего подобного я с тех пор никогда больше не видел. Она служила у вдовы сэра Родерика Блендерхессета Импи – не то бывшего губернатора, не то какой-то другой высокопоставленной персоны в Ост-Индии. Леди Импи, судя по тому, что восприняла от нее миссис Мекридж, была крайне высокомерным созданием. Леди Импи обладала внешностью Юноны. Это была надменная, недоступная женщина с язвительным складом ума, склонная к злой иронии. Миссис Мекридж не отличалась ее остроумием, но вместе со старым атласом и отделкой платьев своей госпожи унаследовала язвительный тон и изысканные манеры. Сообщая, что утро нынче чудесное, она, казалось, говорила вам, что вы дурак, дурак с головы до пят. Когда к ней обращались, она отвечала на ваш жалкий писк таким громогласным и презрительным «как?», что у вас появлялось желание сжечь ее заживо. Особенно неприятное впечатление производила ее манера изрекать «действительно!», прищуривая при этом глаза.
Миссис Буч была миниатюрнее. У нее были каштановые волосы, свисавшие забавными кудряшками по обеим сторонам лица, большие голубые глаза и небольшой запас стереотипных фраз, свидетельствовавших о ее ограниченности.








