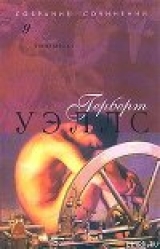
Текст книги "Тоно Бенге"
Автор книги: Герберт Джордж Уэллс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Ее глаза улыбались и требовали, чтобы я вспомнил все до мелочи. Подняв глаза, я встретил ее взгляд и немножко растерялся, не зная, что сказать.
– Я с головой выдала вас тогда, – сказала она, задумчиво разглядывая меня. – А потом выдала и Арчи.
Она отвернулась от остальных и чуть понизила голос.
– Ему порядком досталось за то, что он лгал, – сказала она так, словно ей и сейчас приятно было вспомнить это. – А когда все кончилось, я пошла в вигвам. Вы не забыли наш вигвам?
– В Западном лесу?
– Да… и плакала там, наверно, потому, что была так виновата перед вами… Я и потом часто думала об этом.
Леди Оспри остановилась, поджидая нас.
– Дорогая моя, – сказала она падчерице. – Взгляни, какая прелестная галерея!
Потом посмотрела на меня в упор с откровенным недоумением: что это еще за птица?
– Многим очень нравится эта удобная лестница, – заметила тетя Сьюзен и пошла вперед.
Леди Оспри одной рукой подобрала подол платья, готовясь подняться на галерею, другой взялась за перила и, обернувшись, кинула Беатрисе многозначительный взгляд, да, весьма многозначительный. Прежде всего он, несомненно, говорил, что со мною следует вести себя поосмотрительнее, но сверх того он был и сам по себе полон значения. Я случайно перехватил в зеркале ответ Беатрисы: она сморщила носик, и на губах у нее промелькнула злобная усмешка. Румянец на щеках леди Оспри стал еще гуще, она просто онемела от негодования и стала подниматься вслед за тетей Сьюзен, всем своим видом показывая, что полностью снимает с себя ответственность за дальнейшее.
– Здесь мало света, но во всем чувствуется какое-то благородство, – громко сказала Беатриса, с невозмутимым спокойствием осматривая холл и, по-видимому, не торопясь догонять их. Она стояла ступенькой выше и глядела на меня и на старый холл немножко свысока.
Дождавшись, когда мачеха поднялась на галерею и уже ничего не могла слышать, она вдруг спросила:
– Но как вы здесь очутились?
– Здесь?
– Среди всего этого. – И широким, неторопливым жестом она обвела холл, и высокие окна, и залитую солнцем террасу перед домом. – Разве вы не сын экономки?
– Я пошел на риск. Мой дядя стал… крупным финансистом. Когда-то у него была маленькая аптека милях в двадцати от Блейдсовера, а теперь мы ворочаем делами, растем не по дням, а по часам – словом, вышли в тузы, в герои нашего времени.
– Понимаю, – сказала она, глядя на меня заинтересованным, оценивающим взглядом.
– А вы меня узнали? – спросил я.
– Почти сразу. Вы ведь тоже меня узнали, я видела. Только я не могла сообразить, кто вы, но знала, что мы уже встречались. А потом ведь там был Арчи, это помогло мне вспомнить.
– Я так рад, что мы опять встретились, – осмелился я сказать. – Я никогда не забывал вас.
– Да, то, что было в детстве, не забывается.
С минуту мы смотрели друг на друга без всякого смущения, очень довольные, что мы снова вместе. Трудно сказать, почему нас потянуло друг к другу. Так уж случилось. Мы нравились друг другу, и ни один из нас в этом не сомневался. С самого начала нам было легко и просто вдвоем.
– Ах, как живописно, как необыкновенно живописно! – донеслось до нас с галереи, и сразу же: – Беатриса!
– Я хочу знать о вас решительно все, – сказала она как-то особенно доверчиво, когда мы поднимались по витой лестнице.
Пока мы все четверо пили чай под сенью кедра на террасе, она расспрашивала меня о моих занятиях аэронавтикой. Тетя Сьюзен вставила словечко-другое о том, как я ухитрился сломать себе ребра. Леди Оспри, видимо, считала полеты самой неприличной и неуместной темой разговора – кощунственным вторжением в ангельские сферы.
– Это не полеты, – объяснил я. – Мы еще, в сущности, не летаем.
– И никогда не будете летать, – отрезала она. – Никогда.
– Что ж, – сказал я. – Каждый делает, что может.
Леди Оспри приподняла свою маленькую руку, затянутую в перчатку, фута на четыре над землей.
– Вот так, – сказала она. – Вот так. И не выше этого. – Щеки ее побагровели. – Не выше, – повторила она самым решительным тоном и отрывисто кашлянула.
– Благодарю вас, – сказала она, разделавшись то ли с девятым, то ли с десятым пирожным.
Беатриса громко рассмеялась, весело поглядывая на меня. Я расположился на траве, и, быть может, это и заставило леди Оспри смутно вспомнить об изгнании из рая.
– «Ты будешь ходить на чреве твоем, во все дня жизни твоей», – негромко и внушительно произнесла она.
После чего мы больше не говорили о воздухоплавании.
Беатриса сидела, забившись в кресло, и смотрела на меня так же испытующе, с тем же дерзким вызовом, как когда-то во время чаепития у моей матери. Просто удивительно, она ничуть не изменилась – маленькая принцесса моих блейдсоверских дней: все так же упрямы и непокорны вьющиеся волосы, и голос тот же, а казалось бы, все это должно было неузнаваемо измениться. Она по-прежнему была скорой на выдумку, опрометчивой и решительной.
Беатриса неожиданно поднялась.
– А что там, за террасой? – спросила она, и я тотчас оказался около нее.
И, конечно, объявил, что оттуда открывается необыкновенно красивый вид.
Она отошла в противоположный угол террасы, подальше от кедра, вспрыгнула на парапет и, очень довольная, уселась на замшелых камнях.
– А теперь рассказывайте о себе, – потребовала она. – Все, все расскажите. Мои знакомые мужчины такие тупицы! И все они делают одно и то же. Но как же вы-то здесь очутились? Все мои знакомые всегда здесь были. Не родись они тут, они бы никогда сюда носа не показали. Сочли бы, что это не по праву. Но вы одолели этот подъем.
– Если это можно назвать подъемом, – ответил я.
Она круто переменила тему разговора:
– Это… не знаю, поймете ли вы… это так интересно – опять встретиться с вами. Я помнила вас. Сама не знаю почему, но вот помнила. Вы всегда были действующим лицом в каждой сказке, которой я себя тешила. Но только вы были какой-то неуловимый, как тень, и такой неподатливый, упрямый… в костюме из магазина готового платья… Какой-нибудь лейборист, член парламента, второй Бредлаф или что-нибудь в этом роде. А вы… ну ни капельки не такой. И все же такой!
Она посмотрела на меня.
– Пришлось выдержать серьезную борьбу? Говорят, это неизбежно. А я не понимаю почему.
– Нет, – сказал я. – Меня занесло сюда случайно. И не было никакой борьбы. Разве только за то, чтоб остаться честным. И не я тут главная фигура. Мы с дядей придумали одно лекарство, и оно-то вознесло нас так высоко. Тут нет никакой заслуги! Но вы-то всегда обитали на этих высотах. Расскажите, что вы делали все эти годы.
– Одного мы так и не сделали. – Она задумалась на минуту.
– Что именно? – спросил я.
– Мы не произвели на свет маленького братца – наследника Блейдсовера, и его прибрали к рукам Филбрики. И теперь сдают его внаем! И мы с мачехой поселились в крохотном домишке, а свой тоже сдаем.
Беатриса мотнула головой, указывая куда-то в сторону.
– Ну, что ж, предположим, что это случайность. А все-таки вы здесь! А раз вы здесь, что вы намерены делать дальше? Вы еще молоды. Подумываете о парламенте? На днях я слышала, как про вас говорили. Я тогда еще не знала, что это вы. Говорили, что вам прямая дорога в парламент…
Она допытывалась о моих намерениях с живым и настойчивым любопытством. Совсем так же она много лет назад пыталась вообразить меня солдатом и найти мне место в мире. Она заставила меня яснее, чем когда-либо, почувствовать, что я не хозяин своей судьбы, а игрушка случая.
– Вот вы хотите построить летательный аппарат, – продолжала она. – А когда вы полетите, тогда что? Это будет машина для войны?..
Я рассказал ей кое-что о моих опытах. Она никогда не слыхала о машине, парящей в воздухе, пришла в восторг от одной мысли об этом и стала жадно расспрашивать. Она думала, что до сих пор все сводилось к фантастическим проектам, к машинам, которым не суждено летать. Поскольку это касалось Беатрисы, Пилчер и Лилиенталь погибли напрасно. Она просто не знала, что существовали на свете такие люди.
– Но ведь это опасно! – воскликнула она, осененная внезапной догадкой. – О, это так опасно!..
– Беа-триса! – послышался голос леди Оспри.
Беатриса спрыгнула с парапета.
– Где вы летаете?
– По ту сторону холмов. К востоку от Крест-хилла, за лесом.
– А если прийти посмотреть? Не возражаете?
– Пожалуйста, когда хотите. Только предупредите меня…
– Как-нибудь я отважусь. Как-нибудь на днях.
Она задумчиво поглядела на меня, улыбнулась – на этом разговор кончился.
Все мои дальнейшие работы в области аэронавтики неотделимы в моей памяти от Беатрисы, от ее неожиданных появлений, от ее слов и поступков, от моих мыслей о ней.
В ту весну я сконструировал летательный аппарат, которому не хватало лишь одного – продольной устойчивости лонжерона. Моя модель летала, как птица, ярдов пятьдесят, а то и сто, а потом либо пикировала и ломала нос, либо чаще всего запрокидывалась на спину и вдребезги разбивала пропеллер. Была в этих падениях последовательность, которая ставила меня в тупик. Я чувствовал, что есть в них какая-то закономерность, но какая именно, пока не знал ни я, ни кто другой. И вот на время я засел за теорию и специальную литературу; я натолкнулся на ряд соображений, которые помогли мне установить правило, названное потом «правилом Пондерво», и стать членом Королевского общества естественных наук. Этому вопросу я посвятил три большие статьи. Тем временем я соорудил модели поворотных кругов и планеров и взялся за осуществление новой идеи скомбинировать воздушный шар с планером. С аэростатом мне еще никогда не приходилось иметь дело. Прежде чем установить газометр, построить особый ангар для аэростатов, я раза два поднялся на воздушных шарах Клуба аэронавтов и на два месяца отправил Котопа к сэру Питеру Рамчейсу. Дядюшка частично финансировал мои опыты: он следил за ними со все растущим, ревнивым интересом, должно быть, потому, что лорд Бум хвалил меня, и еще потому, что тут пахло громкой рекламой, – и это по его просьбе я назвал свой первый управляемый аэростат «Лорд Роберте Альфа».
На «Лорде Робертсе Альфа» едва не закончились мои труды. Как и его более удачный и прославившийся младший брат, «Лорд Роберте Бета», он представлял собою сжимающийся воздушный шар с жестким плоским основанием; шар этот формой напоминал перевернутую лодку и был в состоянии выдержать тяжесть почти всей аппаратуры. Как все удлиненные аэростаты, мой воздушный шар был разделен на секции и не имел внутреннего баллонета. Труднее всего было сделать его сжимающимся. Я пытался добиться этого, покрыв его длинной и частой шелковой сеткой, прикрепленной к двум продольным стержням, на которые она должна была наматываться. Я сжимал свой аэростат-колбасу, стягивая его сеткой. Все мелкие подробности слишком сложны, чтобы описывать их здесь, но я их до тонкости обдумал и тщательно спланировал. «Лорд Роберте Альфа» был снабжен большим передним винтом и кормовым рулем поворота. Мотор у меня был впервые установлен, так сказать, в одной плоскости с самим аэростатом. Я лежал почти вплотную под аэростатом, на своего рода планерном каркасе, на одинаковом расстоянии от мотора и от руля и управлял им при помощи проволочной передачи, устроенной по принципу общеизвестного мотоциклетного бауденова тормоза.
Но в различных трудах по аэронавтике были уже помещены исчерпывающие описания и схемы «Лорда Робертса Альфа». Непредвиденной помехой оказалось плохое качество шелковой сетки. Она порвалась в кормовой части, как только я начал стягивать ею аэростат, и последние два сегмента оболочки вздулись и вылезли из отверстия, как вздувается и вылезает наружу резиновая камера, если продырявить шину, и тут острый край оборванной сети врезался, точно нож, в промасленный шелк прямо по шву последнего вздувшегося сегмента, и с громким треском оболочка лопнула. До этой минуты все шло просто великолепно. Пока я не стал стягивать сетку, «Лорд Роберте Альфа» показывал себя превосходным управляемым воздушным шаром. Он прекрасно вылетел из ангара со скоростью десять миль в час, если не больше, и, хотя с юго-запада дул легкий ветерок, поднялся, повернул и пошел ему навстречу ничуть не хуже любого воздушного корабля, какие мне только приходилось видеть.
Я лежал в той же позе, как обычно на планере, – растянувшись на животе, лицом вниз; механизмы мне не были видны, и поэтому у меня было необычайное ощущение, будто я невесом и лечу сам по себе. Только повернув шею и поглядев наверх, я мог увидеть плоское жесткое дно своего воздушного шара и быстрое, равномерное мелькание лопастей пропеллера, со свистом рассекающих воздух. Я описал широкий круг над «Леди Гров» и Даффилдом, полетел в сторону Эффингхэма и благополучно вернулся к месту вылета.
Внизу я увидел свои освещенные октябрьским солнцем ангары и кучку людей, которых я пригласил быть свидетелями полета: подняв голову, они следили за мной и в полевые бинокли старались рассмотреть, как я выгляжу. Там были Кэрнеби и Беатриса верхом и с ними две незнакомые мне девушки, Котоп и трое или четверо наших рабочих, тетя Сьюзен и ее гостья миссис Ливинстайн – они пришли сюда пешком, – ветеринарный врач Диммок и еще двое или трое. Тень моей машины, похожая на тень рыбы, проскользнула чуть севернее этой группы зрителей. Все слуги «Леди Гров» высыпали на лужайку перед домом, а на площадке перед даффилдской школой толпились дети, но они слишком мало интересовались воздухоплаванием, чтобы оторваться от своих игр. Но ближе к Крест-хиллу, сверху казавшемуся на редкость приземистым и безобразным, всюду небольшими группками и рядами стояли рабочие, никто не занимался своим делом, все глазели на меня, разинув рты. (Впрочем, теперь, когда я пишу эти строки, мне пришло в голову, что ведь тогда было около полудня и, наверно, это было их обеденное время.) Я помедлил минуту-другую, наслаждаясь полетом, потом повернул назад, к ровной, открытой площадке, перевел мотор на полную мощность и пустил в ход катушки, на которые наматывалась сетка, тем самым сжимая воздушный шар. Тотчас сопротивление уменьшилось, и скорость полета возросла…
В эти минуты, пока еще меня не оглушил треск лопнувшей оболочки, я, право же, по-настоящему летел. В тот самый миг, когда мой воздушный шар был сжат до отказа, весь аппарат в целом, я убежден, был тяжелее воздуха. Впрочем, это мое утверждение оспаривали, да и, во всяком случае, такого рода приоритет не имеет особого значения.
Потом движение внезапно замедлилось, и тотчас в невыразимом смятении я почувствовал, что машина клюнула носом. Я по сей день вспоминаю об этом с ужасом. Я никак не мог увидеть, что же случилось, и даже догадаться не мог. Непостижимо и непонятно, почему она нырнула. Казалось, ни с того ни с сего она вздумала брыкаться. Тотчас раздался громкий треск, и я почувствовал, что стремительно падаю.
Я был слишком изумлен, чтобы додуматься до истинной причины взрыва. Даже не знаю, как я тогда объяснил себе это. Мне кажется, я был одержим страхом, вечно преследующим современного воздухоплавателя, страхом, что от случайной искры, выброшенной двигателем, загорится наполненная газом оболочка. Но нет, пламенем я не был охвачен. И мудрено было сразу же не сообразить, что дело не в этом. Во всяком случае, что бы я там еще ни предполагал, я, несомненно, освободил механизм, затягивавший сетку, и дал возможность наполненной газом оболочке снова расшириться, и это, безусловно, замедлило падение. Не помню, когда и как я это сделал. Признаться, я только и помню, что быстро падал по пологой спирали, и от этого земля подо мною шла кругом, поля, деревья, дома неслись влево по кривой, и над всем преобладало ощущение, что аппарат всей своей тяжестью давит мне на голову. Я не остановил и даже не попытался остановить винт. И он все так же безостановочно, со свистом рассекал воздух.
В сущности, о моем падении Котоп знал больше, чем я сам. Он подробно описывал, как я повернул на восток, как клюнул носом, как на корме вздулся и прорвался огромный пузырь. Затем я пикировал вниз с большой скоростью, но далеко не так круто, как мне казалось. «Под углом градусов пятнадцать – двадцать, не больше», – заявил Котоп. Это от него я узнал, что я вновь распустил сеть и этим приостановил падение. По его мнению, я гораздо лучше владел собой, чем мне помнится. Одно лишь непонятно, как я мог забыть, что проявил такую великолепную находчивость. Котоп думал, что я продолжаю управлять своим аппаратом и пытаюсь посадить его на буки Фартинг-Дауна.
– Вы врезались в деревья, – сказал он, – вся махина застряла между ними носом вниз и затем стала медленно распадаться на куски. Я увидел, как вас выбросило, и не стал больше ждать, а кинулся к велосипеду.
Но на самом деле это была чистая случайность, что я опустился на рощу. Я вполне уверен, что управлял своим падением не больше, чем какой-нибудь падающий тюк. Помню щемящее чувство: «Вот оно!» – в то мгновение, когда деревья ринулись мне навстречу. Если уж я помню это, я должен бы помнить, как управлял падающим аппаратом. Потом пропеллер разлетелся вдребезги, все вдруг остановилось, и я упал в море желтеющей листвы, а «Лорд Роберте Альфа», казалось мне, снова взмыл в небеса.
Ветки и сучья хлестали, царапали меня по лицу, но в те минуты я не чувствовал боли: я хватался за них, они обламывались, я провалился сквозь зелено-желтую пену листвы в тенистый мир могучих, толстокожих ветвей и здесь, неистово цепляясь за что попало, ухватился наконец за надежную гладкую ветвь и повис.
Все мои чувства необычайно обострились, мысль работала четко и ясно. Минуту я держался за эту ветвь и осматривался, потом ухватился за другую – оказалось, что эти две ветви образуют развилину. Я раскачался, зацепился ногой за толстый сук пониже развилины, и это дало мне возможность осторожно спуститься вниз по ветвям, хладнокровно рассчитывая каждое свое движение. Футах в десяти над землей, с нижних ветвей, я прыгнул и почувствовал под ногами твердую землю.
– Все в порядке, – сказал я и, запрокинув голову, посмотрел вверх сквозь листву, стараясь разглядеть сморщенные, съежившиеся остатки того, что некогда было «Лордом Робертсом Альфа», повисшие на обломанных ветвях.
– Господи! – воскликнул я. – Вот это грохнулся!
По лицу что-то текло, я провел рукой и с изумлением увидел, что ладонь вся в крови. Я оглядел себя и убедился, что и рука и плечо тоже залиты кровью. Тут я заметил, что и во рту у меня полно крови. Странное это ощущение, когда вдруг понимаешь, что ты ранен и, может быть, тяжело, но еще не знаешь, насколько тяжело. Я осторожно ощупал все лицо и обнаружил, что левая половина неузнаваема. Острый сучок прорвал мне щеку, выбил зуб, поранил десны и, точно флаг открывателей новых земель, вонзился в верхнюю челюсть. Этим да еще растяжением связок запястья я и отделался. Но крови было столько, словно меня разрубили на куски, и мне казалось, что лицо мое совершенно расплющено. Я весь похолодел от непередаваемого ужаса и отвращения.
– Все-таки надо как-то остановить кровь, – тупо сказал я. – Где тут паутина, хотел бы я знать.
Бог весть, почему мне это взбрело в голову, но никакое другое средство мне не пришло на ум.
Должно быть, я решил добираться домой без посторонней помощи, потому что свалился уже в тридцати футах от того дерева. Потом откуда-то из глубины вселенной вырвался черный диск, надвинулся и все закрыл собою. Не помню, как я упал. От волнения, от отвращения к своему изувеченному лицу, от потери крови я потерял сознание и так и остался лежать, пока меня не нашел Котоп.
Он прибежал первым, промчавшись во весь дух по низине, да еще при этом дав крюку, чтобы пересечь владения Кэрнеби в самом узком их месте. Вскоре он уже пытался применить свои познания, полученные на курсах первой помощи при Сент-Джонском госпитале, к столь необычному пациенту, и тут из-за деревьев бешеным галопом прискакала на своем вороном Беатриса и за нею по пятам лорд Кэрнеби; она была без шляпы, вся в грязи – видно, по дороге упала – и бледна как смерть.
– И при этом какое спокойствие, хоть бы бровью повела! – рассказывал мне после Котоп, все еще под впечатлением этой минуты.
– Не знаю, есть ли у кого из них голова на плечах, впрочем, потерять голову по-настоящему они тоже не способны, – рассуждал Котоп, намекая на всех женщин вообще.
Он засвидетельствовал также, что она действовала на редкость решительно. Заспорили, куда меня везти: в дом мачехи Беатрисы, в Бедли-Корнер, или в дом лорда Кэрнеби в Истинге? У Беатрисы на этот счет не было никаких сомнений: она собиралась сама ухаживать за мной. А лорду Кэрнеби это, видно, было не по вкусу.
– Она во что бы то ни стало хотела доказать, что к ним вдвое ближе, – рассказывал Котоп. – Она и слушать ничего не хотела… А я, если в чем убежден, терпеть не могу, когда меня не слушают; так я потом захватил шагомер и измерил это расстояние. Дом леди Оспри ровно на сорок три ярда дальше. Лорд Кэрнеби поглядел на нее в упор, – закончил свой рассказ Котоп, – и уступил.
Однако я перескочил с июня на октябрь, а за это время в моих отношениях с Беатрисой и ее окружением произошел значительный сдвиг. Она приходила и уходила, когда ей вздумается, ездила в Лондон или Париж, Уэльс и Нортгемптон, вращаясь в совершенно неизвестном мне мире, и так же неожиданно, подчиняясь каким-то собственным законам движения, то исчезала, то появлялась ее мачеха. Дома ими командовала чопорная старая служанка Шарлотта, зато в огромных конюшнях Кэрнеби Беатриса вела себя как полновластная хозяйка. С самого начала она не скрывала, что интересуется мною. Несмотря на явное недовольство Котопа, она зачастила в мои мастерские и вскоре сделалась ревностной поклонницей воздухоплавания. Иногда она появлялась утром, порой днем, иногда приходила с ирландским терьером, иногда приезжала верхом. Бывало, я видел ее три или четыре дня подряд, потом она пропадала недели на две, а то и на три и опять возвращалась.
Вскоре я уже с нетерпением поджидал ее. Она сразу показалась мне необыкновенно привлекательной. Таких женщин я еще никогда не встречал – я ведь уже говорил, как мало я сталкивался с женщинами и как плохо знал их. А теперь во мне пробудился интерес не только к Беатрисе, но и к самому себе. Благодаря ей весь мир для меня изменился. Как бы это пояснить? Она стала моим внимательным слушателем. С тех пор как мой роман с Беатрисой со всеми его сложными переживаниями пришел к концу, я сотни раз и каждый раз по-новому размышлял об этой истории, и мне кажется, что в отношениях между мужчиной и женщиной удивительно важно, как они умеют слушать друг друга. Есть люди, для которых всегда необходим внимательный слушатель, они не могут обойтись без слушателя, как живое существо без пищи; другие, вроде моего дяди, разыгрывают роль перед воображаемой публикой. Я же, как мне кажется, всегда жил и могу прожить без нее. В юности я сам для себя был и публикой и судьей. Иметь в виду слушателей – значит играть роль, быть неискренним и искусственным. Долгие годы я самозабвенно отдавался науке. До тех пор, пока я не заметил пытливых, одобряющих, взирающих с надеждой глаз Беатрисы, я жил работой, а не своими личными интересами. Потом я стал жить впечатлением, которое, как мне казалось, я производил на нее, и вскоре это сделалось главным в моей жизни. Она была моей публикой. Что бы я ни делал, я думал о том, как это воспримет Беатриса. Я все чаще и чаще мечтал о необычайных ситуациях и эффектных позах для себя или для нас обоих.
Я пишу обо всем этом потому, что для меня еще многое было загадкой. Наверное, я любил Беатрису так, как это обычно принято понимать, но эта любовь ничуть не походила ни на страстное влечение к Марион, ни на жажду наслаждений, которую вызывала во мне и возбуждала Эффи. То были эгоистичные, непосредственные порывы, столь же естественные и непроизвольные, как прыжок тигра, а чувство мое к Беатрисе до перелома в наших отношениях как-то совсем по-иному будоражило мое воображение. Я говорю здесь так глубокомысленно, а может быть, и глупо, о том, что для многих людей – азбучная истина. Зародившаяся между мною и Беатрисой любовь была, по-видимому (это, конечно, лишь предположение), любовью романтической. Такого же или, пожалуй, чуточку иного характера был злополучный прерванный роман моего дядюшки с миссис Скримджор. Я должен признать это. И ему и мне важнее всего было то, что мы обрели чутких и внимательных слушательниц.
Под влиянием этой любви я во многом опять стал похож на подростка. Она сделала меня чувствительнее к вопросам чести, пробудила горячее желание совершать великие, славные дела, отважные подвиги. В этом смысле она облагораживала меня, поднимала. Но она же толкала меня на поступки вульгарные и показные. Моя жизнь стала похожей на театральную декорацию, обращенную к публике только одной стороной, другую же приходилось скрывать, так как над ней не потрудился художник. Я работал уже без прежнего усердия и стал менее требователен к себе. Я сократил свои исследования – мне, как и Беатрисе, хотелось поскорей совершать эффектные полеты, о которых заговорили бы. Я стремился к успеху кратчайшим путем.
Любовь лишила меня и способности тонко чувствовать смешное…
Но сказать о моих отношениях с Беатрисой только это – значит сказать далеко не все. Была тут и настоящая любовь. И вспыхнула она во мне совершенно неожиданно.
Случилось это летом, в июле или в августе – точно не вспомню, не порывшись в записях своих исследований. Я работал тогда над новым, еще более похожим на птицу аэропланом, с формой крыльев, заимствованной у Лилиенталя, Пилчера и Филиппса, благодаря чему, мне казалось, я мог бы добиться большей устойчивости полета. Я поднялся с площадки на одном из холмов возле моих ангаров и полетел вниз к Тинкерс-Корнер. Местность была открытая, если не считать зарослей боярышника справа и двух или трех буковых рощиц; с востока врезалась поросшая кустарником ложбинка с небольшим загоном для кроликов. И вот я летел, чрезвычайно озабоченный странными рывками моего нового аппарата, теряющего высоту. Вдруг впереди неожиданно появилась верхом на лошади Беатриса, ехавшая в сторону Тинкерс-Корнер, чтобы перехватить меня по дороге. Она оглянулась через плечо, увидела меня и пустила лошадь галопом, и огромный конь оказался прямо перед носом моей машины.
Казалось, вот-вот мы столкнемся и разобьемся вдребезги. Чтобы не подвергать риску Беатрису, я должен был мгновенно решить, поднять ли нос машины и опрокинуться назад, рискуя разбиться, или же взмыть против ветра и пролететь прямо над Беатрисой. Я выбрал второе. Когда я нагнал Беатрису, она уже справилась со своим вороным. Она сидела, пригнувшись к шее коня, и смотрела вверх на широко раскинутые крылья машины, а я с замиранием сердца пронесся над ней.
Потом я приземлился и пошел назад к ней; лошадь стояла на месте, вся дрожа.
Мы не поздоровались. Беатриса соскользнула с седла ко мне на руки, и какую-то минуту я держал ее в объятиях.
– Эти огромные крылья… – только и сказала она.
Она лежала в моих объятиях, и мне показалось, что она на миг потеряла сознание.
– Могли здорово расшибиться, – сказал Котоп, с неодобрением поглядывая на нас. – Это, знаете, небезопасно – соваться нам поперек дороги. – Он взял лошадь под уздцы.
Беатриса отпрянула от меня, постояла минуту и опустилась на траву; ее всю трясло.
– Я посижу немного, – сказала она.
Она закрыла лицо руками, а Котоп смотрел на нее подозрительно и с досадой.
Никто не двигался с места.
– Пойду принесу воды, – сказал наконец Котоп.
У меня этот случай – эти краткие мгновения близости, этот вихрь переживаний – каким-то непостижимым образом породил дикую фантазию добиться любви Беатрисы и обладать ею. Не знаю, почему эта мысль возникла именно тогда, но так уж случилось. Я уверен, что раньше мне это и в голову не приходило. Помнится лишь одно: страсть налетела внезапно. Беатриса сидела, съежившись, на траве, я стоял рядом, и оба мы не проронили ни слова. Но ощущение было такое, словно только что я слышал голос с неба.
Котоп не успел пройти и двадцати шагов, как Беатриса отняла руки от лица.
– Не надо мне воды, – сказала она. – Верните его.
С тех пор наши отношения стали иными. Исчезла прежняя непринужденность. Беатриса приходила реже и всегда с кем-нибудь, чаще всего со стариком Кэрнеби, он-то и поддерживал разговор. На весь сентябрь она куда-то уехала, а когда мы оставались с ней наедине, мы испытывали странную скованность. Нас переполняли какие-то невыразимые ощущения; все, о чем мы думали, было столь важно для нас, столь значительно, что мы не умели это высказать.
Потом произошла авария с «Лордом Робертсом Альфа»; с забинтованным лицом я оказался в спальне в доме леди Оспри в Бедли-Корнер; Беатриса командовала неопытной сиделкой, а сама леди Оспри, шокированная и вся красная, маячила где-то на заднем плане, и во все ревниво вмешивалась тетушка Сьюзен.
Мои раны, хоть и бросались в глаза, были не опасны, и меня можно было уже на следующий день перевезти в «Леди Гров», но Беатриса не позволила и целых три дня продержала меня в Бедли-Корнер. На второй день после обеда она вдруг ужасно забеспокоилась, что сиделка не дышит свежим воздухом, в проливной дождь выпроводила ее на часок погулять, а сама села около меня.
Я сделал ей предложение.
Должен признаться, что обстановка не благоприятствовала серьезным излияниям. Я лежал на спине, говорил сквозь повязку да еще с трудом, так как язык и губы у меня распухли. Мне было больно, меня лихорадило. И я не мог совладать со своими чувствами, которые приходилось так долго сдерживать.
– Удобно? – спросила она.
– Да.
– Почитать вам?
– Нет. Я хочу говорить.
– Вам нельзя. Говорить буду я.
– Нет, – возразил я, – я хочу с вами поговорить.
Она встала возле кровати и посмотрела мне в глаза.
– Я не хочу… Я не хочу, чтобы вы говорили. Я думала, вы не можете разговаривать.
– Вы так редко бываете со мной наедине.
– Вы бы лучше помолчали. Сейчас не надо говорить. Взамен вас буду болтать я. Вам не полагается говорить.
– Я сказал так мало.
– И этого не надо было.
– Я ведь не буду изуродован, – заметил я. – Только шрам.
– О! – сказала она, словно ждала совсем другого. – Вы думали, что станете страшилищем.
– L'homme qui rit![28]28
Человек, который смеется! (франц.)
[Закрыть] Могло случиться. Но все в порядке. Какие прелестные цветы!
– Астры, – сказала она. – Я рада, что вы не обезображены. А это бессмертники. Вы совсем не знаете названий цветов? Когда я увидела вас на земле, я подумала, что вы разбились насмерть. По всем правилам игры вы не должны были уцелеть.
Она сказала еще что-то, но я обдумывал свой следующий ход.








