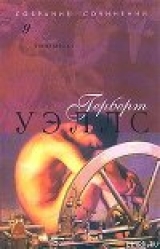
Текст книги "Тоно Бенге"
Автор книги: Герберт Джордж Уэллс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
– Все кончено… – сказал он.
– Передали в суд?
– Нет!..
С минуту я смотрел на него, потом слез с ограды.
Он стоял, покачиваясь, потом шагнул вперед, неуверенно разводя руками, как человек, который плохо видит, ухватился за ограду и прислонился к ней. Ни один из нас не сказал ни слова. Неловким движением он указал вниз на бессмысленный хаос неоконченной постройки и тихо всхлипнул. Я заметил, что лицо его мокро от слез, мокрые очки слепили его. Он протянул свою пухлую руку, неловко сорвал их и стал безуспешно шарить в кармане в поисках платка, потом, к моему ужасу, этот старый, потрепанный жизнью мошенник припал ко мне и заплакал навзрыд. Он не просто всхлипывал или ронял слезы – нет, он рыдал, как ребенок. О, это было ужасно!
– Это жестоко, – всхлипнул он наконец. – Они мне задавали вопросы. Все задавали вопросы, Джордж…
Он не находил слов и захлебывался.
– Проклятые сволочи! – кричал он. – Про-о-о-оклятые сволочи!
Он перестал плакать и вдруг торопливо стал объяснять:
– Это нечестная игра, Джордж. Они тебя изматывают. А я нездоров. Мой желудок совсем расклеился. И вдобавок я простудился. Я всегда был подвержен простуде, а теперь она засела в груди. А они велят говорить громко. Они травят тебя… и травят, и травят… Это мука. Ужасное напряжение. Никак не упомнишь, что сказал. Обязательно себе противоречишь. Как в России, Джордж… Это нечестная игра… Видный человек. С этим Нийлом я сидел рядом на званых обедах, рассказывал ему всякие истории, а он такой злющий! Надумал меня погубить. Вежливо ничего не спросит – рычит во все горло.
Дядя опять сник.
– На меня орали, меня запугивали, обращались, как с собакой. Скоты они все! Грязные скоты! Уж лучше быть шулером, чем адвокатом. Лучше торговать на улицах кониной для кошек… Они обрушили на меня такое сегодня утром, уж я никак не ожидал. Они огорошили меня! Все у меня было в руках, а они на меня налетели. И кто же – Нийл! Нийл, которому я давал советы насчет биржи! Нийл! Я помогал Нийлу… Когда был обеденный перерыв, мне кусок в горло не лез. Я не мог вынести. Правда, Джордж, не мог вынести. Я сказал, что мне надо глотнуть воздуха, выскользнул – и прямиком на набережную, а там взял катерок до Ричмонда. Осенило. Потом взял весельную лодку и покатался немного по реке. Толпа парней и девушек была там, на берегу, и они смеялись, что я без пиджака и в цилиндре. Думали, наверно, увеселительная прогулка. Нечего сказать, веселье! Я покатался немножко и вышел на берег. Потом направился сюда. Через Виндзор. А они там, в Лондоне, потрошат меня, как хотят… Пусть!
– Но… – сказал я, озадаченно глядя на него.
– Скрылся от суда. Меня арестуют.
– Не понимаю, – сказал я.
– Все погибло, Джордж. Окончательно и бесповоротно. А я-то думал, что буду жить здесь, Джордж… и умру лордом! Это роскошный дом, царственное здание – если бы у кого-нибудь хватило ума купить его и достроить. Та терраса…
Я стоял, раздумывая.
– Послушай! – сказал я. – Что это ты насчет ареста? Ты уверен, что тебя арестуют? Извини, дядя, но что ты натворил?
– Разве я тебе не сказал?
– Да, но за это тебе ничего особенного не грозит. Тебя только заставят дать остальные показания.
Некоторое время он молчал. Потом заговорил, с трудом произнося слова:
– Нет, это похуже. Я кое-что натворил… Они обязательно докопаются. Собственно, они уже знают.
– Что?
– Написал кое-что… Натворил.
Должно быть, впервые в жизни он испытывал стыд и впервые имел столь пристыженный вид. Глядя, как ему тяжко, я почувствовал раскаяние.
– Все мы кое-что натворили, – сказал я. – Это входит в игру, на которую нас толкает жизнь. Если тебя собираются арестовать, а тебе нечем крыть… Тогда нельзя, чтоб тебя арестовали!
– Да. Отчасти поэтому я поехал в Ричмонд. Но я никогда не думал… – Налитыми кровью глазами дядюшка смотрел на Крест-хилл. – Этот Виттенер Райт… У него все было готово. У меня нет. Теперь ты знаешь, Джордж. Вот в какой я попался капкан.
Воспоминание о дяде, каким он был тогда у ограды, сохранилось отчетливо и ясно. Помню, он говорил, а я слушал, и мысли мои текли своим чередом. Помню, как росла во мне жалость и нежность к этому бедняге, убеждение, что я должен во что бы то ни стало ему помочь. Но потом снова все расплывается. Я приступил к делу. Я уговорил дядю довериться мне, тут же составил план и начал действовать. По-моему, чем энергичнее мы действуем, тем хуже запоминаем, и в той мере, в какой наши душевные порывы претворяются в конкретные замыслы и дела, они перестают удерживаться в памяти. Знаю лишь, что я решил немедленно увезти дядюшку, воспользовавшись «Лордом Робертсом Бета». За дядей, конечно, скоро начнут охотиться, и мне казалось небезопасным удрать в Европу обычным путем. Я должен был придумать – и побыстрее – способ как можно более неприметно оказаться на той стороне пролива. К тому же мне очень хотелось совершить хотя бы один полет на моем воздушном корабле. Я рассчитывал, что нам удастся перелететь через пролив ночью, бросить «Лорда Робертса Бета» на произвол судьбы, появиться в Нормандии или Бретани уже в качестве туристов-пешеходов и таким образом скрыться. Такова, во всяком случае, была моя основная идея. Я отослал Котопа с какой-то ненужной запиской в Уокинг: мне не хотелось запутывать его – и отвел дядюшку в шале. Потом я пошел к тете Сьюзен и чистосердечно признался во всем. Она восхитила меня своим самообладанием. Мы безжалостно взломали замки в дядюшкиной спальне. Я достал пару коричневых башмаков, спортивный костюм и кепи – вполне благовидную экипировку для пешехода – и небольшой ягдташ для дорожного имущества; я взял также широкое автомобильное пальто и несколько пледов в добавление к тем, которые были у меня в шале. Я прихватил еще флягу бренди, а тетя Сьюзен наготовила сандвичей. Не помню, чтобы появлялся кто-нибудь из слуг, а где она раздобыла эти сандвичи, я позабыл. Впоследствии я не раз думал о том, как задушевно мы с ней беседовали во время этих приготовлений.
– Что он сделал? – спросила она.
– А ты не рассердишься, если узнаешь?
– Слава богу, меня уже ничем не удивишь!
– Думаю, что подлог.
Наступило недолгое молчание.
– Ты сможешь тащить этот узел? – спросила она.
Я поднял узел.
– Женщины не уважают закон, – сказала тетя Сьюзен. – Он слишком глуп… Сперва позволяет делать невесть что. А потом вдруг осадит! Как сумасшедшая нянька ребенка.
Она вынесла мне на темную аллею несколько пледов.
– Они подумают, что мы пошли гулять при луне, – сказала она, кивнув в сторону дома. – Интересно, что они думают о нас, преступниках…
Словно в ответ, раздался гулкий звон. Мы вздрогнули от неожиданности.
– Ах вы, мои милые! – сказала она. – Это гонг к обеду… Если бы я хоть чем-нибудь могла помочь моему медвежонку, Джордж! Подумать только, он теперь там, и глаза у него воспаленные, сухие. Я знаю: один мой вид раздражает его. Чего я только не говорила ему, Джордж! Если бы я знала, я позволила бы ему завести себе целый омнибус этих Скримджор. Я его изводила. Он раньше никогда не думал, что я серьезно… Во всяком случае, что смогу, я сделаю.
Что-то в голосе тети заставило меня обернуться, и при лунном свете я увидел на ее лице слезы.
– А она могла бы помочь? – спросила тетя вдруг.
– Она?
– Та женщина.
– Боже мой! – воскликнул я. – Помочь, она! Да и разве можно тут помочь?
– Повтори, что я должна делать, – попросила тетя Сьюзен после недолгого молчания.
Я снова сказал ей, как поддерживать связь с нами и чем, по моим соображениям, она могла бы помочь. Я уже дал ей адрес адвоката, которому до некоторой степени можно было доверять.
– Но ты должна действовать самостоятельно, – убеждал я. – Грубо говоря, идет драка. Хватай для нас все, что сумеешь, и удирай за нами при первой возможности.
Тетя кивнула.
Она дошла до шале, в нерешительности задержалась на минуту и повернула назад.
Когда я вошел, дядя был в гостиной, он сидел в кресле, поставив ноги на решетку газовой печки, которую он зажег; теперь он был слегка пьян от моего виски, вконец измучен душой и телом и уже начинал малодушничать.
– Я позабыл свои капли, – сказал он.
Он переодевался медленно и с неохотой. Я должен был припугнуть его, чуть ли не тащить к воздушному кораблю и уложить на плетеную площадку. Без посторонней помощи я оторвался от земли неловко; мы поползли, царапая крышу ангара, и согнули лопасть пропеллера, и некоторое время я висел над моим аппаратом, а дядя даже не протянул мне руки, чтобы помочь взобраться. Если бы не якорное приспособление Котопа – нечто вроде якоря, наподобие трамвайной дуги, скользящего по рельсу, – нам бы так и не удалось взлететь.
Отдельные эпизоды нашего полета на «Лорде Робертсе Бета» не укладываются в каком-нибудь последовательном порядке. Думать об этой авантюре – все равно что наугад вытаскивать открытки из альбома. Вспоминается то одно, то другое. Мы оба лежали на плетеной платформе – на «Лорде Робертсе Бета» не было изысканных приспособлений аэростата. Я лежал впереди, а дядя за мной, так что вряд ли у него могли быть какие-нибудь зрительные впечатления от нашего полета. Сетка между стальными тросами не давала нам скатиться. Встать мы никак не могли бы: мы должны были или лежать, или ползать на четвереньках по плетенке. Посредине корабля были перегородки из ватсоновского аулита; я поудобнее уложил между ними дядюшку и закутал его пледами. На мне были сапоги и перчатки из тюленьей кожи, а поверх спортивного костюма я надел меховое автомобильное пальто; мотором я управлял при помощи бауденовских тросов и рычагов, которые находились в передней части корабля.
Первые впечатления той ночи – это тепло озаренные луной ландшафты Сэррея и Сэссекса, быстрый, успешный полет, подъемы и снижения и потом снова взлет к югу. Я не мог наблюдать за облаками, ибо мой воздушный корабль заслонял их; я не видел звезд и не мог производить метеорологических измерений, но знал, что ветер, дувший то с севера, то с северо-востока, все усиливался, а так как вполне удачные расширения и сжатия убедили меня в прекрасных летных качествах «Лорда Робертса Бета», то я выключил мотор, чтобы сэкономить горючее, и моя махина поплыла по ветру, а я всматривался в смутные очертания земли внизу. Дядюшка лежал позади меня совсем тихо, он смотрел прямо перед собой и почти ничего не говорил, и я был предоставлен собственным мыслям и впечатлениям.
Мои тогдашние мысли, все равно какие, давно уже изгладились из памяти, а мои впечатления слились в одно неразрывное воспоминание о земле, как будто лежавшей под снегом, и на ней были темные прямоугольники и белые призрачные дороги, бархатисто-черные овраги, пруды и дома, в которых, словно драгоценные камни, сверкали огни. Помню поезд, как огненная гусеница, торопливо проползший внизу, – я отчетливо слышал стук колес. В каждом городишке, на каждой улице горели фонари, и они казались рядами светлых пуговиц. Я подошел совсем близко к Саут Даунс, неподалеку от Льюиса, и в домах уже был погашен свет, люди легли спать. Мы покинули землю немного восточное Брайтона, и к тому времени Брайтон уже крепко спал, и ярко освещенная набережная обезлюдела. Я дал газовой камере наполниться до предела и поднялся выше. Я люблю быть подальше от воды.
Мне не совсем ясно, что произошло той ночью. Я, кажется, вздремнул, а дядя, по-видимому, спал. Помнится, раза два я слышал, как он возбужденно, глухо разговаривал не то с самим собой, не то с воображаемыми судьями. Одно несомненно: ветер круто изменил направление на восток, и нас понесло, а мы и не подозревали, как сильно нас относит в сторону. Помню, какая глупая растерянность овладела мною, когда я увидел рассвет над огромным серым водным пространством внизу и понял, что дело неладно. Я был настолько глуп, что лишь когда взошло солнце, заметил, куда кренятся шапки пены внизу, и догадался, что мы попали в жестокий восточный шквал. Но даже тогда я не повернул на юго-восток, а направил машину к югу, продолжая лететь в направлении, которое неминуемо должно было привести нас к Уэссану или в Бискайский залив. Я остановил мотор, предполагая, что нахожусь к востоку от Шербурга, тогда как на самом деле был от него далеко на запад, потом включил мотор снова. К вечеру на юго-востоке показался берег Бретани, и только тогда я понял, насколько серьезно наше положение. Я искал Бретань на юго-западе, а случайно обнаружил на юго-востоке. Я повернул на восток и полетел против ветра, но, убедившись, что мне не справиться с ним, поднялся на высоту, где, казалось, он не так бесился, и попытался взять курс на юго-восток. Теперь я наконец понял, в какой мы попали шквал. Я летел на запад, а временами меня, возможно, относило на северо-запад со скоростью пятидесяти или шестидесяти миль в час.
Потом началось то, что, пожалуй, назовут битвой с восточным ветром. В этих случаях говорят «битва», но, право, это почти столь же мало походило на битву, как мирное вышивание. Ветер норовил отнести меня к западу, а я старался, насколько возможно, уйти на восток, и чуть ли не двенадцать часов он хлестал и раскачивал нас, впрочем, не так зверски, чтобы нельзя было терпеть. Я надеялся, что ветер утихнет, а до тех пор мы удержимся в воздухе где-то восточнее Финистера, и больше всего опасался, что кончится горючее. Время тянулось томительно долго и даже располагало к раздумью; нам не было холодно, и пока еще не очень хотелось есть; порою дядюшка слегка ворчал, понемножку философствовал и жаловался, что у него поднимается температура, но, помимо этого, мы почти не разговаривали. Я устал, был угрюм и беспокоился главным образом за мотор. Мне очень хотелось отползти назад, чтобы взглянуть на него. Я не решался сжать газовую камеру из опасения потерять газ. Нет, это совсем не походило на битву. Я знаю, в дешевых журнальчиках подобные случаи описывают в истерических тонах. Капитаны спасают свои корабли, инженеры достраивают мосты, генералы в состоянии лихорадочного возбуждения ведут бой, угощая читателя малопонятными техническими терминами. Может быть, на некоторых людей такие вещи действуют, но что касается правдивого изображения действительности – а они на это претендуют, – то все это просто детский лепет. У пятнадцатилетних школьников, восемнадцатилетних девиц и у литераторов любого возраста, возможно, бывают такие истерические припадки, но я убедился на собственном опыте, что самые волнующие сцены не так уж сильно волнуют и в самые решающие минуты люди обычно не теряют голову.
В ту ночь мы с дядюшкой не испытывали никаких сильных ощущений, не изрекали многозначительных сентенций. Мы отупели. Дядя застыл на своем месте и жаловался на желудок, а иногда что-то отрывисто говорил о своих делах и обличал Нийла – раза два он крепко его выругал, а я, не отдавая себе отчета, переползал с места на место и кряхтел, и наша плетенка все скрипела и скрипела, и ветер с нашей стороны хлопал в стенку газовой камеры. И постепенно мы стали мерзнуть, хотя напялили на себя все, что могли.
Я, по-видимому, дремал, и было еще совсем темно, когда я вдруг очнулся и увидал где-то вдалеке мерцающий маяк, а за ним какой-то ярко освещенный большой город, а проснулся оттого, что замолк мотор и опять нас относило на запад.
Вот тут-то я почувствовал, что надо спасать жизнь. Увлекая за собой дядю, я пополз вперед к шнурам выпускных клапанов и выпустил газ, и мы, подобно неуклюжему планеру, стали падать вниз, приближаясь к какой-то туманной, серой массе, – то была земля.
Очевидно, случилось еще что-то, о чем я позабыл. Я увидел Бордо, когда было еще совсем темно, – огни города смутно отсвечивали во мраке, и я убежден, что была еще ночь. А упали мы, несомненно, при холодном неверном свете на заре. В этом я тоже не сомневаюсь. Да и Мимизан, вблизи которого мы сели, находится в пятидесяти милях от Бордо, – те огни, что я заметил раньше, были, по-видимому, огнями порта Бордо.
Помню, я отнесся к падению с каким-то странным безразличием, и мне пришлось встряхнуться, чтобы управлять машиной. Впрочем, сама посадка была довольно волнующей. Помню, нас долго волочило по земле, потом я с трудом слез с плетенки, и, пока дядя, спотыкаясь, выпутывался из веревок и своих пледов, порыв ветра подхватил «Лорда Робертса Бета», и дядя толкнул меня и повалил на колени. Потом я вдруг осознал, что воздушная громадина, словно разумное существо, высвобождается, чтобы удрать, и она легко подскочила вверх. Я уже не мог дотянуться до каната. Помню, я бежал по колено в соленой воде, безуспешно догоняя свой воздушный корабль, пока он медленно набирал высоту и удалялся в сторону моря, и, только отчаявшись поймать его, я понял, что это, в сущности, самый лучший выход. То падая, то поднимаясь, «Лорд Роберте Бета» быстро пронесся над дюнами и скрылся за рощицей потрепанных ветром деревьев. Потом он показался уже намного дальше и, удаляясь с каждой минутой, взмыл ненадолго вверх и медленно опустился, и больше я уже его не видел. Должно быть, он упал в море, пропитался соленой водой и отяжелел, из него вышел газ, и он потонул.
Его так и не обнаружили, и не было никаких сообщений о том, что его кто-нибудь видел после того, как он скрылся с моих глаз.
Мне трудно рассказать подробно и сколько-нибудь связно о том, как мы летели через море, но я хорошо помню, что рассвет во Франции был ясный и холодный. Перед моим мысленным взором возникают, словно я вижу их опять, дюна за дюной, серые и холодные, с черным гребешком чахлой травы. Меня вновь охватывает озноб холодного, ясного рассвета, и я слышу далекий лай собак. И опять я задаю себе вопрос: «Что же делать?», – но я так смертельно устал, что ничего не могу придумать.
Сначала я был поглощен заботой о дяде. Он весь дрожал, и я с трудом поборол желание уложить его в удобную постель немедленно. Ведь я хотел, чтобы мы появились в этой части земного шара, не привлекая к себе внимания. Было бы слишком подозрительно, если бы мы явились к кому-нибудь на рассвете, чтоб отдохнуть; пока не наступит день, мы должны оставаться здесь, а потом всякий поверит, что мы запыленные в дороге пешеходы, которые хотят где-нибудь закусить. Я отдал дяде большую часть оставшихся бисквитов, опорожнил фляжку и посоветовал ему уснуть, но вначале было очень холодно, хотя я и укутал его большим меховым одеялом.
Меня поразило его вдруг осунувшееся лицо и старческий вид, который придавала ему седая щетина на подбородке. Он весь как-то съежился, дрожал и кашлял; жевал он вяло, зато пил с жадностью и изредка тихонько всхлипывал, и мне было его очень жалко. Но другого выхода у нас не было, приходилось терпеть.
Солнце уже поднялось над лесом, и песок стал быстро нагреваться. Дядя покончил с едой, руки его упали на колени, и он сидел с видом полнейшего отчаяния и безнадежности.
– Я болен, – сказал он, – я чертовски болен! Я это чувствую всем нутром!
Потом – для меня это было ужасно – он закричал:
– Мне надо лечь в постель. Мне надо лечь в постель… а не летать! – И он вдруг расплакался.
Я встал.
– Спи, старина! – сказал я, затем снял с дяди одеяло, расстелил на земле и снова его закутал.
– Все это, может быть, и прекрасно, – протестовал он, – но я не так молод, чтобы…
– Подними голову, – прервал я и положил ему под голову рюкзак.
– Они нас поймают – все равно, что здесь, что в гостинице, – пробормотал он и затих.
Спустя некоторое время я увидел, что он уснул. Он дышал с каким-то странным хрипом и то и дело кашлял. Я тоже окоченел и измучился и, возможно, задремал. Теперь я уже не помню. Помню только, что сидел возле дяди, казалось, целую вечность, слишком усталый, чтобы о чем-нибудь думать в этом песчаном безлюдье.
Никто к нам не подошел, ни одна живая душа, хотя бы собака. Наконец я взял себя в руки, понимая, что не стоит делать вид, будто в нашем появлении здесь нет ничего необычного, и мы поплелись по вязкому песку к ферме с таким трудом, словно все небо свинцовой тяжестью легло нам на плечи. Я старался говорить по-французски еще хуже, чем говорил на самом деле, чтобы казалось правдоподобным, что мы пешеходы из Биаррица, сбились с дороги и нас застигла ночь на побережье. Все обошлось как нельзя лучше, мы выпили спасительного кофе и раздобыли повозку, в которой добрались до небольшой железнодорожной станции. Дяде становилось все хуже. Я довез его до Байоны, где он отказался есть, и ему стало очень плохо; потом, дрожащего и обессилевшего, я повез его в пограничный городок Люзон Гар.
Я нашел скромную гостиницу с двумя небольшими спальнями, которую содержала приветливая женщина-баска. Я уложил дядю в постель и не отходил от него всю ночь; проспав часа два, он проснулся в жестокой лихорадке, бредил, проклинал Нийла и без конца твердил какие-то нескончаемые и непонятные цифры. Явно требовалось вмешательство врача – и утром врача позвали. Это был молодой человек из Монпелье, он только начинал практиковать, изъяснялся загадочно, употреблял модные медицинские термины, и толку от него было мало. Он говорил о холоде и простуде, гриппе и пневмонии и дал кучу подробнейших и сложных наставлений… Из всего этого я понял, что должен позаботиться о специальном уходе и больничных условиях. Во второй спальне я водворил сестру-монахиню, а себе снял комнату в четверти мили – в гостинице Порт де Люзон.
Я подвожу рассказ к тому, что волею судеб этот удивительный уголок, где мы нашли себе прибежище, стал местом упокоения моего дядюшки. Мне вспоминаются Пиренеи, синие холмы, озаренные солнцем домики, старинный люзонский замок и шумная порожистая река, отчетливо вижу темную душную комнату, окна в которой монахиня и хозяйка сговорились не открывать, с вощеным полом, кроватью под балдахином, типично французским камином и креслами, бутылками из-под шампанского, грязными тазами, измятыми полотенцами и пакетиками порошков на столике. И на кровати, в душном, тесном пространстве за пологом, словно возведенный на престол и отгороженный от мира, мой дядюшка лежал или сидел, корчился и беспокойно метался, сводя последние счеты с жизнью. И чтобы с ним поговорить или взглянуть на него, надо было подойти и откинуть край полога.
Обыкновенно он сидел, прислонясь к подушкам, – так ему легче было дышать. Уснуть ему почти не удавалось.
Смутно вспоминаю бессонные ночи, утренние часы и дни, проведенные у его кровати, помню, как суетилась монахиня, кроткая и добрая и такая беспомощная, и какие невообразимо грязные были у нее ногти. Всплывают и исчезают и другие фигуры, но чаще всех доктор – молодой человек, совсем в стиле рококо, с тонкими восковыми чертами лица, маленькой заостренной бородкой, длинными черными вьющимися волосами, огромным, как у какого-нибудь поэтишки, галстуком и в костюме для велосипедной езды. Непонятно почему, ясно и отчетливо остались в памяти хозяйка гостиницы и семья испанцев, которые опекали меня, готовили мне совершенно изумительные обеды, супы и салаты, цыплят и необыкновенные сласти. Все они были милые, симпатичные люди. И все время я старался незаметно раздобывать английские газеты.
Эти мои воспоминания связаны прежде всего с дядюшкой.
Я старался показать, каким он был во все периоды своей жизни, – молодой аптекарь в Уимблхерсте, захудалый фармацевт на Тотенхем-Корт-роуд, авантюрист в пору рождения Тоно Бенге, нелепый, самоуверенный плутократ. А теперь мне предстоит рассказать, как изменился он, когда на него надвинулась тень близкой смерти: я вижу чужое, заросшее бородой лицо с обвислой кожей, желтое, блестящее от пота, широко раскрытые и тусклые глаза, тонкий, заострившийся нос. Никогда он не казался таким маленьким. Напрягая голос и все же чуть слышно, он говорил о великих делах, о том, для чего он жил и к чему пришел. Бедняга! Эти последние дни словно бы и не связаны со всей его прежней жизнью. Как будто он выкарабкался из развалин своей карьеры и огляделся, прежде чем умереть. По временам он переставал бредить и голова у него была совсем ясная.
Он был почти уверен, что умирает, и это в какой-то степени избавляло его от бремени забот. Не придется больше встречаться с Нийлом, не надо удирать или прятаться, не надо ждать наказания.
– Грандиозная была карьера, Джордж, – сказал он, – но как хорошо отдохнуть. Хорошо отдохнуть!.. Хорошо отдохнуть!
Больше всего он думал и говорил о прошлом, о своей карьере, и обычно – я рад вспомнить об этом – «чувствовалось, что он ею доволен и вполне одобряет. В бреду он даже был как-то чересчур доволен собой и своим недавним великолепием. Бывало, теребит простыню и, уставившись в пространство, еле внятно, прерывисто бормочет.
– Что за громадное здание, эти башни под шапками облаков, эти воздушные шпили?.. Илион. Вознесся в са-а-мое небо. Илионский дворец, резиденция одного из наших, одного из наших великих князззей торговли… Терраса над террасой. До самых небес… Империя, каких не знал Цезарь… Великий поэт, Джордж. Империи, каких не знал Цезарь… И совершенно под новым руководством… Сила… Миллионы… Университеты… Он стоит на террасе – на верхней террасе, – управляет… управляет… у глобуса… управляет… торговлей.
Иногда трудно было понять, где кончается разумная речь и начинается бред. Обнажились скрытые пружины его жизни, тщеславные мечты. Порой мне кажется, что всякий человек наедине с собой склонен распускаться, словно какой-нибудь неряха, который весь день ходит немытый и нечесаный и приводит себя в порядок, когда случается быть на людях. Я подозреваю, что все невысказанное, скрытое в нашей душе таит в себе нечто расплывчато-бредовое и безумное. И, конечно, слова, которые срывались с воспаленных, страдальческих губ дяди над щетинистой седой бородой, отражали только его мечтания и бессвязные фантазии.
Иногда он бредил Нийлом, грозил ему.
– Что он вложил? – спрашивал он. – Думает улизнуть от меня. Если я до него доберусь… Разззорение. Разззорение. Можно подумать, что я взял его деньги.
А иногда он возвращался к нашему полету.
– Слишком долго, Джордж, слишком долго и слишком холодно. Я слишком стар… слишком стар… для таких вещей… Ты же не спасешь меня – ты меня убиваешь.
Под конец стало ясно, что наше инкогнито раскрыто. Пресса и особенно газеты, принадлежащие Буму, подняли настоящую травлю, на розыски были посланы специальные агенты, и хотя, пока дядюшка был еще жив, ни один из этих эмиссаров до нас не добрался, уже слышались раскаты бури. Наша история попала и во французскую печать. Люди стали смотреть на нас с любопытством, и в маленькой ничтожной борьбе, которая велась за пологом в душном пространстве, приняли участие новые лица. Молодой доктор настаивал на консультации, из Биаррица приехал автомобиль, и ни с того ни с сего к нам вторгались какие-то странные люди с рыскающим взглядом, задавали вопросы и предлагали помощь. Ничего не было сказано, но я видел, что нас больше не считают обыкновенными туристами среднего достатка; когда я шел по улице, у меня было такое чувство, будто за мной зримо, как тень, следует престиж финансиста и скандальная слава преступника. В гостинице появлялись с расспросами какие-то местные жители, дородные и преуспевающие, предложил свои услуги люзонский священник, люди заглядывали к нам в окна и не спускали с меня глаз, когда я уходил или проходил мимо; потом из соседнего городка Сен-Жан де-Поллак на нас налетали, как вороны, добродетельные, но решительные маленький английский священник и его любезная расторопная супруга, по англиканскому обычаю в черном с головы до пят.
Священник, суетливое, упрямое существо, с редкой бородкой, в очках, с красным носом пуговкой, в черном поношенном облачении, был одним из тех странных типов, которые разъезжают по заброшенным провинциальным городишкам Англии или же на договорных условиях выполняют обязанности священника в гостиницах за границей. Он был просто потрясен финансовым могуществом моего дяди и собственной догадливостью: он понял, кто мы такие, и потому весь сиял и был преисполнен любезности и суетливой предупредительности. Он так и рвался разделить со мной дежурства у постели дяди и из кожи вон лез, предлагая свою помощь, а так как я опять соприкоснулся с лондонскими делами и пытался по газетам, которые мне удалось получить из Биаррица, разобраться в подробностях нашего грандиозного краха, то я охотно воспользовался его услугами и принялся по этим газетам изучать состояние современных финансов. Я уже давно оторвался от старых религиозных традиций, и мне и в голову не приходило, что он вздумает атаковать моего дышавшего на ладан дядюшку заботами о его душе. И, однако, я столкнулся с этим: мое внимание привлек вежливый, но весьма жаркий спор между священником и хозяйкой, которая непременно хотела повесить дешевенькое распятие в нише над кроватью, где оно могло попасться на глаза дяде, и оно действительно попалось ему на глаза.
– Бог ты мой! – крикнул я. – Неужели такое все еще бывает!
В ту ночь дежурил тщедушный священник, и под утро он поднял ложную тревогу, что дядя умирает, и началась суматоха. Он разбудил весь дом. Кажется, я никогда не забуду эту сцену; ко мне в дверь постучали, как только я уснул, и раздался голос священника:
– Если хотите застать вашего дядюшку в живых, торопитесь.
Когда я туда вошел, душная комнатенка была полна людей и освещена тремя мерцающими свечками. Казалось, я вернулся в восемнадцатое столетие. На измятой постели среди раскиданных простынь лежал бедный дядюшка, донельзя измотанный жизнью, обессиленный, в бреду, а маленький священник, взяв его за руку, старался привлечь его внимание и все повторял:
– Мистер Пондерво, мистер Пондерво, все прекрасно. Все прекрасно. Только уверуйте! «Верующий в меня спасен будет!»
Тут уже был доктор с ужасным, идиотским шприцем, какими современная наука вооружает этих недоучек, и непонятно для чего старался поддержать в дяде слабый трепет жизни. Где-то позади с запоздалой и отвергнутой дозой лекарства суетилась сонная монахиня. В довершение хозяйка не только встала сама, но и разбудила старую каргу – свою мамашу и полоумного мужа, был там еще флегматичный толстяк в сером шерстяном костюме, степенный и важный, – кто он и почему оказался там, не знаю. Кажется, доктор что-то сказал мне о нем по-французски, но я не понял. И все они, заспанные, наспех одетые, нелепые при свете трех мерцающих свечей, алчно следили за угасанием едва теплившейся жизни, словно это было для них какое-то увлекательное зрелище, и каждый из этих людишек твердо решил подстеречь последний вздох. Доктор стоял, прочие сидели на стульях, принесенных в комнату хозяйкой.
Но дядя испортил финал: он не умер.
Я сменил священника на стуле возле кровати, и он завертелся по комнате.








