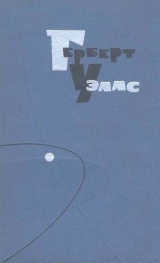
Текст книги "Собрание сочинений в 15 томах. Том 7"
Автор книги: Герберт Джордж Уэллс
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц)
Киппс с волнением слушал эти удивительные воспоминания. Поразительная, неправдоподобная жизнь – и, однако, все правда. Жизнь бурная, беспорядочная, исполненная страстей, бьет ключом всюду, кроме первоклассных торговых заведений. О такой жизни пишут романы, пьесы, а он, глупец, думал, что это все выдумки, что на самом деле так не бывает. Его доля в беседе теперь ограничивалась, так сказать, заметками на полях, а Читтерлоу болтал без умолку. Он хохотал, и на пустынной улице разносился рокот, потом голос его становился сдержанным, вкрадчивым, задушевным, смягченным воспоминаниями; Читтерлоу был откровенен, необычайно откровенен, раскрывал всю душу, а если иногда кое о чем и умалчивал, то тоже вполне откровенно; огромный, черный в лунном свете, он размахивал руками, и с упоением исповедовался перед Киппсом, и старался обратить его в свою веру, символами которой были риск и плоть. Все это было сдобрено малой толикой романтики, романтического изыска, впрочем, довольно грубого и эгоцентричного. Да, бывали в его жизни случаи, и еще какие, а ведь он был в ту пору еще моложе Киппса.
Ну, ладно, внезапно оборвал себя Читтерлоу, он, конечно, перебесился, без этого нельзя, а теперь – кажется, об этом уже упоминалось – он счастливо женат. Жена, по его словам, «аристократка по натуре». Ее отец – выдающийся юрист, стряпчий в одном городе графства Кент, «ведет кучу трактирных дел»; ее мать – троюродная сестра жены Абеля Джоунза, модного портретиста, «в известном смысле люди из общества». Но ему это неважно. Он не сноб. Важно другое: у жены – чудесное, нежнейшее, не испорченное никакой школой контральто, – да, да, другого такого нет на свете. («Но чтобы насладиться им в полной мере, – сказал Читтерлоу, – требуется большой зал».) О свой женитьбе Читтерлоу повествовал туманно и не вдавался в подробности, лишь головой помотал. Сейчас она «гостит у родителей». Было совершенно ясно, что Читтерлоу не очень с ними ладит. Похоже даже, они не одобряют его занятия драматургией: невыгодное, мол, занятие, – но они-то с Киппсом знают, скоро на него так и посыплются несметные богатства… Нужно только набраться терпения и упорства…
Тут Читтерлоу вдруг вспомнил о долге гостеприимства. Киппс должен вернуться к нему на Фенчерч-стрит. Нельзя же всю ночь болтаться по улице, когда дома ждет славная бутылочка.
– Вы будете спать на диване. И никакие сломанные пружины не помешают, уже недели три, как я их все повытаскивал. И на что вообще в диванах нужны пружины? Я в этом деле понимаю. Я на этом собаку съел, когда был в труппе Бесси Хоппер. Три месяца мы гастролировали, объездили всю Англию вдоль и поперек – Северный Уэллс, остров Мэн, – и всюду, где ни остановишься на ночлег, в диване непременно торчит хоть одна сломанная пружина. Ни одного целого дивана за все время, ни одного. Вот оно как бывает, – прибавил он рассеянно.
Они направились вниз, к Харбор-стрит, и скоро миновали Павильон-отель.
Так они вновь оказались в обществе старика Мафусаила, и под руководством Читтерлоу сей достойный старец со свойственной ему добросовестностью тут же снова раздул пламя в жилах Киппса. Влив в себя солидную порцию, Читтерлоу зажег трубку и погрузился в раздумье, из которого его вывел голос Киппса, заметившего, что ему сдается, «жизнь артистов уж очень беспокойная – то вроде на коне, а то – хлоп в лужу».
Читтерлоу снова встряхнулся.
– Пожалуй, – согласился он. – Иногда артист сам в этом повинен, иногда нет. Чаще всего сам же и виноват. Не одно, так другое… То с женой антрепренера связался, то расхвастался по пьяной лавочке… Рано или поздно непременно на чем-нибудь да сорвешься. Я фаталист. От своего нрава никуда не денешься. Сам от себя не уйдешь. Нипочем.
Он призадумался.
– На этом-то и строится настоящая трагедия. На психологии. Ирония греков… Ибсен… и вся прочая драматургия. Это современно.
Он изрек эту глубокую мысль – плод исчерпывающего анализа – таким тоном, точно отвечал заученный урок, думая совсем о другом. Но, назвав Ибсена, он словно очнулся.
Вот сидит перед ним наивный, непосвященный Киппс, для которого Ибсен – книга за семью печатями. Даже интересно открыть ему глаза, пускай знает, чего Ибсену недостает. Ведь вот совпадение: Ибсен слаб как раз в том, в чем сам он, Читтерлоу, силен. Разумеется, он и не думает ставить себя на одну доску с Ибсеном, но факт остается фактом: и Англию, и Америку, и колонии он знает куда лучше, чем Ибсен. Пожалуй, Ибсен ни разу на своем веку не побывал в кабаке и не видал хорошей потасовки. Это, разумеется, не вина Ибсена и не его, Читтерлоу, заслуга, но так уж оно получилось. Говорят, гений умеет делать все и обходиться без всего; но что-то оно сомнительно. Вот он сейчас пишет пьесу, вряд ли она понравится Уильяму Арчеру, но мнение Киппса ему куда важнее – эта пьеса, пожалуй, закручена покруче, чем у Ибсена.
Итак, после бесконечных околичностей Читтерлоу, наконец, перешел к своей пьесе. Он решил не читать ее Киппсу, а пересказать. Это проще, ведь большая часть еще не написана. И он принялся излагать сюжет, весьма сложный, об аристократе, который все на свете видел, все на свете испытал и знал о женщинах все то, что знал сам Читтерлоу, – иными словами, решительно все, да и не только о женщинах. Рассказывая, Читтерлоу оживился и разгорячился. Он даже вскочил, чтобы лучше изобразить сцену, которую не передашь одними словами. Удивительно живая сценка!
Киппс аплодировал вовсю.
– Ох и здорово заверчено! – воскликнул новоявленный театральный критик, вполне усвоив свою роль, и стукнул кулаком по столу, едва не опрокинув при этом третью (после возвращения) порцию старины Мафусаила.
– Здорово! Ай да Читтерлоу!
– Вы понимаете, в чем тут соль? – спросил Читтерлоу, и туча, омрачавшая его чело, окончательно рассеялась. – Вот молодчина, дружище! Я так и знал, что вы поймете. А вот критик-литератор этого не поймет. Но вообще-то это – только начало…
Он вновь наполнил стакан Киппса и принялся рассказывать дальше.
А потом уже незачем стало расшаркиваться перед этим хваленым Ибсеном и приличия ради ставить его впереди себя. Они с Киппсом друзья и могут признаваться в том, о чем обычно умалчивают.
– Как там ни верти, а здорово это у вас закручено, – не совсем к месту заявил Киппс, потягивая из вновь наполненного стакана. – Верно вам говорю.
Все вокруг слегка покачивалось, в ушах немножко шумело, это было очень славно, очень приятно, и, соблюдая некоторую осторожность, Киппс без особого труда поставил стакан обратно на стол. Оказывается, Читтерлоу все еще рассказывает пьесу, а старик Мафусаил уже почти весь вышел, в бутылке осталось на донышке. Это хорошо, значит, теперь уже не опьянеешь. Во всяком случае, сейчас он не пьян, правда, больше ему уже не хочется. Он-то знает меру. Он хотел было перебить Читтерлоу и выложить ему все это, но не знал, с чего начать. А вот Читтерлоу, похоже, из тех, кто не знает меры. Вот оно что, пожалуй, он не одобряет Читтерлоу. И даже очень не одобряет. Заговорил его совсем, спасенья нет! Киппс вдруг очень рассердился на Читтерлоу – непонятно почему и совершенно несправедливо – и даже хотел сказать ему: – Ну и мастер же вы языком болтать, – но только и выдавил из себя: «Ну и мастер же вы…» – но тут Читтерлоу поблагодарил его и сказал, что Арчер ему в подметки не годится. А Киппс глядел на Читтерлоу недобрым взглядом, и вдруг его осенило: что за чудеса, с чего это Читтерлоу все время поминает какого-то Киппса?! С чего бы это? Что-то здесь не так… И вдруг выпалил:
– Послушайте, вы это про что? Какой такой Киппс?
– Ну, тот самый малый, Киппс, про которого я рассказываю.
– Про какого такого Киппса вы рассказываете?
– Да я же вам говорил.
Киппс помолчал, пытаясь понять, что к чему. Потом упрямо повторил:
– Какой-такой Киппс?
– Ну, этот малый из моей пьесы… Ну, который целует девушку.
– Отродясь не целовал девушку, – сказал Киппс, – по крайней мере… – и умолк на полуслове. Он никак не мог вспомнить, поцеловал он в конце концов Энн или нет, хотел поцеловать, – это уже точно. И вдруг скорбно поведал погасшему камину: – Это я и есть Киппс.
– Как?
– Киппс, – сказал Киппс и улыбнулся не без вызова.
– Что Киппс?
– Он – это я. – И для вящей убедительности Киппс пальцем ткнул себя в грудь.
– Послушайте, Читтерлоу, – строго сказал он, близко наклонившись к собеседнику. – Нечего вам совать мое имя в пьесу. Это не годится. Меня в два счета уволят. – Тут, помнится, они слегка поспорили. Читтерлоу долго и обстоятельно объяснял, откуда он берет имена действующих лиц. Для этой пьесы он в основном пользовался газетой, которая еще и сейчас «где-нибудь тут валяется». Он даже принялся ее искать, а Киппс тем временем продолжал рассуждать, обращаясь к фотографии девушки в трико. Он сказал, что поначалу ее костюм сильно ему не понравился и он не хотел на нее смотреть, а теперь видит: у нее очень умное лицо. Вот если б она повстречала Баггинса, он бы ей понравился, это уж точно. Она, конечно, согласится… Да что там – каждый разумный человек согласится, нельзя совать в пьесы чужие имена. За это можно и к суду притянуть.
Он доверительно растолковал ей, что у него и так хватит неприятностей: ведь он не ночевал дома, а тут еще и в пьесу попал. Ему закатят такой скандал, уж это как пить дать. И зачем он такое учинил? Почему не вернулся в десять? Потому что одно цепляется за другое. Одно всегда цепляется за другое, так уж повелось на этом свете…
Он хотел еще сказать ей, что совершенно недостоин мисс Уолшингем, но тут Читтерлоу махнул рукой на газету и вдруг обругал Киппса, уверяя, что он пьян и несет околесицу.
5. Уволен
Он проснулся на необычайно удобном диване, из которого хозяин давно повытаскал все пружины. И хотя вчера он, конечно же, не был пьян, но сейчас ему казалось (и это безошибочно угадал Читтерлоу), что весь он – одна огромная, тяжелая голова и мерзкий, пересохший рот. Он спал, не раздеваясь, все тело одеревенело и ныло, но голова и рот не позволяли думать о подобных пустяках. В голове колом торчала одна гнетущая мысль, которая причиняла ему физическую боль. Стоило лишь слегка повернуть голову, и кол вонзался с новой силой, причиняя невероятные мучения. Это была мысль, что он потерял место, погиб окончательно и что ему почему-то на это наплевать. Шелфорду уж, конечно, доложат о его выходке да если еще прибавить к этому давешний скандал из-за витрины!..
Подбадриваемый увещаниями Читтерлоу, он наконец приподнялся и сел.
Равнодушно подчинялся он заботам хозяина дома. Читтерлоу, который, по его собственному признанию, тоже чувствовал себя «довольно кисло» и мечтал глотнуть наперсточек коньяку, ну, хотя бы наперсточек, нянчился с Киппсом, словно мать со своим единственным дитятей. Он сравнивал состояние Киппса с тем, как переносят похмелье другие его приятели, и в особенности достопочтенный Томас Норгейт.
– Вот кто так и не научился пить, – сказал Читтерлоу. – Кое с кем это случается.
Итак, он излил на голову новоявленного прожигателя жизни словесный бальзам и дал ему гренок, намазанный маслом, с анчоусами (лучшее лекарство в подобных случаях – это он знал по опыту), и вот наконец Киппс пристегнул измятый воротничок, почистил щеткой костюм, кое-как затянул прореху на штанине и приготовился предстать пред очи мистера Шелфорда и держать ответ за бурную, ни на что не похожую ночь – первую в его жизни ночь, проведенную вне дома.
По совету Читтерлоу – подышать свежим воздухом, а потом уже идти в магазин – Киппс прошелся взад и вперед по набережной, а потом завернул в закусочную близ гавани и выпил чашку кофе. Это сразу его взбодрило, и он зашагал по Главной улице навстречу неотвратимым ужасам, которые ожидали его в магазине, конечно, смиренный и униженный, но и чуточку гордый тем, что он такой отчаянный грешник. В конце концов, если у него и разламывается голова, это нисколько не умаляет его мужского достоинства, совсем напротив: он не вернулся ночевать, он пил всю ночь напролет, и его теперешнее состояние – лишнее тому свидетельство. Если бы не Шелфорд, он бы просто нос задрал от гордости, что с ним, наконец, такое случилось. Но мысль о Шелфорде была невыносима. Вскоре Киппсу повстречались два ученика – они урвали минутку перед открытием магазина и выскочили подышать воздухом. Увидев их, Киппс встряхнулся, залихватски сдвинул шляпу с бледного лба, сунул руки в карманы (ну чем не заправский кутила!) и улыбнулся этим невинным юнцам вымученной улыбкой. В это мгновение ему было лестно, что заметны, конечно, и неумело зашитое место на брюках и пятна грязи, которые так и не поддались щетке Читтерлоу. Чего только они не вообразят, повстречав его в таком виде! И он молча прошествовал мимо. Уж, наверно, они сейчас во все глаза глядят ему вслед! Но тут он опять вспомнил про мистера Шелфорда…
Ох, и взбучка же его ждет, а может быть, даже и… Он попытался придумать какое-нибудь благовидное оправдание. Можно сказать, что какой-то бешеный сшиб его велосипедом; что его оглушило – в затылке и сейчас еще отдается; что, приводя его в чувство, ему дали виски, – и «по правде говоря, сэр… – скажет он удивленным тоном, изумленно подняв брови, словно никогда не ожидал, что спиртное способно так странно подействовать на человеческий организм, – оно ударило мне в голову!»
В таком виде случившееся казалось вовсе не столь предосудительным.
Он пришел в магазин за несколько минут до восьми, и домоправительница, которая заметно отличала его среди прочих учеников («Уж очень он безобидный, наш мистер Киппс», – говаривала она), кажется, еще больше исполнилась сочувствия за то, что он преступил Правила, и дала ему большой гренок и горячего чаю.
– Хозяин уж, небось, знает, – начал Киппс.
– Знает, – ответила домоправительница.
Он появился в магазине чуть раньше времени и тотчас был вызван к Бучу. Из кабинета Буча он вышел через десять минут.
Младший конторщик внимательно поглядел на него. Баггинс просто спросил, без обиняков. И Киппс в ответ сказал одно только слово:
– Уволен!
Киппс привалился к прилавку и, засунув руки в карманы, беседовал с двумя младшими учениками.
– Наплевать мне, что меня уволили, – говорил Киппс, – я сыт по горло нашим Тедди и его Системой. Когда мой срок кончился, я сам хотел уволиться. Зря я тогда остался.
Немного погодя подошел Пирс, и Киппс повторил все сначала.
– За что тебя? – спросил Пирс. – Все из-за той несчастной витрины?
– Еще чего! – ответил Киппс, предвкушая, как огорошит Пирса сообщением о том, что он такой отчаянный грешник. – Я не ночевал дома.
И сам Пирс, известный гуляка Пирс, вытаращил на него глаза.
– Да что ты? Куда ж тебя занесло?
Киппс ответил, что «шатался по городу. С одним знакомым артистом».
– Нельзя же вечно жить монахом, – сказал он.
– Еще чего! – сказал Пирс, стараясь показать, что он и сам малый не промах.
Но, конечно; на этот раз Киппс всех заткнул за пояс.
– Ух, знали бы вы, что у меня в голове и во рту творилось утром, пока я не опохмелился, – сообщил он, когда Пирс ушел.
– А чем опохмелялся?
– Анчоусами на горячих гренках с маслом. Знаменитое средство! Уж можешь мне поверить, Роджерс. Другого не употребляю и тебе не советую. Так-то.
У него стали выпытывать, как было дело, и он опять повторил, что шатался по городу с одним знакомым артистом. Ну, а чем же они все-таки занимались? – приставали любопытные.
– А вы как думаете? – гордо и загадочно молвил Киппс.
Они пристали, чтоб он рассказал подробнее, но он, многозначительно посмеиваясь, заявил, что маленьким мальчиком такое знать не полагается. – Вот накатайте-ка на болванку льняное полотно, это – ваше дело.
Так Киппс пытался отогнать от себя мысли о том, что Шелфорд выставил его за дверь.
Все это было хорошо, пока на него глазели юные ученики, но перестало помогать, когда он остался один на один со своими мыслями. На душе скребли кошки, руки и ноги ныли, в голове и во рту хоть и стало получше, но все еще было тошно. По правде говоря, он чувствовал себя премерзко, сам себе казался грязным и отвратительным. Работать было нестерпимо, а просто стоять и думать – еще хуже. Зашитая штанина была точно живой укор. Из трех пар его брюк эти были не худшие, они стоили тринадцать шиллингов шесть пенсов. А теперь на них надо поставить крест. Пару, в которой он по утрам убирает магазин, в торговые часы не наденешь, придется взять в носку выходные. На людях Киппс держался небрежно, словно ему все трын-трава, но, оставшись один, сразу падал духом.
Его все сильнее угнетали денежные дела. Пять фунтов, положенные в Почтовый банк, да четыре шиллинга шесть пенсов наличными – вот и весь его капитал. Да еще ему причитается жалованье за два месяца. Жестяной сундучок уже не вмещает его гардероб, и выглядит он убого, неловко с ним являться на новое место. А еще понадобится куча бумаги и марок: писать письма по объявлениям – и деньги на железную дорогу: придется ездить в поисках нового места. И надо писать письма, а кто его знает, как их писать. Он, сказать по правде, не больно силен в правописании. Если к концу месяца он не подыщет место, придется, пожалуй, ехать к дяде с тетей.
Как-то они его примут?
Пока он, во всяком случае, ничего им сообщать не станет.
Вот такие малоприятные мысли прятались за беспечными словами Киппса: «Надоело мне все одно и то же. Если бы он меня не уволил, я бы, глядишь, сам сбежал».
В глубине души он был ошеломлен и не понимал, как же все это случилось. Он оказался жертвой судьбы или по крайней мере силы, столь же безжалостной, – в лице Читтерлоу. Он пытался вспомнить шаг за шагом весь путь, который привел его к погибели. Но это оказалось не так-то просто…
Вечером Баггинс засыпал его советами и случаями из жизни.
– Чудно, – говорил он, – а только каждый раз, как меня увольняют, меня страх берет: не найду места в магазине – и все тут. И всегда нахожу. Всегда. Так что не вешай нос. Первое дело – береги воротнички и манжеты; хорошо бы и рубашки тоже, но уж воротнички беспременно. Спускай их в самую последнюю очередь. Хорошо еще, сейчас лето, можно обойтись без пальто… И зонтик у тебя приличный…
Сидя в Нью-Ромней, работы не подыщешь. Так что подавайся прямиком в Лондон, сними самую что ни на есть дешевую каморку и бегай ищи место. Ешь поменьше. Многие ребята похоронили свое будущее в брюхе. Возьми чашку кофе и ломтик хлеба… ну, если уж невтерпеж, яйцо… но помни: в новый магазин надо явиться при полном параде. Нынче, я гак понимаю, заправляться лучше всего в старых извозчичьих харчевнях. Часы и цепочку не продавай до самой последней крайности…
Магазинов теперь хоть пруд пруди, – продолжал Баггинс. И прибавил раздумчиво: – Только сейчас, пожалуй, не сезон.
Он принялся вспоминать, как сам искал работу.
– Столько разного народу встречаешь, прямо на удивление, – сказал он. – С кем только не столкнешься! На иного поглядишь – ну что твой герцог. Цилиндр на нем. Ботиночки первый сорт, лакированные. Сюртучок. Все как полагается. Такого хоть сейчас возьмут в самый шикарный магазин. А другие – господи! Поглядишь – ну, берегись! Как бы самому не дойти до такой жизни. Дырки на башмаках замазаны чернилами, – видно, в какую-нибудь читальню заходил. Я-то сам обычно писал по объявлениям в читальне на Флит-стрит – самый обыкновенный грошовый клуб… Шляпа, сто раз промокшая, совсем потеряла форму, воротничок обтрепался, сюртучишко застегнут по самое горло, только и виден черный галстук, рубашки-то под ним вовсе нет. – Баггинс в благородном негодовании воздел руки к небесам.
– Совсем без рубашки?
– Проел, – ответил Баггинс.
Киппс задумался.
– Где-то сейчас старина Минтон, – сказал Киппс наконец. – Я его часто вспоминаю.
На другое утро после того, как Киппсу было заявлено об увольнении, в магазине появилась мисс Уолшингем. Она вошла с темноволосой стройной дамой, уже немолодой и увядшей, в очень опрятном платье – это была ее матушка, с которой Киппсу предстояло впоследствии познакомиться. Он увидел их в центральном зале, у прилавка с лентами. Сам он как раз принес новую партию товара, который только что распаковал у себя в отделе, к прилавку напротив, где торговали перчатками. Обе дамы склонились над коробкой черных лент.
На мгновение Киппс совсем растерялся. Как тут себя вести, чего требуют приличия? Он тихонько поставил коробки с товаром и, положив руки на прилавок, молча уставился на обеих покупательниц. Но, когда мисс Уолшингем выпрямилась на стуле, он тотчас сбежал…
К себе в хлопчатобумажный отдел он вернулся страшно взволнованный. Как только он ушел, ему сейчас же захотелось опять ее увидеть. Он метался за прилавком, отдавая отрывистые приказания ученику, убиравшему витрину. Потом повертел в руках какую-то коробку, зачем-то развязал ее, снова стал завязывать и вдруг опять кинулся в главный зал. Сердце его неистово колотилось.
Дамы уже поднялись со стульев – очевидно, выбрали все, что хотели, и теперь дожидались сдачи. Миссис Уолшингем равнодушно взирала на расставленные по прилавку коробки с лентами; Элен обводила взглядом магазин, увидела Киппса – и в глазах ее явственно вспыхнула искорка оживления.
Он по привычке опустил руки на прилавок и смущенно глядел на нее. Как она поступит? Не пожелает его узнать? Элен пересекла зал и подошла к нему.
– Как поживаете, мистер Киппс? – спросила она своим ясным, чистым голосом и протянула ему руку.
– Хорошо, благодарю вас, – ответил Киппс. – А вы как?
Она сказала, что покупала ленты.
Киппс почувствовал, что миссис Уолшингем чрезвычайно удивлена, и не решился намекнуть на занятия резьбой по дереву; вместо этого он сказал, что она, небось, рада каникулам. Она ответила: да, рада, у нее теперь остается больше времени на чтение и тому подобное. Она, наверно, поедет за границу, догадался Киппс. Да, они, вероятно, отправятся ненадолго в Нок или в Брюгге.
Они замолчали; в душе Киппса бушевала буря. Ему хотелось сказать ей, что он уезжает и никогда больше ее не увидит. Но у него не было таких слов, да и голос ему изменил. Отпущенные ему секунды пролетели. Девица из отдела лент вручила миссис Уолшингем сдачу.
– Ну, до свидания, – сказала мисс Уолшингем и опять подала ему руку.
Киппс с поклоном пожал ее. Никогда еще она не видела, чтобы он держался так хорошо. Она повернулась к матери. Все пропало, все пропало. Ее мать! Разве такое можно сказать при ее матери! Ему оставалось лишь быть вежливым до конца. И он кинулся отворять им дверь. Стоя у дверей, он еще раз низко и почтительно поклонился, лицо у него было серьезное, почти строгое, а мисс Уолшингем, выходя, кивнула ему и улыбнулась. Она не заметила его душевных мук, а только лестное для нее волнение. И горделиво улыбнулась, словно богиня, которой воскурили фимиам.
Миссис Уолшингем кивнула чопорно и как-то стесненно.
Они вышли, а Киппс еще несколько мгновений придерживал Дверь, потом кинулся к витрине готового платья, чтобы увидеть их, когда они пойдут по улице. Вцепившись в оконную решетку, он не сводил с них глаз. Мать, кажется, о чем-то осторожно расспрашивала. Элен отвечала небрежно, с невозмутимым видом человека, вполне довольного нашим миром.
– Ну, право, мамочка, не могу же я делать вид, будто не узнаю своего студента, – говорила она в эту минуту.
И они скрылись за углом.
Ушла! И он больше никогда ее не увидит… никогда!
Киппса будто полоснули хлыстом по сердцу. Никогда! Никогда! Никогда! И она ничего не знает! Он отвернулся от витрины. Но смотреть на свой отдел, на двух подчиненных ему учеников было нестерпимо. Весь залитый светом мир был невыносим.
Он постоял еще мгновение в нерешительности и сломя голову кинулся в подвал, на склад своего хлопчатобумажного отдела. Роджерс о чем-то его спросил, но он сделал вид, что не слышит.
Склад хлопчатобумажного отдела находился в подвальчике, отдельно от больших подвалов здания и едва освещался тусклым газовым рожком. Не прибавляя газа, он кинулся в самый темный угол, где на нижней полке хранились ярлычки для витрин. Трясущимися руками схватил и опрокинул коробку с ярлычками; теперь он с полным правом мог на какое-то время остаться здесь, укрывшись в тени, и хоть ненадолго дать волю горю, от которого разрывалось его сердчишко.
Так он сидел, пока крик «Киппс! Живо!» не заставил его вновь предстать перед этим безжалостным миром.








