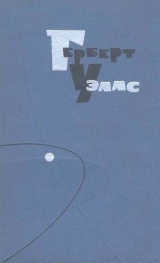
Текст книги "Собрание сочинений в 15 томах. Том 7"
Автор книги: Герберт Джордж Уэллс
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 38 страниц)
Обычно день начинался с торопливой беготни взад и вперед с дощечками, ящиками и разными товарами для Каршота, который украшал витрины и, как бы Киппс ни старался, бранил его не переставая, ибо страдал хроническим несварением желудка. Время от времени приходилось заново наряжать витрину готового платья, и тогда Киппс, спотыкаясь, тащил из пошивочной через весь магазин деревянных дам, крепко, хотя и несколько смущенно подхватив их под деревянные коленки. Если же не надо было украшать витрины, он без роздыха таскал и громоздил на полки штуки и кипы мануфактуры. За этим следовала самая трудная, поначалу просто отчаянно трудная работа: некоторые сорта тканей поступали в магазины сложенными, и их надо было намотать на болванки, чему они всячески противились, во всяком случае, в руках Киппса; а другие ткани, присланные оптовиками на болванках, следовало перемерить и сложить – для юных учеников не было работы ненавистней. И ведь всего этого тяжкого труда вполне можно было избежать, если бы не то обстоятельство, что сия чрезвычайно «тонкая» работа обходится дешево, а наш мир дальше собственного носа ничего не видит. Потом надо было разложить новые товары, запаковать их, что Каршот проделывал с ловкостью фокусника, а Киппс – как мальчишка, которому это дело не по душе, а что по душе – он и сам не знает. И все это время Каршот шпынял его и придирался к каждому шагу.
В выражениях, весьма своеобразных и цветистых, Каршот взывал к своим внутренностям, но утонченность нашего времени и советы друзей заставили меня заменить цветы его красноречия жалкой подделкой.
– Лопни мое сердце и печенка! Отродясь не видал такого мальчишки, – вот как условно передам я любимое выражение Каршота. И даже если покупатель стоял совсем рядом, натренированное ухо Киппса опять и опять улавливало в неразборчивом бормотании Каршота знакомое: …ну, скажем, «Лопни мое сердце и печенка!».
Но вот наступал блаженный час, когда Киппса отсылали из магазина с поручениями. Чаще всего требовалось подобрать для пошивочной мастерской пуговицы, резинки, подкладку и прочее взамен оказавшихся негодными. Ему вручали письменный заказ с приколотыми к нему образчиками и выпускали на заманчивую солнечную улицу. И вот до той минуты, пока он не сочтет за благо вернуться и выслушать выговор за нерасторопность, он свободный человек, и никто не вправе его ни в чем упрекнуть!
Он совершал поразительные открытия по части топографии; оказалось, например, что самый удобный путь от заведения мистера Адольфуса Дейвкса к заведению фирмы Кламмер, Роддис и Терел, куда его посылали чаще всего, не вниз по улице Сандгейт, как все думают, а в обратную сторону, вокруг Западной террасы по набережной, где можно поглядеть, как поднимется и опустится фуникулер; – дважды, не больше, а то на это уйдет слишком много времени, – потом можно вернуться по набережной, немного постоять и поглазеть на гавань, а потом вокруг церкви, на Черч-стрит (уже поторапливаясь) и прямо на Рандеву-стрит. В самые теплые и погожие дни его путь лежал через Рэднорский парк к пруду, где малыши пускали кораблики и можно было поглядеть на лебедей.
А потом он возвращался в магазин, где все были поглощены служением Покупателю. И его приставляли к кому-нибудь из тех, кто служил Покупателю, и он снова бегал по магазину с пакетами и счетами, всякий раз снимал с прилавка все, что не понравилось разборчивому Покупателю, до ломоты в руках поддерживал драпировки, чтоб видней было все тому же Покупателю. Но труднее всего было ничего не делать, когда не оказывалось работы, и при этом не глазеть на покупателей, чтобы, не дай бог, не докучать им своими взглядами. Он погружался в пучину скуки или уносился мыслями далеко-далеко: сокрушал врагов отечества либо отважно вел сказочный корабль по неведомым морям и океанам. Но грубый начальственный окрик возвращал его на нашу высокоцивилизованную землю.
– Эй, Киппс! Живо, Киппс! Подержи-ка, Киппс! – И впридачу чуть слышно: – Лопни мое сердце и печенка!
В половине восьмого – за исключением дней, когда торговля продолжалась допоздна, – в магазине начинали лихорадочно убирать товары, и, когда опущена была последняя ставня, Киппс стремглав мчался завешивать полки и укрывать товары на прилавках, чтобы побыстрее усыпать полы мокрыми опилками и подмести торговые залы.
Случалось, покупательницы задерживались надолго после того, как наступало время закрывать магазин.
– У Шелфорда с этим не считаются, – говорили они.
И они неторопливо перебирали материи, а служащим запрещалось задергивать полки и вообще каким-либо неосторожным движением намекнуть на поздний час – до тех пор, пока не закрывалась дверь за последней покупательницей.
Укрывшись за кипой товаров, мистер Киппс не спускал глаз с этих припозднившихся покупателей, и какие только проклятия он не обрушивал на их головы! К ужину, хлебу с сыром и водянистому пиву, ожидавшему его в подвале, он приходил обычно в десятом часу, и остаток дня был в полном его распоряжении – можно было почитать, развлечься и заняться самообразованием…
Входная дверь запиралась в половине одиннадцатого, а в одиннадцать в комнатах гасили свет.
По воскресеньям Киппсу полагалось один раз побывать в церкви, но он обычно ходил дважды: все равно больше нечего делать. Он садился сзади на какое-нибудь свободное даровое место; у него не хватало смелости подтягивать хору, а иногда и сообразительности, чтобы понять, в каком месте следует открыть молитвенник, и он далеко не всегда прислушивался к проповеди. Но он почему-то вообразил, что тому, кто часто ходит в церковь, легче жить на свете. Тетушка давно хотела, чтобы он конфирмовался, но он вот уже несколько лет уклонялся от этой церемонии.
Между службами он прогуливался по Фолкстону с таким видом, будто что-то разыскивает. Но по воскресеньям на улицах было далеко не так интересно, как в будни: ведь магазины все закрыты; зато ближе к вечеру набережную заполняла нарядная толпа, которая приводила его в смущение. Иногда ученик, стоявший на служебной лестнице в заведении Шелфорда на ступеньку выше Киппса, снисходил до того, чтобы составить ему компанию; но если до него самого снисходил ученик, стоявший еще ступенькой выше, Киппс оставался в одиночестве, ибо в своем дешевом костюме – порядочным сюртуком он еще не обзавелся – он, конечно же, не годился для столь изысканного общества.
Иногда он устремлялся за город – тоже словно в поисках чего-то утерянного, но еда, которая ждала в столовой лишь в определенные часы, крепко привязывала его к городу, и приходилось поспешно возвращаться; а случалось, он тратил чуть ли не весь шиллинг, который вручал ему в конце недели Буч, на то, чтобы насладиться концертом, устраиваемым на пристани. После ужина он раз двадцать – тридцать прохаживался по набережной, мечтая набраться храбрости и заговорить с кем-нибудь из встречных – судя по виду, таких же учеников и служащих. Почти каждое воскресенье он возвращался в спальню со стертыми ногами.
Книг он не читал: где их достанешь, да к тому же хоть они проходили у мистера Вудро скверно изданную со скверными примечаниями «Бурю» (серия «Английские классики»), вкуса к чтению это ему не привило; он никогда не читал газет, разве что заглянет случайно в «Пикантные новости» или в грошовый юмористический листок. Пищу для ума он черпал лишь в перепалках, которые иногда вспыхивали за обедом между Каршотом и Баггинсом. Вот это был кладезь мудрости и остроумия! Киппс старался запомнить все их остроты, приберечь на то время, когда он и сам станет таким вот Баггинсом и сможет так же смело и свободно, вступать в разговор.
Изредка заведенный порядок жизни нарушался: наступала распродажа, которая омрачалась сверхурочной работой за полночь, но зато озарялась подаваемой дополнительно на ужин килькой и двумя-тремя шиллингами в виде «наградных». И каждый год – не в редких, исключительных случаях, а каждый год – мистер Шелфорд, сам восхищаясь своим отеческим великодушием и не забывая напомнить о куда более суровой поре собственного ученичества, щедро отваливал Киппсу целых десять дней отпуска. Каждый год целых десять дней! Не один бедняга в Портленде мог бы позавидовать счастливчику Киппсу. Но сердце человеческое ненасытно! Как жаль было каждого уходящего дня – они так быстро пролетали!
Раз в год проводился переучет товара, и время от времени бывала горячка – разбирали по сортам новые, только что прибывшие партии. В такие дни мистер Шелфорд просто подавлял служащих своим великолепием.
– Система! – выкрикивал он. – Система! Поди-ка сюда! Слушай! – И он выпаливал одно за другим путаные, противоречивые приказания. Каршот, пыхтя и потея, трусил по магазину, держа свой крупный нос по ветру, поминутно косился испуганными глазками на хозяина, морщил лоб и беззвучно шептал излюбленное «Лопни мое сердце и печенка!». Пронырливый младший приказчик и самый старший ученик состязались друг с другом в угодливости и льстивом усердии. Молодой проныра метил на место Каршота и буквально пресмыкался перед Шелфордом. И все они понукали Киппса. Киппс держал пресс-папье, и непроливающуюся чернильницу, и ящик с ярлычками, и бегал, и подносил то одно, то другое. Стоило ему поставить чернильницу и умчаться за чем-нибудь, как мистер Шелфорд непременно ее опрокидывал, а если Киппс уносил ее с собой, оказывалось, что она нужна мистеру Шелфорду сию же секунду.
– Тошно мне от тебя, Киппс, – говорил мистер Шелфорд. – Через тебя нервалгия. Ничегошеньки не смыслишь в моей Системе.
Унесет Киппс чернильницу – и мистер Шелфорд, багровея, тычет сухим пером куда попало, ругается на чем свет стоит, Каршот, в свою очередь, поднимает крик, и молодой проныра бежит в конец зала и поднимает крик, и старший ученик мчится за Киппсом и кричит:
– Живее, Киппс, живей! Чернил, парень! Чернил!
В эти периоды бури и натиска душа Киппса наполнялась смутным недовольством собой, которое переходило в острую ненависть к Шелфорду и его приспешникам. Он чувствовал, что все происходящее гадко и несправедливо, но понять, почему и отчего так получается, было не под силу его неразвитому уму. В мыслях у него царил совершенный сумбур. Неловко и нерасторопно исполняя свои многочисленные обязанности, он жаждал только одного – избежать хоть малой доли попреков, которые обрушивались на его бедную голову. До чего все мерзко и отвратительно! И отвращение отнюдь не становилось меньше оттого, что ноги вечно ныли и опухали и пятки были стерты, – без этого никак не сделаешься настоящим продавцом тканей. А тут еще старший ученик, Минтон, долговязый, мрачный юнец с черными, коротко остриженными, жесткими волосами, безобразным губастым ртом и похожими на кляксу усиками под носом, – своими разговорами он заставлял Киппса глубже задумываться над происходящим и окончательно приводил в отчаяние.
– Как постареешь и силенок поубавится, так тебя выбрасывают вон, – сказал Минтон. – Господи! Куда только не подается старый продавец тканей – и в бродяги, и в нищие, и грузчиком в доках, и кондуктором в автобусе, и в тюрьму. Всюду он, только не за прилавком.
– А почему они не заводят собственную лавку?
– Господи! Да откуда? На какие шиши? Разве наш брат приказчик когда скопит хоть пятьсот фунтов? Да нипочем. Вот и цепляешься за прилавок, пока не выгонят. Нет уж, раз угодил в сточную канаву, – будь она проклята, – стало быть, век барахтайся в ней, пока не сдохнешь.
У Минтона руки чесались «двинуть коротышке в морду» – коротышкой он величал мистера Шелфорда – и поглядеть, что станется тогда с его хваленой системой.
И теперь всякий раз, когда Шелфорд заходил в отдел Минтона, Киппс замирал в сладком предвкушении. Он поглядывал то на Минтона, то на Шелфорда, словно прикидывая, куда его лучше «двинуть». Но по причинам, ведомым лишь самому Шелфорду, он никогда не помыкал Минтоном, как помыкал безответным Каршотом, и Киппсу так и не довелось полюбоваться поучительным зрелищем.
Иной раз все спят и похрапывают, а Киппс лежит без сна и с тоской думает о будущем, которое ему нарисовал Минтон. Он начинал смутно понимать, что с ним произошло, – его захватили колеса и шестерни Розничной Торговли, и вырваться из дисков этой тупой, неодолимой машины он не в силах: нет ни воли, ни умения. Так и пройдет вся жизнь. Ни приключений, ни славы, ни перемен, ни свободы. О любви и женитьбе тоже нечего мечтать, – впрочем, в полной мере он понял это позднее. И было еще нечто – «увольнение», когда тебе вручают «ключи от улицы» и начинается «охота за местом», – об этом говорили редко и скупо, но вполне достаточно, чтобы это запало в голову. Чуть не каждую ночь Киппс решал наняться в солдаты или на корабль, поджечь склады или утопиться, а наутро вскакивал с постели и мчался вниз, чтобы не оштрафовали. Он сравнивал свое нудное и тяжелое рабство с ветреными, солнечными днями в Литлстоуне, с этими окнами счастья, которые сияли чем дальше, тем ярче. И в каждом таком окне маячила фигурка Энн.
Жизнь не пощадила и ее. Когда Киппс впервые после поступления к Шелфорду приехал домой на рождество, его великая решимость поцеловать Энн вспыхнула с новой силой; он поспешил во двор и засвистел, вызывая ее. Никакого ответа – и вдруг за спиной голос Киппса-старшего.
– Зря стараешься, сынок, – произнес он громко, отчетливо, так, чтобы слышали за стеной. – Разъехались твои дружки. Девчонку отправили в Ашфорд, сынок, помогать по хозяйству. Прежде говорили: в услужение, да нынче ведь все по-другому. Того гляди, скажут «экономкой». С них все станется.
А Сид?.. Оказалось, и его нет.
– Посыльным, заделался или вроде того, – сказал Киппс-старший. – В велосипедной мастерской, пропади они все пропадом.
– Вон как? – выдавил Киппс, сердце его сжалось, и он понуро поплелся к дому.
А Киппс-старший, думая, что племянник все еще здесь, продолжал поносить Порников…
Когда Киппс очутился наконец один в своей комнатушке, он сел на постель да так и застыл, глядя в одну точку. В тисках… все они в тисках. Вся жизнь сразу превратилась в унылый понедельник. Гуронов раскидало по свету, обломки кораблекрушений, походы вдоль берега – все утрачено безвозвратно, ласковое солнце литлстоунских вечеров закатилось навеки…
Из всех радостей отпуска осталась одна-единственная: он не в магазине. Но ведь и это ненадолго. Вот впереди у него уже всего два дня, один день, полдня. И когда он вернулся в магазин, первые две ночи были полны тоски и отчаяния. Он дошел даже до того, что в письме домой туманно намекнул на свои мысли о работе, о будущем и сослался на Минтона, но в ответном письме миссис Киппс спросила: он, что же, хочет, чтобы Порники сказали, будто у него не хватило ума стать продавцом тканей? Довод был поистине убедительный. Нет, решил Киппс, он не допустит, чтобы его сочли неудачником.
Его очень подбодрила мужественная проповедь, которую громовым голосом читал рослый, откормленный, загорелый священник, только что вернувшийся из какой-то колониальной епархии по причине слабого здоровья; проповедник увещевал прихожан делать любое дело в полную силу; притом, готовясь к конфирмации, Киппс снова взялся за катехизис, и это тоже напомнило ему, что человеку следует исполнять свои обязанности на той стезе, по которой богу было угодно его направить.
Шло время, Киппс понемногу успокаивался, и, если бы не чудо, на этом бы и кончилась его недолгая трагедия. Он примирился со своим положением – этого требовала от него церковь, да и все равно он не видел никакого выхода.
Первое облегчение своей участи он ощутил, когда мало-помалу привыкли и перестали болеть ноги. А затем чуть повеяло вольным ветерком: мистер Шелфорд упорно держался за так называемую «всеобщую свободу», за «идею» своей «Системы», опираясь, конечно, на высокопатриотические соображения, но наконец под нажимом кое-кого из постоянных покупателей вынужден был присоединиться к «Ассоциации магазинов короткого дня»; и вот каждый четверг мистер Киппс мог теперь наконец выйти в город засветло и отправиться куда угодно. Вдобавок пессимист Минтон отслужил положенный по договору срок и уволился – он записался в кавалерию, пустился по белу свету, жил жизнью беспорядочной, но полной приключений, которая кончилась в одной хорошо известной и, в сущности, вовсе не кровопролитной ночной битве.
Скоро Киппс перестал протирать окна; теперь он обслуживал покупателей (самых незначительных), подносил товары на выбор; и вот он уже старший ученик, и у него пробиваются усы, и уже есть три ученика, которыми он имеет полное право помыкать, раздавая им оплеухи и подзатыльники. Правда, один из них, хоть и моложе Киппса, но такой верзила, что его не стукнешь – и это с его стороны просто бессовестно.
Теперь Киппс уже не думает неотступно о своей горькой судьбе, его отвлекает множество других забот, свойственных юности. Он стал, например, больше интересоваться своим платьем, стал понимать, что на него смотрят, начал заглядывать в зеркала в пошивочной и в глаза учениц.
Ему есть у кого поучиться, с кого брать пример. Его непосредственное начальство Пирс, что называется, – записной щеголь и рьяно исповедует свою веру. В часы затишья в отделе хлопчатобумажных тканей с важностью рассуждали о воротничках и галстуках, о покрое брюк и форме носка у башмаков. Настал наконец час, когда Киппс отправился к портному и сменил куртку на утреннюю визитку. Окрыленный, он купил еще на свой страх и риск взамен отложных три стоячих воротничка. Они были высотой чуть не в добрых три дюйма, даже выше воротничков Пирса, безжалостно натирали шею, оставляя красный след под самым ухом… Что ж, теперь не стыдно показаться даже и в обществе модника Пирса, занявшего место Минтона.
Когда Киппс начал одеваться, как подобает молодому человеку, юные красавицы, служившие в заведении Шелфорда, обнаружили, что он перестал быть «маленьким чучелом», – и это лучше всего помогло ему забыть о своей горькой судьбе. Прежде они и смотреть на него не желали: пусть знает свое место. Теперь они вдруг заметили, что он «симпатичный мальчик», – отсюда лишь один шаг до «милого дружка», и это даже в некотором смысле предпочтительнее. Как это ни прискорбно, его верность Энн не выдержала первого же испытания. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, насколько выиграла бы эта повесть во мнении романтически настроенного читателя, если бы мой герой не изменил своей первой любви. Но то была бы совсем иная повесть. И все же в одном отношении Киппс оставался ей верен: сколько он потом ни влюблялся, ни разу не испытал он того удивительного тепла, того ощущения внутренней близости, какие вызывало в нем зарумянившееся личико Энн. И однако в этих новых увлечениях тоже были свои волнения и радости.
Прежде всех его заметила и своим поведением дала ему понять, что он может возбуждать интерес, одна из красавиц, служивших в пошивочной мастерской. Она заговаривала с ним, вызывала его на разговоры, дала ему почитать книжку, даже заштопала ему однажды носок и сказала, что отныне будет его старшей сестрой. Она милостиво разрешала сопровождать ее в церковь и всем своим видом говорила: это я его сюда привела. Вслед за тем она обратила свои заботы на его душу, одолела его показное, чисто мужское равнодушие к религии и добилась от него обещания конфирмоваться. Это подстегнуло другую девицу из мастерской, ее соперницу, и она во всеоружии всех женских чар и лукавства тоже повела наступление на готовое расцвести сердце Киппса. Она избрала более светский путь к его сердцу: по воскресеньям после обеда ходила с ним прогуляться на набережную, внушала ему, что настоящий джентльмен, сопровождая даму, всегда должен идти со стороны мостовой и надевать или хотя бы держать в руках перчатки, – словом, старалась сделать из него истого англичанина. Вскоре соперницы обменялись весьма колкими замечаниями по поводу воскресного времяпрепровождения Киппса. Таким образом, Киппс был признан мужчиной, подходящим объектом для не слишком острых стрел платонического Эроса, которые залетают даже в самые первоклассные торговые заведения. И, как многие и многие молодые англичане, он возжаждал если уж не стать «джентльменом», то хотя бы возможно больше походить на такового.
Он отдался этим новым интересам со всем пылом юности. Его посвятили в тайны флирта, а немного погодя из поучительных намеков Пирса, который охотно рассуждал о таких предметах, ему открылись и менее невинные формы ухаживания. Вскоре он был обручен. За какие-нибудь два года он был обручен шесть раз, и, по его собственному убеждению, стал отчаянным сердцеедом. Но все равно оставался истинным джентльменом, не говоря уже о том, что за четыре весьма кратких урока, данных ему сдержанным и угрюмым молодым священником, он подготовился к конфирмации, а затем окончательно вступил в лоно англиканской церкви.
В мануфактурных магазинах за помолвкой вовсе не обязательно следует женитьба. Она куда более утонченна, не носит столь вульгарно практического характера и не так неизбежно связывает людей, как среди прозаических богачей. Какой же юной красотке приятно обходиться без суженого? Это даже противоестественно, а Киппса совсем не трудно было заполучить на эту роль Когда вы обручены, рассуждают девицы, это очень удобно. Есть кому сопровождать вас в церковь и на прогулки: неприлично прогуливаться с молодым человеком, тем паче принимать его ухаживания, если он вам никто – не жених и не названый брат; вас сочтут легкомысленной особой или скажут, что ведешь себя, как служанка. Все мы, конечно, равны перед богом, но молоденькая продавщица у нас в Англии так же страшится походить на служанку, как скажем, журналистка – на продавщицу, а настоящая аристократка – на любую девушку, которая в поте лица зарабатывает свой хлеб. Но даже когда им казалось, что чувства их глубока, они только еще резвились в мелководье, у самого берега любви, они в лучшем случае по-детски плескались подле глубин, которые человеку суждено преодолеть вплавь, – либо пойти ко дну.
Киппс не изведал ни глубин, ни опасностей, ни взлета на могучих волнах. Для него любовь состояла в заботах о туалете, в стремлении покрасоваться, блеснуть удачным словцом, польстить друг дружке, похвастать, в радостях ответного рукопожатия, в безрассудно смелом переходе к обращению просто по имени, а высшим выражением любви были совместные прогулки, разговоры по душам, более или менее робкое пожатие локотка. Посидеть в обнимку с любимой на скамейке, когда стемнеет, – это, разумеется, верх дерзости, большего уже никак нельзя себе позволить на стезе служения неумолимой богине, что вышла из пены морской. Так называемые «невесты» входили в сердце Киппса и вновь покидали его, точно пассажиры омнибуса, и за недолгий срок, что проводили с ним в пути, и в минуту расставания не ведали ни бурного счастья, ни горя. И, однако, любовные интересы постоянно занимали Киппса, помогая ему, как и многое другое, пройти через эти годы рабства…
Виньеткой, заключающей эту главу, пусть послужит такая сценка.
Солнечный воскресный день; место действия – уединенная скамейка на набережной. Киппс на четыре года старше, чем был в час расставания с Энн. Над верхней губой у него заметный невооруженным глазом пушок, и костюм его – предел щегольства, какое позволяют его средства. Воротничок врезается в отнюдь не волевой подбородок, поля шляпы изогнуты, галстук говорит об отменном вкусе; на нем щегольские, но скромного покроя брюки и светлые ботинки на пуговицах. Дешевой тросточкой он ворошит гравий на дорожке и искоса поглядывает на молоденькую кассиршу Фло Бейтс. На Фло ослепительная блузка и шляпка с яркой отделкой. Она одета по последней моде – какая-нибудь светская дама в этом, пожалуй, усомнилась бы, но Киппс чужд подобных сомнений и горд, что состоит ее «дружком» и что ему позволено хотя бы изредка называть ее просто по имени.
Они, как теперь принято, легко и непринужденно беседуют, с лица Фло не сходит улыбка; веселый нрав – главное ее очарование.
– Понимаете, вы думаете совсем не про то, про что я, – говорит Киппс.
– Ну, хорошо, а вы про что?
– Не про то, про что вы.
– Тогда скажите.
– Ну, это совсем другой разговор.
Молчание. Они многозначительно смотрят друг на друга.
– С вами не больно-то поговоришь напрямки, – говорит молодая девица.
– Ну и вы, знаете, не простушка.
– Не простушка?
– Да.
– Это чего же, мол, со мной нельзя напрямки?
– Нет. Я не про то… Хотя…
Молчание.
– Ну?
– Вы совсем даже не простушка… вы (тут он пускает петуха) хорошенькая. Понимаете?
– Ах, да ну вас! – Она тоже чуть не взвизгивает от удовольствия, ударяет его перчаткой и вдруг бросает быстрый взгляд на кольцо у себя на пальце. Улыбки как не бывало… Снова молчание. Но вот глаза их встретились, и на лице Фло снова заиграла улыбка.
– Интересно знать… – начал Киппс.
– Что знать?..
– Откуда у вас это кольцо?
Она подносит к глазам руку с кольцом, так что теперь только и видны эти глазки (очень миленькие).
– Ишь, какой любопытный, – медленно говорит она, и улыбка ее становится еще шире, победительнее.
– Я и сам догадаюсь.
– А вот не догадаетесь.
– Не догадаюсь?
– Нипочем.
– Догадаюсь с трех раз.
– А имя не угадаете.
– Да ну?
– А вот и ну!
– Ладно уж, дайте-ка я на него погляжу.
Киппс рассматривает кольцо. Молчание, хихиканье, легкая борьба, Киппс пытается снять кольцо с ее пальца. Она хлопает Киппса по руке. Невдалеке на дорожке появляется прохожий, и она торопливо отдергивает руку.
Косится на прохожего: вдруг знакомое лицо? И пока он не скрывается из виду, оба пристыженно молчат…








