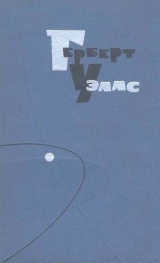
Текст книги "Собрание сочинений в 15 томах. Том 7"
Автор книги: Герберт Джордж Уэллс
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 38 страниц)
Она скрылась за углом дома.
Я в изумлении остановился, не зная, пытаться ли мне догнать ее. Что все это значит? Вверху послышались чьи-то шаги.
– Вилли, – окликнула меня миссис Стюарт. – Это ты?
– Да, – ответил я, – куда же все запропали? Где Нетти? Мне нужно поговорить с ней.
Она не отвечала, но я слышал шуршание ее платья. Наверно, она стоит на верхней площадке лестницы.
Я остановился внизу, ожидая, что она ко мне сойдет.
Вдруг послышались странные звуки, сквозь них прорывались бессвязные, скомканные, неясные слова, как бы выходящие из сжатого конвульсией горла, и, наконец, всхлипывания без всяких слов. Плакала, несомненно, женщина, но звуки походили на жалобный плач ребенка. «Я не могу… я не могу…» И больше ничего нельзя было разобрать. Плач доброй женщины, всегда кормившей меня таким вкусным пирожным, показался мне невероятным событием. Эти звуки испугали меня. В безумной тревоге поднялся я по лестнице; здесь на площадке стояла миссис Стюарт, склонившись над комодом подле отворенной двери ее спальни, и горько плакала. Никогда не видал я ее в таком горе. Большая прядь темных волос выбилась из прически и упала на спину; никогда раньше я не замечал, что у нее есть седые волосы.
Когда я поднялся на площадку, она опять заговорила.
– Вот уж не ожидала, что мне придется сказать тебе такое, Вилли. Вот уж не ожидала! – Она опять опустила голову и начала рыдать.
Я молчал, я был слишком изумлен, но я подошел к ней поближе и ждал…
Никогда не видел я таких слез. Я и теперь еще вижу перед собой ее совершенно мокрый платок.
– Подумать только, что я дожила до такого дня! – простонала она. – В тысячу раз легче было бы мне видеть ее мертвой.
Я начал догадываться.
– Миссис Стюарт, – проговорил я хрипло, – скажите, что случилось с Нетти?
– И зачем только дожила я до этого дня! – всхлипнула она вместо ответа.
Я ждал, чтобы она успокоилась.
Наконец плач понемногу стал стихать. О револьвере я совсем забыл. Я все еще молчал, и она внезапно выпрямилась во весь рост, вытерла распухшие глаза и сразу проговорила:
– Она ушла, Вилли.
– Нетти?
– Ушла… Убежала… Убежала из родного дома. О Вилли, Вилли! Какой позор! Какой грех и позор!
Она тяжело оперлась на мое плечо, прижалась ко мне и снова заговорила о том, что ей легче было бы видеть дочь мертвой.
– Ну-ну, успокойтесь, – весь дрожа, проговорил я. – Куда она ушла? – спросил я потом как можно мягче.
Но миссис Стюарт была слишком поглощена своим горем, и мне пришлось обнимать и утешать ее, хотя ледяные пальцы уже сжали мое сердце.
– Куда она ушла? – спросил я в четвертый раз.
– Не знаю я… Мы не знаем… Ах, Вилли, она ушла вчера утром. Я сказала ей: «Нетти, не слишком ли ты приоделась для утреннего визита?» А она ответила: «В такой хороший день хочется хорошо одеться». Вот что она мне сказала, и это-были ее последние слова. Подумай, Вилли, дитя, которое я выкормила своею грудью.
– Да, да, – сказал я. – Куда же она ушла?
Миссис Стюарт снова зарыдала и начала рассказывать, спеша и захлебываясь слезами:
– Она ушла веселая, сияющая, ушла навеки из родного дома. Она улыбалась, Вилли, как будто радовалась, что уходит. («Радовалась, что уходит», – повторил я, беззвучно шевеля губами.) «Ты слишком уж нарядилась, – сказала я ей, – слишком нарядилась». А отец говорит: «Пусть девочка наряжается, пока молода». И куда только она запрятала узел со своими вещами, чтобы потом унести? Ведь она ушла из родного дома навеки!
Наконец она успокоилась.
– Пусть девочка наряжается, – повторяла она, – пусть девочка наряжается, пока молода… Как нам теперь жить, Вилли? Он этого не показывает, но он совсем убит, убит, сражен в самое сердце. Она всегда была его любимицей. Никогда он не любил Пус так, как ее. А она причинила ему такое горе…
– Куда же она ушла? – перебил я ее наконец.
– Мы сами не знаем. Бросила своих близких, а сама доверилась… О Вилли, это убьет меня! Я бы хотела, чтобы мы вместе с ней лежали сейчас в могиле.
– Но… – Я смочил языком пересохшие губы и медленно проговорил: – Может быть, она ушла, чтобы выйти замуж?
– Если бы это было так! Я молю бога, чтобы это было так, Вилли. Я его умоляла, чтобы он заставил его сжалиться над ней, того, с кем она теперь.
– Кто он? – выпал-ил я.
– В своем письме она пишет, что он джентльмен. Пишет, что он джентльмен.
– Пишет? Она написала? Покажите мне письмо!
– Оно у отца.
– Но если она пишет… Когда вы получили письмо?
– Оно пришло сегодня утром.
– Но откуда оно пришло? Ведь можно узнать…
– Она этого не пишет. Она пишет, что счастлива. Любовь, она пишет, налетела на нее, как ураган…
– Проклятье! Где же письмо? Покажите мае его. А насчет этого джентльмена…
Она впилась в меня глазами.
– Вы его знаете?
– Вилли! – воскликнула она.
– Сказала она вам это или не сказала, вы знаете, кто он.
Она молча покачала головой, но это вышло совсем не убедительно.
– Молодой Веррол?
Она не ответила и тотчас же начала говорить о другом.
– Все, что я могла сделать для тебя, Вилли…
– Это молодой Веррол? – настаивал я.
Секунду, быть может, мы молча смотрели друг другу в глаза, отлично понимая друг друга… Потом она бросилась к комоду и вновь схватила мокрый носовой платок. Я знал, что она спасается от моих беспощадных глаз.
Моя жалость к ней исчезла. Она знала так же хорошо, как и я, что это был сын ее госпожи. И она уже давно это знала, она чувствовала.
С минуту я стоял над ней, возмущенный. Потом вдруг вспомнил про старого Стюарта в теплице, повернулся и стал спускаться с лестницы. На ходу я оглянулся и увидел, как миссис Стюарт, сгорбившись, медленно входит в свою комнату.
Старый Стюарт был жалок.
Я нашел его в теплице в той же позе и на том же месте, где видел раньше. Он не пошевелился, когда я подошел к нему, только мельком взглянул на меня и опять уставился на горшок с цветами.
– Эх, Вилли, – сказал он, – несчастный это день для всех нас.
– Что вы собираетесь делать? – спросил я.
– Мать так расстроена, – сказал он, – что я ушел сюда.
– Что вы намерены делать?
– Что же можно делать в таком случае?
– Что делать? Как что делать?! – воскликнул я. – Нужно…
– Он должен на ней жениться, – сказал Стюарт.
– Конечно, должен! Это-то он должен сделать, во всяком случае.
– Должен, да. Это… это жестоко. Но что я могу тут поделать? Предположим, он не захочет? Наверное, не захочет. Что же тогда?
Он умолк в безмерном отчаянии.
– И вот этот дом, – заговорил он, как бы продолжая про себя какую-то мысль, – мы в нем всю жизнь, можно сказать, прожили… Выехать из него… В моем возрасте… Нельзя же умирать в трущобе.
Я старался догадаться, какими мыслями заполняются в его голове секунды молчания между этими отрывочными словами. Его оцепенение и вялая покорность судьбе, сквозившие в этих словах, возмущали меня.
– У вас письмо? – резко спросил я.
Он полез в боковой карман, с минуту оставался неподвижным, потом очнулся, вытащил письмо, неловкими руками вынул его из конверта и молча протянул мне.
– Что это? – спросил он, впервые взглянув на меня. – Что это с твоей щекой, Вилли?
– Ничего, ушибся, – ответил я и развернул письмо.
Оно было написано на изящной зеленоватой бумаге и изобиловало обычными для Нетти избитыми и неточными выражениями. По почерку не было заметно следов волнения; он был круглый, прямой и четкий, как на уроке чистописания. Ее письма всегда походили на маски: за ними, точно за занавесью, скрывалось изменчивое очарование ее лица, совершенно забывался звук ее звонкого голоса, и можно было только изумляться тому, что такое ничем не примечательное существо полонило мое сердце и гордость.
Что говорилось в этом письме?
«Дорогая матушка!
Не тревожьтесь, что я ушла. Я нахожусь в безопасном месте с человеком, который очень меня любит. Я жалею вас, но иначе не могло быть. Любовь – такая мудреная вещь и овладевает человеком совсем неожиданно. Не думайте, что я стыжусь, я горжусь своей любовью, и вы не должны очень беспокоиться обо мне. Я очень, очень счастлива. (Последние слова густо подчеркнуты.) Сердечный привет отцу и Пус.
Ваша любящая Нетти».
Странный документ! Теперь я вижу всю его детскую простоту, но тогда я читал его с мукой подавленного бешенства. Оно погрузило меня в бездонный позор, мне казалось, что я буду покрыт бесчестием, если не отомщу. Я стоял, смотрел на эти круглые, прямые буквы и не мог ни заговорить, ни пошевельнуться. Наконец я украдкой взглянул на Стюарта.
Он держал конверт в своих заскорузлых пальцах и смотрел на почтовую марку.
– Неизвестно даже, где она, – сказал он со вздохом, переворачивая конверт, и опустил руку. – Тяжело нам, Вилли. Жила она тут; не на что ей было жаловаться; все ее баловали. Даже по хозяйству никакой работы ей не давали. И вот она ушла, покинула нас, как птица, у которой выросли крылья. Не доверяла нам, вот что мне всего больнее. Кинулась очертя голову… Да, что-то с ней будет?..
– А с ним что будет?
Он покачал головой в знак того, что это уж совсем не его ума дело.
– Вы поедете за ней, – сказал я спокойно и решительно, – вы заставите его жениться на ней.
– Куда я поеду, – спросил он, беспомощно протягивая мне конверт, – и что я могу сделать?.. Если бы я даже и знал куда… Как же я могу оставить сад?
– Господи, – вскричал я, – нельзя оставить сад! Дело идет о вашей чести! Если бы она была моей дочерью… если бы она была моей дочерью… да я бы весь мир разнес на куски…
Я задохнулся.
– Неужели вы намерены снести это?
– Что же я могу сделать?
– Заставить его жениться! Отхлестать его кнутом! Отхлестать, как собаку, говорю я. Я бы его задушил!
Он тихонько почесал свою волосатую щеку, открыл рот и покачал головой. Потом невыносимым тоном тупого житейского благоразумия сказал:
– Нашему брату, Вилли, так поступать не полагается.
Я был в ярости. У меня даже появилось дикое желание ударить его по лицу. Раз в детстве я нашел птицу, всю истерзанную какой-то кошкой, и вне себя от невыносимой жалости и ужаса я убил птицу. То же чувство охватило меня теперь, когда эта позорно приниженная душа пресмыкалась передо мною в грязи. Потом я совершенно перестал принимать его в расчет.
– Можно посмотреть? – спросил я.
Он неохотно протянул мне конверт.
– Вот видишь, – сказал он, ткнув своим загрубевшим пальцем, – э-п-э-м. Что тут разберешь?
Я взял конверт. На почтовую марку в то время накладывался обыкновенный круглый штемпель с названием места отправления и числом. Но здесь либо нажим был слишком слаб, или мало было краски на печати, но оттиснулась только половина букв: «Шэп-м» и ниже очень смутно «заказное».
Меня точно озарило, и я тотчас же угадал название Шэпхембери. Самые пробелы помогли мне прочесть, или, быть может, на них остались слабые очертания букв или хоть намеки на них. Я знал, что это место находится где-то на восточном берегу, в Норфолке или Суффолке.
– Да ведь это… – воскликнул я и осекся.
Зачем ему знать?
Старый Стюарт быстро поднял на меня глаза и почти со страхом взглянул мне в лицо.
– Уж не разобрал ли ты названия? – спросил он.
«Шэпхембери – только бы не забыть», – подумал я.
– Неужели разобрал? – настаивал он.
Я отдал ему конверт.
– Мне сначала показалось, что это Гемптон.
– Гемптон, – повторил он, вертя в руках конверт. – Гемптон. Где же тут Гемптон? Нет, Вилли, ты еще хуже меня разбираешь.
Он вложил письмо обратно в конверт и выпрямился, чтобы вновь спрятать его в боковой карман.
Рисковать было нельзя. Я вынул из кармана огрызок карандаша, отвернулся и быстро записал «Шэпхембери» на моей протертой и довольно грязной манжете.
– Ну что ж, – сказал я с видом человека, не сделавшего ничего особенного, и обратился к Стюарту с каким-то замечанием – уж не помню с каким, – но не успел его договорить.
К дверям теплицы кто-то подошел.
Это была старая миссис Веррол.
Не знаю, смогу ли я дать вам о ней ясное представление. Это была маленькая пожилая особа с необычайно светлыми льняными волосами и с выражением достоинства на остроносом лице. Она была очень богато одета. Я бы хотел, чтобы слова «богато одета» были подчеркнуты или напечатаны затейливым, староанглийским или, пожалуй, даже готическим шрифтом. Никто на свете не одевается теперь так богато, как она; никто – ни молодой, ни старый – не позволит себе такой некричащей и в то же время претенциозной роскоши. В фасоне ее платья не было ничего необычного, не было в нем и никакой особенной красоты или богатства красок. Господствующими цветами были черный или коричневый, и все богатство костюма заключалось в чрезвычайной дороговизне материала, из которого он был сшит. Она предпочитала шелковую парчу с очень пышным узором, дорогие черные кружева на шелку молочного или пурпурного цвета, сложные нашивки из полосок бархата; зимой она носила редкие меха. Ее перчатки были безукоризненны; изысканно-простая золотая цепочка, нитка жемчуга, множество браслетов довершали убранство этой маленькой женщины. Чувствовалось, что малейшая подробность ее костюма стоит дороже, чем весь гардероб дюжины таких девушек, как Нетти. Ее шляпа отличалась той простотой, которая стоит дороже драгоценных камней. Богатство – вот первый отличительный признак старой дамы, чистота – второй. Вы невольно чувствовали, что старая миссис Веррол необычайно чисто вымыта. Если бы мою милую, бедную, старую мать целый месяц кипятили в соде, то и тогда она не выглядела бы такой чистой, как неизменно выглядела миссис Веррол. Кроме того, все ее существо излучало третий отличительный признак – твердая, как скала, уверенность в почтительном подчинении ей всего мира.
В этот день она казалась бледной и утомленной, но такой же самоуверенной, как обычно. Мне было ясно, что она пришла допросить Стюарта относительно взрыва страсти, перебросившего мост над пропастью, разделяющей их семейства.
Но я, кажется, снова пишу на языке, незнакомом младшему поколению моих читателей. Зная мир лишь после Великой Перемены, они не поймут моего рассказа. И в этом случае я не могу, как в других, сослаться в подтверждение своих слов на старые газеты; об этих вещах никто не писал, так как все их понимали и все относились к ним определенным образом. Здесь, в Англии, да и в Америке, как, впрочем, и во всем мире, человечество делилось на две основных группы: на обеспеченных и необеспеченных. Собственно, знати ни в одной из этих стран не было, а считать за таковую английских пэров значило заблуждаться, – ни закон, ни обычай не устанавливал фамильного благородства; не было также в этих странах такой категории «неимущего дворянства», какая была, например, в России. Пэрство было наследственной собственностью, переходившей вместе с фамильной землей только к старшему сыну семьи; и выражения «Noblesse oblige» оно никогда не оправдывало. Все остальные принадлежали к простонародью – таковой была вся Америка. Но вследствие частной собственности на землю, возникшей в Англии, благодаря пренебрежению феодальными обязанностями, а в Америке благодаря полному отсутствию политического предвидения, большие имущества искусственно скопились и удерживались в руках небольшого меньшинства, к которому поневоле попадало в залог всякое новое общественное или частное предприятие. Это меньшинство объединяли не традиции заслуг или благородства, а естественная тяга друг к другу людей, имеющих общие интересы и ведущих одинаково широкий образ жизни. Определенных границ у этого класса не было; сильные индивидуальности из рядов необеспеченных проталкивались в ряды обеспеченных, пользуясь для этого в большинстве случаев отчаянными и часто сомнительными средствами, а сыновья и дочери обеспеченных, вступив в брак с необеспеченными, промотав свое имущество или предавшись отвратительным порокам, впадали в нужду, в которой жило остальное население. Это население не имело земли и приобретало законное право на существование, лишь работая прямо или косвенно на обеспеченных. И такова была ограниченность и узость нашего мышления, такой глубокий эгоизм душил все чувства накануне последних дней, что очень немногие из обеспеченных способны были усомниться в том, что естественный, единственно мыслимый порядок вещей – это именно тот, который тогда существовал.
Я описываю здесь жизнь необеспеченных при старом порядке и надеюсь, что вы поймете, как она была беспросветна, но вы не должны воображать, будто обеспеченные жили безоблачно райской жизнью. Бездонная пропасть необеспеченности под их ногами давала себя чувствовать, хотя и оставалась непонятной. Жизнь вокруг них была безобразной. Они не могли не замечать ужасных зданий, дурно одетого народа, не могли не слышать вульгарных криков уличных продавцов дрянного товара. В их душах за порогом сознания жила тревога; у них не только не было логического мышления в вопросах общественно-экономических, но они инстинктивно отмахивались от всяких мыслей об этом. Их обеспеченность была слишком ненадежной, они постоянно боялись упасть в пропасть, и они постоянно привязывали себя новыми веревками; культивирование «связей», «интересов», стремление упрочить и улучшить свое положение были их постоянной и весьма постыдной заботой. Прочтите Теккерея, чтобы представить себе целиком ту атмосферу, в которой они жили. Кроме того, всевозможные бактерии относились без должного уважения к различию классов, и слуги тоже не всегда были достаточно хороши. Прочтите пережившие их книги. Каждое их поколение жаловалось на упадок «преданности» среди слуг, той преданности, которой ни одно поколение никогда не видело. Мир, оскверненный в одном месте, осквернен вообще; но этого они никогда не понимали. Они верили, что всего на всех все равно не хватит и что тут ничего не поделаешь, ибо такова воля божья, и страстно, с незыблемой уверенностью в своих правах держались за свою непомерно большую долю. Все практически обеспеченные принадлежали к «обществу», вращались в нем, и самый выбор этого слова достаточно характеризует их философию. Но если вы в состоянии понять те сумасшедшие идеи, на которых покоился старый мир, то поймете и все отвращение и ужас, которые эти люди питали к бракам с необеспеченными. С их девушками, с их женщинами это случалось очень редко и для обоих полов считалось бедствием и преступлением против общества. Все что угодно, только не это.
Теперь вам, вероятно, ясна та ужасная судьба, которая в большинстве случаев ожидала девушку из класса необеспеченных, если она, полюбив, отдавалась любимому без брака, и вы поймете положение Нетти и молодого Веррола. Один из двух должен был принести жертву. А так как оба они были в состоянии сильнейшей восторженности и способны на любые жертвы друг для друга, то исход казался сомнительным, и миссис Веррол, естественно, беспокоилась, как бы страдающей стороной не оказался ее сын, как бы Нетти не вышла из этого пожара страсти будущей хозяйкой Чексхилл-Тауэрс. Конечно, такой исход был маловероятен, но все же он был возможен.
Я знаю, что такие законы и обычаи покажутся вам отвратительным плодом больного воображения; но они были непреоборимыми фактами в том исчезнувшем теперь мире, где я имел случай родиться, а безумием там считались мечты о лучшем строе. Подумайте только: девушка, которую я любил всей душой, для которой готов был пожертвовать жизнью, была недостаточно хороша, чтобы стать женой молодого Веррола. А между тем стоило мне только взглянуть на его гладкое, красивое, бесхарактерное лицо, чтобы признать в нем существо более слабое, чем я, и ничем не лучше. Он будет наслаждаться ею, пока она ему не надоест, – таково ее будущее. Яд нашей общественной системы до такой степени пропитал ее натуру, что фрак Веррола, его свобода, его деньги показались ей прекрасными, а я – грязным оборванцем, и она согласилась на подобное будущее. Чувство ненависти к общественным условиям, порождающим подобные случаи, называлось тогда «классовой завистью», а проповедники из благородных упрекали нас за самый мягкий протест против таких несправедливостей, каких теперь никто не стал бы выносить и никто не захотел бы чинить.
Какой был смысл постоянно твердить слово «мир», когда никакого мира не было? Единственная надежда, которая оставалась людям, заключалась в восстании, в борьбе не на жизнь, а на смерть.
Если вы уже поняли всю постыдную нелепость старой жизни, вы сами угадаете, как именно должен я был объяснить себе появление старой миссис Веррол.
Она пришла, чтобы уладить неприятное дело!
И Стюарты пойдут на компромисс – я это слишком хорошо видел.
Эта перспектива внушала мне такое отвращение, что я поступил очень неразумно и резко. Ни за что на свете не хотел я быть свидетелем встречи Стюарта с его хозяйкой, не хотел видеть его первого жеста и стремился избежать этого.
– Я ухожу, – сказал я и, не прощаясь со стариком, повернулся к двери.
Старая дама стояла на моем пути, и я направился прямо к ней.
Я видел, что выражение ее лица изменилось, рот слегка открылся, лоб сморщился, а глаза стали круглыми. Уже с первого взгляда она, очевидно, нашла меня странным субъектом, а шел я к ней с таким видом, что у нее перехватило дыхание.
Она стояла на верху лестницы из трех или четырех ступенек в теплицу. При моем приближении она отступила шага на два с видом достоинства, оскорбленного моим стремительным напором.
Я с ней не поздоровался.
Нет, впрочем, я поздоровался с ней. У меня теперь уже нет возможности извиниться за то, что я ей сказал. Вы видите, я рассказываю вам все до конца, ничего не скрывая. Но если мне удастся достаточно ясно объяснить вам, вы поймете и простите меня.
Я был охвачен дикой и неодолимой жаждой оскорбить ее, и я сказал, вернее, выкрикнул в лицо этой несчастной разодетой старухе, имея в виду всех ей подобных.
– Вы проклятые грабители, вы украли у нас землю! – крикнул я прямо ей в лицо. – Вы пришли предложить им деньги!
И, не дожидаясь ответа, я грубо прошел мимо и, быстро шагая с яростно сжатыми кулаками, вновь исчез из ее мира…
Я пытался потом представить себе, каким этот эпизод должен был показаться ей с ее точки зрения. До того момента, когда она, взволнованная, спустилась в свой надежно укрытый от всего мира сад и пришла к теплице, разыскивая Стюарта, я в ее частном мире совершенно не существовал, или если и существовал, то как ничтожное черное пятнышко, промелькнувшее по ее парку. У зеленой теплицы, на вымощенном кирпичом проходе, я вдруг появился в ее мире в виде подозрительного, плохо одетого молодого человека, который вначале Непочтительно вытаращил на нее глаза, а потом начал приближаться с нахмуренными бровями. С каждым мгновением я становился все больше, все значительнее, все страшнее. Поднявшись по ступеням с откровенной и вызывающей враждебностью, я остановился над ней, точно грозный призрак второй французской революции, и с ненавистью выкрикнул ей в лицо свои оскорбительные и непонятные слова. На секунду я показался ей грозным, как уничтожение. К счастью, дальше этого я не пошел.
А затем я исчез, и вселенная осталась тою же, какой была всегда, только дикий вихрь, пронесшись мимо, пробудил в ней смутное чувство тревоги.
В то время большинство богатых людей были убеждены, что имеют полное право на свое богатство, но мне это тогда и в голову не приходило. Я считал, что они смотрят на вещи точно так же, как я, но по своей подлости отрицают это. В сущности же, миссис Веррол была так же неспособна усомниться в неотъемлемом праве своей семьи господствовать в целом округе, как подвергнуть сомнению тридцать девять догматов англиканского вероисповедания или еще какие-либо из столпов, на которых надежно покоился ее мир.
Я, несомненно, ошеломил и ужасно напугал ее, но понять она ничего не могла.
Люди ее класса никогда, по-видимому, не понимали тех вспышек смертельной ненависти, которые порой освещали тьму, кишевшую под их ногами. Ненависть вдруг появлялась из темноты и через минуту исчезала снова, как возникает и исчезает во мраке угрожающая фигура на краю пустынной дороги при свете фонаря запоздалой кареты. Они относились к таким явлениям, как к дурным снам, волнующим, но несущественным, стараясь поскорей их забыть.








