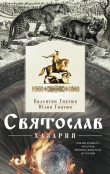Текст книги "Хазарские сны"
Автор книги: Георгий Пряхин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Мальчика звали Лонгин, потому что бабуля моя – Меланья Лонгиновна. Дед мой – Владимир Лонгинович, а вот как величали прапрадеда, я теперь, наверное, никогда и не узнаю: не у кого.
Приехал, несмотря на весну, в шапке из тех, которые называли «кубанками»: этакая усеченная папаха черной мерлушки. Но кубанкою все же она не была, как то вальяжно объяснил односельчанам родной чужак. Не была, потому что перевитый золотым, почти генеральским шнуром, верх у нее не красный, как у кубанских казаков, а синий, как у казаков терских.
– И царь такую же носит, – добавил снисходительно (почти что к царю), чуть покривив от истины.
И при внушительном кинжале на наборном, с серебряными чернеными вставками, пояске: ни дать ни взять представитель Дикой дивизии в русском медвежьем углу. Абрек. Цепной пес царизма-деспотизма – из позавчерашних беглых. Дважды обернутый воздухом воли, а поверх того еще и тронутый пленительным жирком – как смазаны им, невидимо и нежно, голубиные крылья – нездешнего, нерусского богатства.
При такой-то рыжей и конопатой, будто её ржавыми коваными заклепками для пущей прочности простебали, свойской русской физиономии, с которой богатство вроде бы ну никак не согласуется. Не живут, не сосуществуют они вместе и мирно: только по разные стороны баррикады. Или ты его – на вилы, или оно тебя – в кандалы.
Жену проминал, как пасхальное тесто. И она, днем горделиво, словно на возмужавшего сына, поглядывавшая на него, ночью с ревнивой опаскою вслушивалась и в эту новую, дерзкую хватку, и в эту явную поднаторелость, что шла, подозревала жена, не только от многолетнего примерного одиночества.
Свой и уже не совсем свой. Уже в следующем поколении будут говорить: не у нас, в России, а у вас в России. Там, как за бугром…
Вот в этом главная правда и состояла: вернулся, хотя вполне мог и не вернуться.
…Однажды юным корреспондентом ставропольской молодежной газеты я несколько дней жил на кошаре на черноземельских отгонных пастбищах у одного очень передового чабана. Чабану уже за пятьдесят. Есть люди, о которых говорят: крепко сбит, подразумевая – сколочен. Применительно же к этому дядьке глагол «сбить» надо применять в другом, более точном и редком значении, как говорят о шерсти – её ведь действительно «бьют». И валенки тоже бьют (как бьют, сбивают и масло) – это более точное и резкое обозначение, чем общепринятое «валять». И когда предварительно промытую и вычесанную шерсть «собьют», ее – по существу полостью – спрессовывают в массивные рулоны, точнее тюки. Странное свойство имеют эти тюки. На вид они вполне подъемны: вас обманывает их фактура, то, что они все же из шерсти, что они пористы, живы, дышат в отличие от кубом стесанного камня, но на самом деле к ним и вдвоем не подступиться – пупок надорвешь.
Так и мой будущий герой. Живой, дышащий, особенно после ужина – как дыхнет, так вновь закусывать надо – и даже непостижимо легок на ногу, километры и километры наматывая с отарой за день по только ему ведомым потаённым обильным выпасам – я лично до кошары, точнее до турлучного бригадного домика при ней доплетался следом за ним, уже не чуя под собою ног. Но помимо его воли с места его трактором не свернуть. Самого крупного в отаре барана, барана – производителя берет, ловко поймав ярлыгою за заднюю ногу, на руки, и тот в его заскорузлых ручищах даже не копнется. Как малое дитя несет, прижимая к груди, враз умиротворившегося производителя, отлучая его от бесчисленных наложниц, чтоб попусту не гоношился, не расходовался: одного раза с них достаточно.
Фетр, кашемир, между прочим, – это тоже разновидность, степень «боя» шерсти. Плюс, конечно, породы овцы – как же без нее, родимой.
И арбичка, как и положено, в чабанской бригаде была: опрятная хохлушечка лет сорока пяти с гаком. И за ужином они чудесно, трогательно рассказывали, вспоминали о своих оставшихся «на материке» семьях – каждый о своей. О женах, мужьях, детях, до внуков, с особенной грустью, доходили. А ужин заканчивался, помощники, подпаски передовика усылались в кошару – присматривать за овцами и спать вместе с ними на их чудесной, живой, хотя и чуть-чуть вонючей, рунной перине: после нее встаешь с пьяным дурманом в голове (вдобавок к вечернему). Старшой же сграбастывал в охапку арбичку, и та послушно следовала, взбиралась за ним на высоченную и громадную, с пуховой периною, кровать. В домике всего одна комнатка, и мне стлали на раскладушке у противоположной стены: выгнать и меня вслед за подпасками к овцам считали негостеприимным – как-никак из самого Ставрополя.
Я выходил на улицу, усаживался, вытянув гудящие ноги, на завалинку под хаткою и долго-долго, пока не слипались глаза, смотрел на тяжелые и крупные, словно комья драгоценной руды, звезды.
Потом на цыпочках, шарясь в темноте, входил в нашу оседлую «арбу»: металлическая кровать с тугой панцирной сеткой уже не стонала.
Это было самое замечательное и волнующее, что запомнилось мне из той командировки и чему места в героическом комсомольском очерке, конечно же, не нашлось.
А вы говорите – не мог не вернуться. Еще как мог: степь у нас хоть и пустынная, но и в ней встречаются, еще как обольстительно встречаются. Ни один производитель безнаказанно не прошмыгнет!
А мог и просто сгинуть: дело тоже нехитрое.
У моего деда Владимира Лонгиновича, по семейному преданию, в твердой картонной коробке хранилась терская папаха с синим верхом, надевавшаяся уже только по праздникам. И клинок в серебряных ножнах на дне бабкиного сундука, вроде как бы уже бабкин, а не его: пост сдал – пост принял.
Тому были особые причины, почему дед мой, столь продвинувшийся – по стопам своего деда – в услужении князю Мусе или его потомкам, беспрекословно капитулировал перед родной бабкой моей Александрой.
Бабуля моя умерла рано, до высылки, собственно говоря, она и не пережила, не выдержала крушения семейной империи, шестьдесят лет создававшейся, намывавшейся в Ногайской степи. И в ссылку дед отправился один с тремя детьми: старшая, Настенька, моя будущая мать, уже девушка, Сергей, будущий бравый ветеран двух победоносных войн, а тогда еще восьмилетний, безбашенный оголец, и младший, Петя, совсем еще малыш – он вскоре, увы, умер.
Деду приходилось туго.
Тем не менее по праздникам у него собирались друзья, мужики – видимо, дома не наливали, а тут как бы вдали, очень вдали от жен – и он посылал Серегу в магазин за водкой, а Настя молча вынимала из старинной чинаровой горки хрустальные стопки, оставшиеся с лучших времен.
Я уже где-то писал, что даже до меня дошел, достиг этот роскошный резной, с башнями и стрельчатыми выпуклыми дверками шкаф – точно такой полвека спустя я увидел однажды под Парижем, в Буживале, в доме, где жил приживалкою при Полине Виардо и её дочери (а может, и муже?), Иван Сергеевич Тургенев. А был у нас, оказывается, еще и такой же, красного дерева, диван и стол, и вообще – гарнитур. Ничего подобного в других никольских домах я никогда не видал.
Именно в домике у Ивана Сергеевича, где я задержался – у единственного экспоната – дольше всех, и вспомнил я про фаэтон, и он, черт подери, стал проявляться, как живой и даже всамделишный!
Дед был выдающийся воспитатель, и еще неизвестно, выиграл бы я, и даже выжил бы я, если б он, неровён час, дожил до моего появления. Если Сергей чересчур уж донимал его упорным, несгибаемым нежеланьем учиться, воровством в чужих садах и просто мелким хулиганством в крупных размерах, он сгребал его в охапку, подтаскивал к порогу, укладывал, как петуха, худой и длинной шеей на порог, хватал стоявший за притолокою топор со сверкающим лезвием и коротко взмахивал им, не забывая однако милостиво скомандовать:
– Закрой глаза!
Как осужденным на казнь милостиво разрешают накинуть на голову пустой мешок.
Серега просто прикрывал нахальные зеленые зенки, и дед мой, а евонный родимый отец, яростно скрипнув зубами – так что крошка от них взлетала, – швырял топор в сторону.
– Можно вставать? – спрашивал отрок и, не дождавшись ответа, подымался, отряхивался и прилежно ставил топор на прежнее место. До следующего раза.
Свят-свят! Не хотел бы я оказаться внуком у собственного деда (несмотря на золотую медаль в вечерней школе). Во всяком случае, при наличии некоторых изъянов характера (видимо, фамильное), ничего подобного со своими внучатами я не проделываю.
А с детьми и подавно: поздно – сами уже шею мне совершенно свободно свернут.
Хорошо хоть клинок лежал в сундуке, а не под порогом.
Старики пытались увезти на новое место все, что было нажито годами и десятилетиями. Любой закоулок, любую щель в телегах использовали, чтобы впихнуть туда еще один узелок или еще одну колченогую дрянь. В последний вечер же сын строго обошел свой обоз и почти половину стариковского скарба выкинул вон. А когда пораньше улеглись спать, чтобы спозаранок тронуться в дальний путь, отец с матерью тайком порассовывали почти все обратно. Сын и не заметил: спорым ходом, с грохотом и скрипом протарахтел напоследок на рассвете по родной деревеньке, еще и крепко сплюнув на околице.
Старики же потихонечку плакали, благо что ехали не в «хваетоне», а в последней бричке, одни: передвигаться захотели в обнимку со своим добром. В противном случае им казалось, что за ним, кроме них, и присмотреть-то в дороге некому. Что двинутся они ненароком со своим нажитым в противоположных направлениях.
Это им, моршанским старикам, и принадлежит знаменитый плач, донесенный аж до меня бабушкой Меланьей. Две недели, мол, ехали, прибыли, наконец, на место, в степи, завел их сын в хату. Хата саманная, глинобитная. Добрались к вечеру, и все попадали с дороги кулем. Старики же ночью проснулись и, нашарив выход, кряхтя и поддерживая друг друга, вылезли из хаты во двор, на завалинку. Уселись, привалились, как молодожены, плечами и робко, вполголоса заголосили, запричитали:
– И куда же нас судьба забросила?.. И на кого же покинули мы свою избу сосновую?.. Да в этой же земляной хате – как заживо в сырой могиле, в гробу… Дышать нечем…
Ну, насчет сырости, положим, загнули. Сыростью летом у нас и не пахнет.
Так и сидели до самого утра, оплакивая новую свою неведомую долю.
И молоденький азиатский месяц с любопытством щурился на них своим единственным невыбитым глазом.
О чем они плакали?
* * *
Я это увидал много-много лет спустя. Как бы и за себя увидал, и за бабку Меланью, и за тех самых стариков, чьи имена-отчества растворились в пролегающей между нами беззвездной мгле. И за всех наших, кому так и не довелось больше побывать в местах, откуда есть – пошли Гусевы.
Русские то есть.
В России мы, конечно, бывали и раньше, еще как бывали. Мне, например, запомнилось, как году в пятьдесят пятом на какой-то коллективной прополке наша пионервожатая рассказывала нам, пацаняткам, что нынешним летом ездила на поезде в Россию, аж в саму Москву.
И как вы думаете, что больше всего поразило ее?
Царь-пушка?
Метро?
То, что на рязанских полустанках к поезду подходили торговать снедью женщины в лаптях.
У нас такого, разумеется, испокон веку не было. Уже хотя бы потому, что лыко драть не с чего: не с живых же людей?
А мы еще на нее надеемся – на эту самую Расею! – так и сквозило в смешливом рассказе девчонки, что была немногим старше нас самих.
В скобках замечу, что сейчас, правда, на нее уже никто не надеется – не то, что на окраинах, а и в самом центре.
В общем, бывали мы, бывали, но в Моршанск как-то не попадали.
Еду я лет пять назад на машине, на «Волге», из Тархан в Москву. Июль. Вёдро перемежается с дождем. С размаху влетаешь в его молодую, сочную мякоть, машина ощутимо теряет скорость, вот-вот и увязнет в ней, как оса в антоновке. Но через четверть часа «Волга», в очередной раз умытая, щедро и звонко оббитая, изукрашенная еще плавящимся и длинно сбегающим с нее серебром, вырывается, прибавив ходу, словно путы ей перерезали, в слепящий зной. Не причинив дождю никакого вреда: оглянешься в заднее стекло – зеркальные чертоги его, низвергнутые в обратном обычному зодчеству порядке – с неба на землю – стоят, сверкают совершенно целые, не продырявленные – никаких червоточин.
Солнце снопом бьет в глаза, как будто тоже торопится тебе навстречу – удвоенье наших скоростей дает потрясающий эффект.
Мне хорошо, потому что за моею спиной моя младшая дочь: мне всегда хорошо и спокойнее, когда она рядом, потому что это, увы, случается очень редко.
Реже, чем с остальными дочерями. Старшие вроде всегда под рукой, младшая же, самая уязвимая, все время на отлете. Сама по себе. А тут редкостная удача – непосредственно за спиною: вместе со мною ездила на лермонтовский праздник.
Хороший друг тоже за спиною; за рулем опытный водитель – чего еще человеку надо в пути?
Трасса межобластная, не федеральная, может, потому здесь так бесшабашно и счастливо хозяйничают эти местные, межобластные, локальные дожди: летишь, как по диковинным клавишам, где перламутр чередуется с ослепительно золотым, а гром же тянется вслед за нами, не разбирая этих полос, не делая пауз – и при кипящем шелесте дождя, и посуху, в проранах зноя, словно производит его не царица небесная, а сама наша скромная, хоть и умытая, как невеста, сверкающая «Волга».
И вдруг развилка: направо пойдешь – через Воронеж, налево – через Моршанск.
Моршанск…
И вспомнилась сразу бабка Меланья.
Кто знает, повернул бы направо, давая крюка и выбирая дорогу явно похуже (опять межобластная?), если бы за спиной у меня не сидела младшая дочь?
– Мы – моршанские!
Мне тоже, видать, захотелось задрать еще не совсем дряблый палец и внушить моей младшей, именно младшей в первую очередь, эту куда как значительную мысль.
Чем-чем, а уж пафосом бабка Меланья точно меня заразила. Унаследовал.
Да и кто б отказался на моем месте, будучи главой семейства, где изначально женщины, женщины, женщины и где приходится каждое дарованное случаем лыко встромлять обязательно в строку: чтоб, стало быть, соответствовать.
Да, донник еще факельно цвел вдоль межобластной дороги, иссякая и иссякая помаленьку по мере нашего быстрого продвиженья на север.
И мы повернули.
Какое село называла мне Меланья, я уже не помню. Моршанский уезд – запомнилось. И еще – Малининская волость. Не попадем, думаю, в эту самую «Малининскую волость», так просто проедем через Моршанск – и то интересно. Не искать же, в самом деле, эту географическую сласть – и к ночи в Москву не доберемся.
Искать и не пришлось.
Свернули, попали в сосновый бор. Деревья огромные, но стоят редко, поэтому в бору как будто – и не в бору: просторно, светло. Вот она откуда – изба сосновая, оплаканная! Остановились, из машины вышли: скипидарный запах разогретой хвои вошел, как запах грозы. Еще чуть проехали – Господи, указатель: «Малинино»… Двинулись по проселку: прямо как будто бабка Меланья перед нами клубочком вилась.
Въехали в Малинино. Одна широченная, с излучинами, как будто это зеленая река, по берегам которой стоят, действительно сосновые, избы – улица. Даже дорога подернута, как после позавчерашнего бритья, травой: мало ездят, не вытирается. У некоторых изб кирпичный низ. Лабаз. Двухэтажные. И кирпич древний, крепостной какой-то, весь уже в собственной пудре, как старче в перхоти, и дерево на нем черное, рассохшееся и поведенное: того и гляди с лабаза съедет.
Да-да, сосновая, родимая… Дышать действительно есть чем: из каждой щели, небось, свищет.
– Дочь… – оборачиваюсь назад.
Ну, как тут прикажете, Меланья Лонгиновна, задирать палец, когда человек, умаявшись на вчерашнем празднике – спит?.. А?
И держать его строго вертикально перед сладко посапывающим дочкиным носом?
– Чего тебе? – вяло приоткрыла правый глаз.
Два выражения боролись, проталкиваясь наверх, во мне.
Первое, разумеется, фамильное, величественное – насчет нас, моршанских. Второе, покороче: посмотри, мол, наша родина.
Растолкайте спящего человека и рявкните ему в ухо: мы – и далее по тексту. И увидите, что получится.
В общем, выражение лица у дочки, недовольной, что её разбудили, к назидательному пафосу не располагало. И я, помучившись, выбрал второе.
– Наша родина, – робко произнес.
Дочка решила, что с большой буквы;
– Россия, что ль?..
Посчитала, что дремлет, как спящая красавица, третьи сутки.
– Да нет, просто наша…
Ну да. Про сегодняшнюю Россию уже и не скажешь, что она и есть моя родина или что я – ейный колосок.
Дочка, уже кое-что слышавшая насчет моршанских от меня в детстве, растворила оба глаза.
Медленно-медленно продвигались мы серединою улицы. За нами даже мальчишки не бежали по той причине, что их здесь, наверное, просто не было. Да, конечно, разница огромная между нашей глиняной, степной стороной и этой, лесной, деревянной, с вкраплениями, ржавыми коронками узкого, сдавленного кирпича. Сказкою веет здесь; у нас же исключительно ветром. Лето подкрашивает российское запустение, особенно здесь, где – возможно из-за окружающих лесов, проникших в село заберегами берез – его концентрация кажется гуще, чем у нас. И все же именно запустение, похоже, становится общим, родовым признаком русской глуши. Мы как будто бы даже не ехали – мы как будто бы медленно-медленно проплывали, прилипая к толстым иллюминаторам, вдоль почернелой, с остатками резных коньков и наличников, незатейливой православной Атлантиды.
Впрочем, здесь-то глушь относительная: большая дорога проходит рядом – возможно, она в свое время и сманила моего отважного предка.
Улица вывернула к церкви. Кирпич сразу узнался – такой же, как и в лабазах. Пользовались, пользовались помаленьку миряне, считая, что у Господа Бога всего много, не убудет: храмовая стройка-то наверняка длилась не один год. Ровесники – фундаменты изб и фундамент небес. Церковка, правда, не Бог весть как высока, пошла как-то вширь. Как дородная, по малой нужде присевшая, широко расправив под собою, словно над заварным чайником, парчовые юбки, купчиха. Несколько старух и стариков сидели на ветхой лавочке перед церковным забором. Не нищие – кто бы им здесь подал? Свои. Я попросил остановиться, вышел из машины, поздоровался.
– Здра-а… – недоверчиво потянулось мне в ответ.
– Скажите, есть в селе вашем такие-то? – назвал свою фамилию.
Старухи и старики вопросительно переглянулись.
– Не-е, таких нету.
– А Рудневы? – назвал девичью фамилию своей бабки по другой, по женской линии.
Короткое совещание имело все тот же результат;
– Не-е..
В отцветающих взглядах больше недоверчивости, чем любопытства. «Волга» смотрелась на пустынной улице, как лоснящаяся навозная муха на скатерти. Я потоптался. Не с руки как-то было провозглашать насчет Моршанска. Дочка моя спала с закрытыми глазами, а эти, похоже, спят с открытыми.
– Может, это дачники? Москвичи? – сжалилась надо мною одна ветхая душа.
– А что, у вас и москвичи есть? – удивился я.
– Есть, – неохотно ответила та же самая, наиболее бодрствующая старуха.
Стало быть, я могу быть отнесенным одновременно и к дачникам, и к москвичам – на своей прародине. На фронтоне храма, помимо креста, кирпичом выложено: «1856». Значит, и мои вполне могли участвовать в общем богоугодном деле (как и в не богоугодном тоже).
– А какие ближайшие села есть здесь еще? – спросил я.
– Да вот, например, Сосновка, – было отвечено мне и указано на дом, который стоял поодаль по другую сторону церкви.
– Оно большое?
– Было немаленькое, сейчас же только вот эта изба и осталась…
Сосновка… Конечно, Сосновка! Как же я мог забыть? Название высветилось в памяти, как только нажали нужную кнопку. А может, только показалось, что имя наконец-то найдено, вспомянуто? Сосновка… Мы, дав петлю, проехали, проплыли медленно и пучеглазо и мимо этого кособокого дома и выбрались в поле: там, за лесополосой начиналась большая дорога. Рожь еще не созрела, но была высокой и сочной, с хорошо заряженным зёрнами колосом. Я выдернул увесистый пучок ржи, отряхнул от земли (чернозем!) его мочковатые корни и уложил в багажник. Давно заметил: чем бестолковее в России власть, тем лучше родит земля. Подстраховывает, что ли? Или потому что родит все чаще на пепелище?
Въехали и в Моршанск – как будто влезли с головой в пропахший нафталином бабушкин сундук. Толстостенный, поповский, ушедший в землю. Облупившийся и изодранный нищетою так, что душа ватными клочьями вывернулась наружу. Улицы же прорублены в могучей вековой зелени, как ходы сообщения. Есть города, в которых архитектура значительнее самого текущего народонаселения. Моршанские неохватные дубы и ветлы значительнее, роскошнее тамошней архитектуры – это как минимум. На улице из звукоусилителей иногда вспыхивало: «Мальчик хочет в Тамбо-ов…» над копотливой и целеустремленной тишиной – чем меньше у людей денег и дел, тем целеустремленнее снуют они по своим, только им ведомым траекториям.
Мальчика можно понять. Тамбов, областной центр, рядом. Губернатором там когда-то служил Державин. Правда, его оттуда вскоре выжили. Тоже – местные.
2001-й год.
Зашли с другом в магазин, попытались купить бутылку коньяка. Нам предложили настойку «Осенний сад» – цветом подходит. Именно ее я и пил когда-то в юности на Черных землях: автолавка проехалась по чабанским точкам и пока добралась до нас, в ней из спиртного остался только этот самый сад. Я и не знал, что он где-то сохранился до новых времен.
И ливерной колбасы.
Два крошечных русских городка были известны в годы войны всей Красной Армии. Тейково, что в Ивановской области – там шили шапки-ушанки и фланелевые портянки, – и Моршанск Тамбовской – там производили махорку.
В Тамбове я служил солдатом, здесь, в Моршанске, оказался только теперь проездом…
За городом вновь свернули в перелесок, светлый, чистый, не подверженный, слава Богу, социальной депрессии. Вышли из машины, по колено утопая в траве, вынули пластмассовые стаканы, разлили «Осенний сад», подозрительно шибавший сивухой – в этом саду, видимо, ничему пропасть не давали, – чокнулись.
– За моршанских! – провозгласил товарищ.
Эх-эх… Бывший когда-то центром выделки сыромятных кож, городком постовалов, кожемяк и, похоже, лежебок, Моршанск в свое время, как и предместья Итиля в Хазарии, на всю округу чадил густым прокисшим смрадом. Местные красавицы тоже семенили, зажав курносые носики, своевременно превращаясь, правда, в оседлых, неподъемных, крупитчатых и невероятно атласистых, поскольку профессионально вымяты задубевшими в рассолах руками, властных домоправительниц, денно и нощно понукающих благоверных своих к их враз преобразившемуся, поскольку теперь от него исходил аромат собственных, кровных наличных, труду: девушки и жены, как известно, и цвет воспринимают по-разному, не говоря уже о запахах…
Ливерную разломили на троих – включая шофера Славу.
Чок получился шпионский, неслышный. Как будто и не было его. Дочка же все это время спала. И в Моршанске – вместе с Моршанском. И в березовом перелеске, где не молиться б, а веселиться. Среди берез, чьи ветви и глянцевитые листья православного разреза свисали до самой машины, и среди подступающих к ним русских, моршанских, набирающихся солнца тяжелых хлебов.
Мы с другом и не молились. Но, как-то, и не веселились тоже.
В Москву «Волга» рванула, как дачница: домой!
…Сидел бы, предок, как гриб, под Моршанском, глядишь, и не раскулачили б после его потомков.
* * *
Подцепила же новая власть их круто, волоком. Бежали, дурни, от старой, чтобы попасть потом в ежовые объятия новой. В семнадцатом году князь Муса застрелился. Дед мой Владимир Лонгинович стал к тому времени управляющим – не то у самого Мусы, не то, скорее, у младшего брата его. В Шангиреевке, переименованной позже на русский лад в Садовое. Там и лежит где-то родная бабушка моя Александра Антоновна, ставшая к революции почти что помещицей. Во всяком случае возы с княжеским маслом из Ногайской степи возглавляла почему-то она. Масло в липовых бочонках направлялось в город Святой Крест, к ближайшей железнодорожной станции, чтобы потом, по рельсам, катить на Север: до Петербурга и даже дальше, вплоть до Берлина и Парижа, куда в восемнадцатом рванул наскорях и сам бездетный (бездетный ли?) Шангирей.
Оставив все, что не удалось перевести в наличные, на незадачливого управляющего своего Владимира Лонгиновича.
Бабка ехала рядом с возничим на переднем возу, статная, двадцатитрехлетняя, сама как будто бы из только что сбитого, нежного, телесно-медового цвета, степного коровьего масла и вылепленная. Дед же замыкал обоз: присматривал, наверное, с арапником. И за маслом, и не только за ним.
Перепоручил недораспроданное имущество свое князь Шан-Гирей Владимиру Лонгиновичу, да юная бабка моя Александра, видать, и тут вожжи перехватила.
Крепко задуматься надо было бы деду, прежде чем соглашаться на такое повышение. И не только о грядушей революции.
Арапник подлиннее надо было бы деду иметь.
Я застал в живых двух родных сестер бабушки Александры: Марию и Ельку. Мария постарше, бабушка Елька же самая младшая. Мария исключительно положительная, полная, правда, с худыми девическими щиколотками. Чуть набрякшие веки на правильном русском лице, полушалок «домиком». Жила она, как и младшая сестра, в соседнем, через бугор, пойменном селе. Жила по тем временам зажиточно: имела большой, полого спускавшийся к обводной канаве сад, за которым искусно и неустанно ходил ее муж, деревенский плотник Константин Петрович Брихунцов – фамилия, конечно, чеховская, но, увы, не с чужого плеча. Ишачка имела, на котором дед Брихунец (его так и звали, несмотря на природную неразговорчивость, в селе) разъезжал по окрестным, преимущественно степным, безводным селам, продавал со своей ишачьей тележки первые фрукты и даже виноград: тяжелый, ароматный, цвета темной, медной кумской воды, мускат. И к нам доезжал и тогда брал в свою тележку, довесочком, и меня. Правда, не на продажу – да и кто б купил меня при том разнообразии мичуринских достижений, что выставлены, как на передвижной ВДНХ, в дедовом шарабане. Такого добра, как я, в каждом дворе с избытком, оно-то, в отличие от яблок-виноградов, в степной стороне родило исправно. Не на продажу, а как бы его помощником. Я гоголем (пока еще не Николаем Васильевичем) проезжал в задке дедовой телеги по родному селу, помогал считать ему мятые рубли и трояки (более крупных купюр в селе, пожалуй, не водилось) и исподтишка за дедовой сухой спиной бросал пацанве то яблоко, то грушу, то сливу «грамлёд», а то и кисть винограду, ловимую в молитвенно, молча прижатые к груди горсти.
Дед Брихунец – рябой, сухой, с квадратной и всегда коротко, как у каторжного, стриженой под машинку головой, крепко и крупно высоленной сединою, и очень мастеровит: все в доме сделано его рябыми, с твердыми плоскими пальцами, руками. И сами деревья в саду, под которыми он колдовал с ранней весны до глубокой осени, казались сделанными, как дети, им же.
Младшая же сестра, военная вдова, поднимавшая одна троих детей, просто красавица. Крупное, открытое лицо с прямо и смело смотрящими глазами, твердые губы в легкой женской усмешке. Усмешка эта, может, и появилась после того, как к другим её ровесницам пришли, воротились с войны их солдаты, а к Ельке – нет, не пришел. Не воротился. Так и осталась она и в садоводческой бригаде бригадиром, как и в войну, и дома бессменным бригадиром тоже. Круто властвовала бабушка Елька – и бабами, и мужиками, преимущественно инвалидами, пополнявшими ее бригаду после сорок пятого. Указания давала непосредственно с кобылы Куклы, с которой аж до мужских загривков свободно доставала и на которой даже к старшей сестре, уже не работавшей в колхозе, вечером после командирской своей заботы, как генерал в самоволку, наезжала.
Дед Брихунец самолично и споро привязывал Куклу к столбу. Сена, накошенного вместе со мною в лесополосах и доставленного высоченным, веревками перевязанным ишачьим возком, под которым сам ослик Сенька наш смотрелся муравьем, впряженным в оглобли навырост, в охапке ей приносил. Дед немногословен, но языкат. Собаке своей, например, имя дал «Нитак». Чтоб, значит, никто не угадал и подлизаться к ней, злюке, не мог.
Но моей бабушке Ельке, которой в пятидесятом году не было еще и сорока лет, имен никаких не давал и навстречу ей всякий раз выскакивал так, словно и не в плотницкой бригаде при лесопильне служил, а в садоводческой.
Женскому населению, ревностно недолюбливавшему Ельку, что и к зрелым годам – видимо, по причине отсутствия амортизации и надомного пьянства, которым страдали подавляющее число мужей этого благословенного виноградарского поселка, – сохранила молодую стать, она отомстила решительно. Вырастила красавицу-дочку Тоню с совершенно оранжерейным (не то, что у самой – обветренное, как у скифской каменной бабы), не деревенским, не открытого грунта и ветра, лицом, которая с ходу выскочила замуж не за кого-то, а сразу за директора совхоза: в шестидесятые на месте колхоза образовался совхоз.
Под двойное Елькино начало попали сразу все её трясущиеся над своими пропойцами товарки, многие из которых, правда, к тому времени, как старые клячи, списаны были с сельхозработ – Елька же, как и наш ушастый Семен, как и величественная в своей старческой слепоте Кукла, все ещё оставалась в оглоблях: замена не вышла.
Я часто гостил у бабушки Мани, а одну зиму так даже учился здесь, в Красном Октябре. Школа была малокомплектной, в одной классной комнате сидели сразу три «класса» – по пять-шесть человек – при одной учительнице. Бабушка Маня, у которой не было своих детей – ее Константину Петровичу даже деревья-то давались, а вот детки – нет, а следственно и родных внуков, приодела меня, как новую копейку, и я больше всего сожалел об одном: что в столь расфранченном виде меня не знает мой собственный, оставшийся в Николе класс. Руку поднимал сразу за все три класса и не потому, что был такой умный, а потому что учительница у нас вчерашняя десятиклассница, знавшая немногим более нас.
Мне нравилась кобыла Кукла, на которую мне позволялось иногда влезать с подачи бабки Елькиных крепких сыновей, и я однажды спросил бабушку Маню: а нельзя ли нашего ишака поменять на лошадь? Дело в том, что Кукла хоть чуть-чуть, но признавала меня, ишак же никого, кроме деда, а меня в первую очередь, в грош не ставил – воспринимая меня, в частности, таким же насекомым, каким был, под возом, и сам.
– Мы бы, внучок, и машину купить могли, – спокойно ответила бабка, – если б дед наш был помоложе…
В общем, деньги у бездетных стариков водились.
И тем не менее.
– Александра, сестра наша, твоя родная бабка, – говаривала мне под настроение бабушка Мария, – самая красивая была…
Неужели, недоумевал я, красивее самой бабушки Ельки?