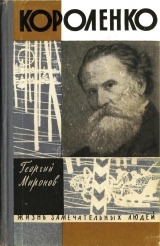
Текст книги "Короленко"
Автор книги: Георгий Миронов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
«Люди хорошие, и глушь очень интересная»
В этой безрадостной поездке по глухим лесным дорогам был момент, когда Владимир Галактионович колебался: продолжать ли ему покорно следовать свирепым предначертаниям администрации, загнавшей его уже на край света, или попытаться изменить их собственной волей?
Ямщик ушел отыскивать перевоз, заседатель по мосткам перебрался через шумевшую в вечерней тьме Вятку, и молодой человек остался у лошадей.
Внезапная мысль обожгла его. Он один. Где-то за лесами, неподалеку, есть завод, где живет ссыльный Неволин, о котором в Глазове ходит молва, как об отчаянном революционере. А что, если подвязать сейчас колокольчик, повернуть лошадей на другую дорогу и… и, может быть, его жизнь пойдет по иному пути…
Словно испытывая его решимость, долго не возвращались ямщик и заседатель, а время летело, уже заклубился рой сомнений, иных мыслей, иных чувств и желаний. Первая мысль о том, что побег его отразится на матери, была отстранена: а как же матери других революционеров? Вторая: ст чего и от кого он убежит? От народа, к которому он едет, хотя и по воле начальства, но который он хотел увидеть, узнать? Не означает ли это, что он испугался встречи с народом?
На том берегу реки вспыхнул огонек: это звала его к себе дикая лесная сторона. Владимир Галактионович вздохнул, взвалил на плечо ящик с вещами и инструментом и медленно пошел по шатким мосткам, по заледеневшему скользкому обрыву к перевозной избе.
Здесь было полно мужиков. Когда вошел Владимир Галактионович, стало тихо.
– Подарок вот вам, – сказал заседатель. – Новый ссыльный, в Березовские Починки везу.
Мужики громко зароптали. Встал волостной старшина, угрюмый, черный, как цыган, гигант, подошел к Владимиру Галактионовичу вплотную.
– Ты, чужой человек, зачем к нам пожаловал? Вы там в городе напрокудите, начальство с вами не справится, так к нам? Смотри ты у нас!.. Чуть что, мы вас всех в Каму побросам…
Плотной стеной окружили чужого человека мужики.
Зазвучали грозные слова:
– Живи смирно, не то косточки переломам!..
– Выволокем в лес – мать родная костей не сыщет…
Владимир Галактионович грохнул кулаком по столу. Мужики, только что напиравшие дружной ватагой, шарахнулись.
– Слушайте теперь, что я вам скажу, – громко проговорил молодой человек. – Ссыльные, говорите, вам пакостят. Так с вами, видно, нельзя иначе: вы меня не знаете, я вам еще ничего плохого не сделал, да, может, и не сделаю, а вы уже на меня, как волки, накинулись…
– А ведь верно бает мужичок, – вдруг смиренно произнес старшина, вместе со всеми оказавшийся теперь на почтительном расстоянии от ссыльного. – Мы еще от него худого не видали.
– Вестимо, – отозвался еще один. – Будешь до нас хорош, и мы до тебя будем хороши.
На следующий день Владимира Галактионовича повезли по каким-то узким, малоезженым лесным дорогам, где лошадей приходилось запрягать «гусем» – одну за другой. Повалил снег. Хвойный лес сменило чернолесье; редкие избушки, нахохлясь, стояли под огромными шапками снега.
Где-то горел торф, и дым клубами поднимался над лесом. Стаи куропаток взвивались впереди. Все чаще попадались среди лесных вырубок группы домишек, по-здешнему – починки. К вечеру приехали в починок местного старосты.
– К Гаврюшке Бисерову поедем, у него жить будешь, – сказал староста Яков Кытманов.
В большой, просторной избе горела березовая лучина, освещая двух женщин, старую и молодую, сидевших у прялок, остальное тонуло во мраке.
Старик хозяин, Гавриил Филиппович Бисеров, или просто Гавря, не захотел принять постояльца: «Самим жить негде». С трудом уговорили его.
Вся семья собралась вокруг приезжего – смотрели вещи, инструменты, книги. Когда же он зажег свечу и сел писать письмо домой, перестали жужжать даже прялки – все с удивлением и почтением воззрились на пишущего человека.
Не докончив письма, Владимир Галактионович накинул пальто, вышел. Стояла ясная морозная ночь, первая ночь «на краю света». На душе у Короленко впервые за долгое время было спокойно. Жить здесь будет хорошо, даром что изба черная, без трубы, зато, кажется, люди хорошие, глушь очень интересная. Поземельный вопрос в самой первобытной форме. Помещиков здесь никогда не было, земли достаточно.
Отсюда и следует начинать изучение народа. Совершенно ясно, что здесь нет ни малейшей поч-вы для поисков новой веры, обретения нового мировоззрения. Интересы, конечно, все непосредственные, брюховые, но народ, как видно, с задатками – и в этом главное.
Он будет сапожничать, записывать свои наблюдения за жизнью этой своеобразной лесной стороны, будет работать, работать…
Очень скоро Владимир Галактионович привык к холоду и дыму курной избы. Мягкий, ровный характер Короленко пришелся по душе Гавриной семье. Сам же жилец на первых порах ко многому привыкал с трудом, пытаясь городскую мерку применить и здесь.
Да, своеобразные здесь люди. Они верят и в бога и в леших, по-здешнему лешаков, в русалок, в то, что лихоманка ходит по свету, а огненный змей может ночью прилететь в избу. Суеверные, темные, они погибают от болезней, с которыми справился бы заурядный фельдшер, если бы он был в этом забытом-людьми и богом крае.
Впервые вера Короленко в какую-то особую, таинственную, непонятную интеллигенции народную мудрость основательно поколебалась. Где тот таинственный цветок, который его поколение собиралось отыскать в самых низах народной жизни? Его нет!..
Придя к этому выводу, Владимир Галактионович все же не пал духом. При всех условиях интеллигенция не должна отходить от народа, ибо самое страшное для нее – безнародность. Нет в действительности того мужика, которого его поколение вообразило себе, но есть глазовцы, бисеровцы, поэтому не нужно горевать оттого, что неизбежно должен рассеяться розовый туман прежних воззрений.
В Березовских Починках у Владимира Галактионовича стал складываться замысел повести «Полоса».
Это будет рассказ о его современнике, юноше, оторванном чуждою силой от интеллигентских кружков, книг, сходок и заброшенном в самые низы народной жизни, в далекие северные края. Здесь пройдет целая полоса его жизни среди темных лесных обитателей. Многие мечты молодого народника увянут, много ляжет в душу горечи оттого, что ожидания не сбылись. Но пройдет время, и из туманного, точно дальнее облако, образа народа разовьется, выступит множество живых, конкретных лиц. И хотя в душе героя подымается смутная борьба, начинается столкновение прежней веры и новых сомнений, остается главное – в жизненной борьбе ему уготован путь рядом с людьми из народа. (Повесть не была закончена, и впоследствии Короленко использовал ее в работе над «Историей моего современника».)
Однажды в избе Гаври появился староста с распоряжением начальства ехать хозяину в село Афанасьевское.
– Там, слышь ты… в царя, что ли, палили… Так приказано молебствовать…
Это было первое сообщение о покушении на Александра II революционеров, взорвавших 19 ноября 1879 года неподалеку от Москвы вместо поезда с царем поезд с дворцовой прислугой.
Когда, наконец, пришли долгожданные газеты, в доме Гаври собрались почти все окрестные политические ссыльные.
– «В комнате Сухоруковых, – читал Владимир Галактионович, – обстановка была чисто мещанская. В углу, перед иконой, теплилась лампадка…»
(Под именем супругов Сухоруковых скрывались готовившие взрыв царского поезда революционеры-террористы Лев Гартман и Софья Перовская.)
– С именем божиим, значит, на царя уже пошли, – вдруг сказал старший из братьев Санниковых, седобородых вятичей, сосланных за попытку поднять односельчан против захвата крестьянского леса лесным ведомством. – Теперь кончено его дело! Шабаш!
– Чье дело? – спросил Федот Лазарев, молодой рабочий из Питера.
– Лександры-царя. Против царя с нечистою силой ничего не возьмешь: сказано – помазанник. А уж если с именем божиим на него пошли, помяните мое слово, тут уж ему, раньше ли, позже ли – несдобровать… Тут выйдет толк.
Федор Богдан, пожилой крестьянин с Киевщины, угодивший в Починки за подачу мирской жалобы на малоземелье в руки самого царя, проговорил медленно, степенно и веско:
– Верите или нет, но сказали бы мне сейчас: «Оставайся, Хведор Богдан, помирать в этой земле, закопаем в лесу твои старые кости, зато кончится всякое непотребство», нехай даже и царя убьют на этом, так верите – согласился бы…
– Никакого толку не будет, – сурово сказал Владимир Галактионович. – Дело не в том или другом царе, а в тех или других порядках. Убьют одного царя – другой будет, и еще неизвестно, лучший ли.
На следующий день Владимир Галактионович с газетами отправился в починок Шмыриных, поместному Дураненков, к недавно привезенной ссыльной Улановской – знакомиться, несмотря на запрет урядника.
Починок стоял над обрывистым берегом. Короленко поднялся по тропинке, постучался в избу. Ответа не было.
– Заходи, Володимер, – крикнула со двора Дураненкова дочка Дарьюшка, – она у нас, я ее сейчас тебе покличу!
В избе было настолько холодно, что вода в кружке заледенела. На лавках, полках лежали книги, на стене висело католическое распятие. «Наверное, благословение матери». На полатях аккуратно подоткнутая постель, пол чисто вымыт.
Отворилась дверь, и в избу вбежала невысокая белокурая сероглазая девушка, румяная, круглолицая, оживленная. Владимир Галактионович протянул обе руки незнакомому товарищу по судьбе. Просто, по-товарищески поздоровались, сели, рассматривая друг друга. Эвелине Людвиговне на вид было не больше двадцати лет. «Еще моложе нашей Машинки». Помолчали немного, и вдруг оба заулыбались. Посыпались расспросы, отрывочные рассказы. Перебивая один другого, старались побольше выспросить и рассказать поскорее все бывшее с ними в последние трудные месяцы.
Девушка попала в места столь отдаленные совершенно неожиданно. Вообще высокий чин государственной преступницы она не заслужила. Училась в Петербурге на фельдшерских курсах, зубрила, «вертелась» среди молодежи – танцы, вечеринки. Даже желания совершить что-нибудь запрещенное не было. Уже сидя в тюрьме, узнала, что сбор с одной из вечеринок предназначался на помощь ссыльным и заключенным. Мама хочет просить, умолять, хлопотать, молится за нее пану Иисусу Христу. Что касается ее самой – она больше полагается на Шевченко. Когда читаешь его стихи, рассеивается тоска и страх перед лесами, страшными лесными людьми.
Владимир Галактионович слушал молча. Сердце то наполнялось гордостью за эту не павшую духом девушку, то сжималось от боли. Далеко, в каменном Петербурге, мечется в тоске одинокая старушка. Кто ответит за материнское горе, за слезы – пролитые и невыплаканные?..
Попала сначала в Пудож, а оттуда в Починки – за демонстративную отлучку из города с другими ссыльными и нанесения оскорблений начальству: бросали собранные грибы в полицейских.
Владимир Галактионович уже слышал о «грибном бунте». Особенно заинтересовало его то обстоятельство, что крестьяне по приказу исправника тащили своих заступников в полицию.
– Вы кощунствуете, считая этих людей – народом, – сказала Улановская.
– Я не согласен с вами, Эвелина Людвиговна. Кого же тогда следует считать истинным народом? – живо возразил ей собеседник. – Где искать его подлинное мнение, его взгляды, его надежды?
И есть ли уже такое сложившееся народное мнение? Где, наконец, та грань, которая отделяет подлиповца или бисеровца от истинного народа?..
Все эти вопросы особенно волновали Владимира Галактионовича последнее время. Он встречал даже в этих суровых краях замечательно яркие искорки талантов. Девочка из глухого починка пришла, чтобы послушать его, чужедальнего грамотного человека, и сама читала ему нараспев полузабытые старинные сказы. Да что там далеко искать! Гавря, его хозяин, мужичонка вздорный и с ленцой, преображается, когда в споре прибегает к помощи ярких образов, сравнений, поговорок, пословиц. В этом народе словно светит, горит и не может никак пробиться наружу что-то яркое, сильное и неистребимое. Видно, время еще не приспело.
Улановская не ответила. Она еще не нашла правильного решения трудных вопросов. Она просила приходить нового товарища почаще.
Об этих посещениях прослышал урядник. Вдобавок ему удалось узнать, что ссыльный Короленко самовольно отлучался из Починок. Трудно было мстительному и злобному человеку отказаться от удобного случая избавиться от строптивца.
4 декабря 1879 года был подан глазовскому уездному исправнику Петрову конно-полицейского урядника 140-го участка Кондратьева рапорт о самовольной отлучке состоящего под надзором полиции политического ссыльного Владимира Короленко – из места жительства в село Бисерово (Владимир Галактионович покупал там сапожный товар).
14 декабря последовал рапорт глазовского исправника Петрова вятскому губернатору, в котором испрашивалось разрешение о передаче протокола о самовольной отлучке Короленко мировому судье для наложения меры взыскания, каковая определялась по закону в один месяц тюремного заключения.
23 декабря губернатор Тройницкий доносил министру внутренних дел о том, что при самовольных отлучках ссыльный Владимир Короленко легко может сделать побег. Поэтому губернатор почтительнейше испрашивал разрешения на применение к Владимиру Короленко высочайшего повеления от 8 августа 1878 года о высылке политических ссыльных за покушение на побег или за совершение оного в Восточную Сибирь.
15 января 1880 года секретным отношением министра внутренних дел Макова на имя вятского губернатора признавалось необходимым – по соглашению с главным начальником Третьего отделения – дворянина Владимира Короленко выслать на основании высочайшего повеления в Восточную Сибирь за побег из назначенного ему места жительства.
И урядник, и исправник, и губернатор, и министр шли на сознательную фальсификацию, на явный подлог: самовольная отлучка – проступок, который в худшем случае мог караться месяцем тюрьмы, – превратилась по мере движения к «верхам» в побег – и здесь уже «закон был ясен».
Вследствие этого 26 января два жандарма отправились из Вятки в Березовские Починки с четко сформулированным приказом.
Владимир Галактионович, разумеется, ни о чем не подозревал.
Его разбудили среди ночи. В глаза ударил свет лучины. У стола стояли два вооруженных жандарма из Вятки с предписанием немедленно доставить его в город.
Как и в Глазове, гонимого властями человека провожали из Починок добрыми пожеланиями и слезами, долго махали вслед удалявшемуся возку.
– Езжай через Дураненков двор, – тихо сказал Владимир Галактионович ямщику.
Подъехали. Он быстро соскочил с саней, взбежал на крылечко.
– Эвелина Людвиговна, отворите, это я, и не один.
Вместе с ним втиснулся младший жандарм.
– Увозят. Пришел попрощаться…
Он едва сумел сунуть ей записную книжку, некоторые письма, которые не должны были попасть в жандармские руки.
– Пишите, Владимир Галактионович! – крикнула с крыльца девушка. Она оставалась без друзей, без поддержки. В голосе ее слышались отчаяние и слезы.
– Буду писать непременно! – послышалось из повозки.
– Гони! – толкнул жандарм в спину ямщика.

IV. СИБИРСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
Страна полночных вьюг, моей весны могила,
Непризнанных скорбей осмеянная мать.
Язык клянет тебя, а сердце полюбило…
Я что-то потерял и не могу сыскать!
П. Ф. Якубович

В.П.Т. Хорошие люди в скверных местах
Темным зимним вечером Короленко подвезли к закрытым железным воротам тюремного замка. Поскрипывая, качался над воротами фонарь, печально шлепалась тяжелая капель. На душе было смутно, неизвестность давила.
Опять знакомая, до смертной тоски опостылевшая картина «приемки». Высокий гориллоподобный смотритель тюрьмы, осторожно водя пером и вопросительно поглядывая на Короленко, пишет сопровождающим жандармам квитанцию:
«1880 года февраля 21 дня, дана сия унтер-офицеру Ерофееву в том, что доставленный арестант дворянин Владимир Короленко с собственными его вещами и деньгами пятью копейками в Вышневолоцкую тюрьму принят, в чем подписом с приложением казенной печати удостоверяю.
Смотритель тюрьмы капитан Ипполит Лаптев».
Опять серый арестантский бушлат с желтым «бубновым тузом» и черными буквами «В.П.Т.» (Вышневолоцкая политическая тюрьма), серые штаны, шапка-блин.
Надзиратели, тщетно стараясь не стучать сапогами, повели Короленко на второй этаж по тускло освещенному коридору мимо одинаковых дверей с глазками, мимо настороженных безмолвных стражей.
Щелкнул замок, и навстречу Короленко поднялись обитатели камеры, представились. Волохов был сотрудником крамольных «Отечественных записок». Юный Дорошенко исключен из гимназии «за отрицание религии». Иванайнен – рабочий, «бунтовал» вместе с Улановской в Пудоже, Андриевский, бывший инспектор Киевской гимназии, был связан с украинофилами (украинскими националистами). Все они ссылались в административном порядке.
Через несколько дней в камеру вошел Лаптев, за ним надзиратели внесли железную койку, накрыли ее грубым одеялом.
– Кого это бог нам дает, Ипполит Павлович? – спросил Короленко.
– Привезут с поездом надворного советника… – ответил озадаченный смотритель. Он давно уже пребывал в полной растерянности. На его глазах рушился мир. Люди, которые должны были составлять опору власти, попадали в тюрьму, ссылались в Сибирь.
Бывший надворный советник вошел в камеру с беспечной улыбкой. Тюремный халат сидел на нем мешком. Крепко пожал всем руки, пошутил насчет незнакомых, которых всегда встретишь в знакомых местах, и в камере словно стало светлее с приходом этого умного, веселого и сердечного человека.
Николай Федорович Анненский был кандидатом по юридическому и филологическому факультетам, но для него на пути к профессуре и кафедре оказался целый ряд преград – и среди них главная: свободный образ мыслей. Третье отделение нашло занятия Анненского литературой и политикой выходящими за рамки чиновничьей благонамеренности, и надворный советник очутился за решеткой.
Вскоре в камере появилась еще одна кровать. Лаптев с торжественным видом объявил, что прибыл поручик Павленков. Он оказался тщедушным человечком со сморщенным лицом, вздернутым носиком и большим лбом мыслителя. Флорентий Федорович, в прошлом поручик, покинул военную службу и занялся издательской деятельностью, выпускал сочинения Писарева, книги для народного чтения явно неблагонадежного содержания – и оказался в тюрьме.
Через несколько дней после появления Павленкова обитатели «большой» камеры заспорили. Непосредственной причиной явились недавние события.
5 февраля был совершен взрыв в Зимнем дворце, подготовил его, как говорят, рабочий-столяр (имени Халтурина в то время еще не знали). 20 февраля студент Технологического института Млодецкий, тоже неудачно, покушался на жизнь главного начальника Верховной распорядительной комиссии всесильного Лорис-Меликова.
Короленко доказывал, что революционный террор не пригоден для политического развития России. Надо поднимать уровень сознания крестьянства, интеллигенции необходимо идти к народу с широкой проповедью культуры.
Большинство не возражало. Да, они не революционеры, они – та окружающая последних среда, без которой была бы невозможна деятельность истинных революционеров. Террор противен их убеждениям, хотя, не принимая ни прямого, ни косвенного участия в актах террора, они не могут отказать подлинным революционерам в беззаветном геройстве и самопожертвовании.
– Во всяком деле необходимо разделение труда, – без тени шутки заметил Анненский, – Одни бросают бомбы, другие едут в деревню, третьи агитируют заводских рабочих. Одни «говорят» с царем и чиновниками, другие с народом, мы говорим с обществом…
– Ер-рунда, – вдруг резко возразил Павленков. – Просвещение подавлено, учитель превращен в казенную машину для обучения азбуке, нелегальная идейная работа требует совершенно сверхъестественных усилий у пропагандистов. Российским революционерам остается только один путь. Это террор!.. Всех Романовых и их прислужников нужно уничтожить без остатка!
Гневная убежденность мягкого, уступчивого Павленкова поразила всех. Короленко понимал, что это носится в воздухе, что это – сила вещей, но остался при своем убеждении.
…Андриевский принялся вербовать сторонников среди соседей с фамилиями, оканчивающимися на «енко». Под влиянием его Дорошенко стал сочинять стишки на украинские темы… впрочем, на русском языке. Но Короленко в ответ на «ухаживания» Андриевского отвечал, что для него вопрос национальный целиком зависит от главной задачи движения – борьбы за свободу, которая– должна объединить всех: русских, украинцев, поляков, евреев, грузин.
Андриевский возбужденно доказывал, что это просто-напросто беспочвенный радикализм, что только проповедь родного языка и на родном языке придает силу освободительным речам.
– А ваш национализм не беспочвенный? – возражал Короленко. – О чем вы будете говорить с народом на его родном языке? Разве не о его борьбе за свободу?.. Значит, прежде всего борьба за свободу, остальное приложится.
Большинство поддержало эту мысль.
Споры по волнующим вопросам как-то закрывали от обитателей тюрьмы их неприглядное настоящее и неизвестное будущее.
Несколько раз Короленко безуспешно пытался узнать причину своего ареста в Починках. Ему только сообщали, что он ссылается в Восточную Сибирь.
Эвелина Иосифовна добилась разрешения на свидание с сыном, привезла ему книги, которые он просил. Однако губернатор Сомов запретил для передачи «Недоросля», «Историю» Шлоссера, работы русских экономистов по крестьянскому вопросу. Половину книг пришлось увезти назад.
В результате многочисленных просьб и требований заключенных губернатор разрешил Лаптеву допускать в камеры книги и журналы по его усмотрению, но газеты запретил категорически.
Лаптев был службист и формалист, но ему нельзя было отказать в некотором сочувствии заключенным. Когда Сомов запретил «Новь» Тургенева, малообразованный Лаптев взамен принес сочинение Адама Смита «Теория нравственных чувств», убежденный в полной безвредности книги. Вскоре в камеры попал ни больше, ни меньше, как «Капитал».
– Что это за книга? – спросил Лаптев у одного из прибывших.
Владелец книги не растерялся:
– Она учит, как наживать капиталы.
Смотритель с любопытством полистал толстый том. «…20 аршин холста равны одному сюртуку», – прочел он.
– Знаю, ею часто пользуются военные приемщики. Очень полезная книга.
Так Короленко и другие обитатели тюрьмы получили возможность прочитать это замечательное произведение Маркса. Владимир Галактионович много читал, досадуя, что не может делать выписок из прочитанных книг. Письменных принадлежностей иметь не дозволялось. Правда, Короленко удалось пронести в своих пышных кудрявых волосах кусочек туши и кисточку для рисования, но нужны были еще бумага и перья или карандаш. Все это было тайно получено от родных. А в тюремной конторе потихоньку отлили чернил.



