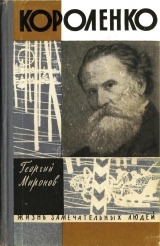
Текст книги "Короленко"
Автор книги: Георгий Миронов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
«Личность весьма неблагонадежная, а не без таланта»
Семья Короленко росла. 28 октября 1886 года родилась дочь Софья. Чтобы обеспечить семью, надо было много работать, часто ездить не только по губернии, но и в столицы. Короленко написал заявление директору департамента полиции Дурново с просьбой разрешить ему жительство в столицах и в местностях, состоящих под усиленной охраной. Разрешено было жительство только в Москве. Для въезда же в Петербург всероссийски известный писатель вынужден был каждый раз просить разрешения у департамента, и только в конце 1888 года его уведомили, что освобожденному от гласного надзора полиции дворянину В. Г. Короленко министерством внутренних дел разрешено жительство в С.-Петербурге.
Однако и теперь, когда Владимир Галактионович приезжал в столицы, он и его знакомые тотчас попадали под пристальное наблюдение петербургских и московских соглядатаев – это называлось «негласным надзором».
Особенно трудно было выносить надзор, в Нижнем, – здесь он оказывался весьма явным. Переодетые жандармы ходили за Короленко по пятам, увязывались за его знакомыми и друзьями, среди которых были преимущественно лица поднадзорные, неблагонадежные. Очень скоро Короленко и его домашние узнали шпионов в лицо, и это постоянное нахождение под нескромно-назойливыми взглядами новых «знакомых» изрядно отравляло существование, К этому времени у писателя появилась вторая дочь – Наталья, которая родилась 1 августа 1888 года. Даже выходя на прогулки с детьми, Короленко не избавлялся от преследования шпионов.
Не избежал писатель и допросов в нижегородском жандармском управлении.
В конце 1889 года в руки Александра III попало одно из произведений Короленко. Царь прочел и заинтересовался личностью писателя. Вскоре ему был представлен пространный доклад. Здесь сообщались основные факты биографии Короленко в период отбывания им ссылок, особо отмечался отказ от присяги.
«Сочинения Короленко, – признавалось в докладе, – пользуются большой известностью в обществе и охотно принимаются всеми периодическими изданиями. Лучшие произведения Короленко, независимо от помещения в журналах, издаются отдельно, и некоторые из них выдержали уже три издания».
По прочтении доклада император всероссийский, которому Короленко так и не принес верноподданнической присяги, начертать изволил глубокомысленную резолюцию: «По всему этому видно, что личность Короленко весьма неблагонадежная, а не без таланта».
В политическом обзоре по Нижегородской губернии за 1891 год генерал Познанский, начальник жандармского управления, доносил, что Короленко «лично сам стал влиять на некоторые общественные дела. Около него группируются положительно все поднадзорные Нижегородской губернии, и все, что он им высказывает, – для них закон».
Был и другой источник, из которого Петербург черпал сведения о Короленко. Нижегородский губернатор Баранов сначала заигрывал с популярным писателем, надеясь, что Короленко воздаст должное его «просвещенному» управлению губернией. Когда писатель решительно отклонил генеральские ухаживания, Баранов тоже принялся писать на него доносы, вполне успешно соперничая в этом с Познанским.
Жизнь трудна и сложна
– Тише, Володя пишет!..
Когда раздавалось это предостережение – все в доме утихали. Это означало, что в маленькой угловой комнатке, где тесно от шкафов с книгами, письменного стола, рабочей конторки, кушетки, стульев, – работает Короленко. Писал он чаще всего стоя, заложив одну ногу за другую, слегка наклонив голову, торопливо откладывая в сторону исписанные листы. Если появлялись друзья или знакомые, они тихо проходили в столовую и – ждали. Посетителей, которых с каждым годом в доме Лемке на Канатной улице появлялось все больше, Авдотья Семеновна поила чаем, и они терпеливо дожидались, когда из кабинета раздадутся быстрые твердые шаги, на пороге появится бодрый, освеженный работой писатель и пригласит к себе.
– Пишет? – переспрашивал посетитель, незнакомый с порядками в семье Короленко. – Значит, нельзя его увидеть?
– Да, – твердо отвечала Авдотья Семеновна. – Пока он не кончит, он все равно не способен воспринимать окружающее.
Если кто-нибудь все же прерывал работу писателя, он отвечал невпопад, искоса жадно поглядывая на свою конторку с заметным желанием возобновить работу.
– Когда я что-нибудь описываю, – делился Короленко с друзьями, – я ясно вижу всю картину. Однажды, во время работы над сибирским очерком, я вдруг поймал себя на том, что перестал писать и рисую пером знакомый пейзаж…
Писал Короленко самозабвенно, увлеченно, с огромным удовольствием. Ему трудно было только начать, а затем, когда появлялось начало «в нужном тоне», работа шла быстро, легко. Публицистические статьи он нередко писал прямо набело, беллетристические произведения – со значительными поправками.
Когда Короленко дольше обычного задерживался за своей конторкой, друзья тихонько заглядывали в кабинет, покашливали, звали оторваться. Анненский был шумливее других. И когда он «на цыпочках» следовал из прихожей в столовую, Владимир Галактионович в своем, кабинете по тяжелым шагам и шумному дыханию отличал его от всех и поскорее старался закончить работу – он очень любил Николая Федоровича.
Если работа все же увлекала Короленко и он забывал о времени, раздавался топот маленьких ножек, и в дверь, несмотря на предостережения матери, начинала ломиться Соня:
– Папа, титистик писоль… (статистиком она звала Анненского, возглавлявшего статистическое бюро губернии).
Появление Владимира Галактионовича в столовой встречается градом шуток. Он ловко парирует их, сам необидно высмеивает друзей и домашних.
– Мамашенька, – говорит он, – я заглянул в вашу расходную тетрадку, вижу всюду: рысь, рысь. Вы что же это – нас вместо риса рысями кормите?
Все смеются. Эвелина Иосифовна ласково и смущенно улыбается шутке сына, отвечает тихим голосом, не утратившим мягкого музыкального акцента родного польского языка. Она постоянно занята работой: вяжет носки и варежки внукам и чужим детям, кому-то шьет одеяла, ручные мешки, кофточки. Она ведет хозяйство умно и расчетливо – семья большая, а доходы невелики.
Особенно весело бывает в доме Короленко по вечерам. Приходят бывшие «сибиряки» – кроме Анненских, Елпатьевский с женой, журналист Дробыш-Дробышевский, нижегородские «коренные» жители, Богданович, поднимаются живущие внизу Лошкаревы. Тогда каламбурам, шуткам, веселым рассказам не бывает конца. Особенно удачно выступают Анненский и Мария Галактионовна. Когда они «распускают своих собачек», достается всем. Владимир Галактионович сам никогда не нападает, зато среди удачно обороняющихся первое место принадлежит ему. Его шутки всегда мягки, они никого не ранят, но от них смеются не менее заразительно.
Нередко объектом шуток становится сам Короленко с его неутомимой готовностью помочь людям.
Когда друзья вышучивали эту его особенность, Короленко отвечал серьезно:
– Говорите, пропьет? На то, что я ему дал, много не выпьет.
– Несимпатичный? Да и монета, которую он получил, не бог весть какая симпатичная.
– Почему поехал на извозчике с дрянной клячей? А как же ему поправиться, если его не будут брать? Пусть хоть на мне заработает.
В кругу друзей Короленко получил прозвище «банкир» – за его стремление выручать людей из беды. Но так как личные скудные ресурсы «банкира» иссякали много раньше его готовности помочь, то он отправлялся отыскивать средства, писал записки знакомым, тормошил всех до тех пор, пока проситель не получал самого необходимого и не «вставал на ноги», по любимому выражению Короленко:
«Податель сей записки вопиет о 35 рублях, – я собрал все, что было, теперь ничего не имам. Не поможете ли?
В. Короленко».
Особенно чуток, внимателен и сердечен Короленко был в семье – «клане». Мать свою он обожал и очень внимательно относился к ее желаниям. Именины Эвелины Иосифовны совпадали с рождественским сочельником, и в этот день соблюдался старинный польский обычай: собирались самые близкие люди, за трапезу принимались только с появлением первой звезды, стол накрывался на сене и подавались только кутья, взвар, жареный лещ. Правда, потом появлялся русский самовар и разговоры велись отнюдь не религиозного содержания, но Эвелина Иосифовна и не сетовала. Она всю жизнь прожила в России, сыновья и дочери ее были русские, она сама говорила по-русски.
Дети Лошкаревых любили «дядю Володю» беззаветно. Он возился с ними подолгу, когда они были здоровы, и превращался в «брата милосердия», если они заболевали.
Осенью 1888 года дом на Канатной посетила смерть. Заболела воспалением легких четырехлетняя дочь Лошкаревых Женя. Девочка жестоко страдала, и с ней мучились все остальные. Владимир Галактионович почти насильно взял из рук обезумевшей сестры забившуюся в предсмертных судорогах девочку и носил ее, и грел, и дышал на нее, и сам закрыл ей глаза…
Женя лежала в гробике, словно живая, спящая.
Короленко не захотел оставлять сестру одну. В комнате одуряюще пахло цветами, и ему сделалось дурно. Попил воды, каких-то капель – и снова тут же сел к столику: нужно было срочно выслать в «Северный вестник» рассказ.
– Пойди отдохни, – говорит Мария Галактионовна.
– Нет, я побуду с тобой. Постараюсь писать здесь…
И он пишет. Пишет о том, что было давным-давно, когда мать умершей Жени сама была девочкой, а он, сейчас уже бородатый мужчина, отец двух детей, был большеголовым мальчуганом, впервые задумавшимся в такую же ночь о великом таинстве жизни и смерти. В доме тогда тоже скрипели двери, шепотом разговаривали люди, и все было проникнуто тревогой. Старая нянька Гандзя гнала детей в кровати, а они недоуменно прислушивались к звукам, которые доносились из той комнаты, где у мамы в эту ночь родилась «детинька».
Он пишет свой рассказ, который называется «Ночью». Тогда ночью родилась новая жизнь, теперь – тоже ночью – он сидит у гробика умершего ребенка. Многое ли он узнал о жизни и смерти за эти тридцать лет?..
Люди рождаются, люди умирают – такова жизнь. Просто и сложно, как все в этом мире. Короленко долго смотрит на усыпанный цветами крошечный гробик, на мерцающие огоньки погребальных свечей, на застывшую в горе сестру. Потом опять берет в руки перо. Какое читателю дело до того, что он в момент работы над рассказом о появлении новой жизни на земле сидел подле гроба близкого существа? Он взялся описать не смерть, а жизнь, и он сделает это, как бы ни тяжко было на душе.
Едва успев отослать «Ночью» в «Северный вестник», Короленко принимается за рассказ «С двух сторон», который был написан меньше чем за два месяца. В октябре был подготовлен для гаршинского сборника отрывок «На Волге». Во всех этих произведениях отразились настроения, властно овладевшие впечатлительным писателем после смерти Жени.
«Мы были с Николаем Гавриловичем словно родные…»
Летом 1889 года Авдотья Семеновна с девочками и сестрой А. С. Малышевой жила на хуторе в Саратовской губернии, а Короленко совершал свои обычные летние странствия по Нижегородью. В начале августа он заехал за женой, и они отправились в Саратов, на свидание к Николаю Гавриловичу Чернышевскому, который получил, наконец, разрешение выехать из Астрахани и поселиться в родном городе.
С Николаем Гавриловичем и его женой несколько лет назад познакомился Илларион Короленко. Он писал и рассказывал брату о Чернышевском, который очень интересовался автором «Сна Макара», считал его человеком талантливым, симпатизировал ему, как писателю, и предрекал блестящую будущность. Однако, когда Илларион Галактионович передал ему о желании брата познакомиться, Чернышевский ответил: «Нет, уж это не надо. Мы с Владимиром Галактионовичем, как два гнилых яблока. Положи вместе – хуже загниют».
Это был намек на их вконец испорченные в глазах начальства репутации. Приходилось Короленко довольствоваться рассказами Иллариона, его письмами и сообщениями о «дяде Коле», как конспиративно назвал писатель Николая Гавриловича в одном из писем. Но затем по просьбе Чернышевского Короленко собрал и выслал ему материалы для биографии Добролюбова. Вскоре было получено приглашение посетить Чернышевских в Саратове.
Жили они против общественного сада, в деревянном флигеле в глубине двора. На звонок вышла кухарка:
– Николай Гавриловича нету дома.
Короленко оставил визитную карточку – он придет завтра. Адреса не указал.
Рано утром супруги ушли в Гостиный двор за покупками, а когда в половине десятого вернулись, номерной подал записку. Крупным, слегка дрожащим почерком в ней было написано:
«Владимир Галактионович!
Зайду к Вам между 10 часами и четвертью 11-того.
17 авг. Ваш Н. Чернышевский».
За номерным еще не успела закрыться дверь, как кто-то, невидимый из-за перегородки, заговорил. Голос был глуховатый, старческий, но приятный.
– А-а, дома. Ну, вот и отлично, вот и пришел… А, вот вы какой, Владимир Галактионович… Ну, каково поживаете, каково поживаете?.. Ну, очень рад.
И, протягивая руку точно старому знакомому, Чернышевский подошел к столу. Длинные каштановые, без единой серебряной нити, волосы Чернышевского обрамляли темное, землистое, все перерезанное сетью морщинок, знакомое по портретам лицо.
Желтая астраханская лихорадка! Из студеной Якутии его нарочно послали в знойную Астрахань – в расчете на эту верную помощницу престола в борьбе с революционерами.
– А это кто у вас? Жена, Авдотья Семеновна? Ну, и отлично, ну, и отлично, я очень рад, голубушка, очень рад. Ну, вот и пришел…
Чернышевский говорил оживленно, почти весело. Короленко по рассказам ссыльных знал эту его черту; даже в самое тяжкое для него время Николай Гаврилович страдал молча, на людях был ровен, неизменно приветлив и даже весел – мужественный русский человек, отдавший себя революции до конца.
Целый рой мыслей и чувств всколыхнула эта встреча в молодом писателе. Бурное половодье русской жизни почти трех десятилетий прошло вдали от Чернышевского. В свое время он твердой рукой разрушил преграды, и в русское общество хлынул мощный поток освободительных идей.
С прежним блеском и умом, мастерски владея оружием диалектики, обрушился Чернышевский на учение Толстого о «непротивлении злу насилием».
Когда Владимир Галактионович вышел попросить, чтобы подали еще самовар, Авдотья Семеновна спросила Николая Гавриловича, какие произведения мужа ему нравятся больше всего. Стали перечислять вместе все лучшее из написанного Короленко: «Сон Макара», «Старый звонарь», «В дурном обществе», «Соколинец», «Убивец», «Слепой музыкант», «Лес шумит»… Авдотье Семеновне особенно нравилось «Сказание о Флоре».
Чернышевский улыбнулся:
– Я ругаю Толстого, а вы тут же: «Мне нравится «Сказание», – в нем развенчивается непротивление злу…» Помните, у Некрасова есть одно стихотворение: сидит на улице каменщик, бьет камни:
И если ты богат дарами,
Их выставлять не хлопочи:
В твоем труде заблещут сами
Их животворные лучи.
Взгляни: в осколки твердый камень
Убогий труженик дробит,
И из-под молота летит
И брызжет сам собою пламень!
– Так вот и у Владимира Галактионовича, – закончил мысль Чернышевский, – что бы он ни писал, всюду искры. Надо, чтобы он работал и не отходил в сторону. Это большой талант, это тургеневский талант.
Он оглянулся на вошедшего в комнату Короленко и лукаво закончил:
– Я только не примирюсь с ним до тех пор, пока он не напишет большое что-нибудь из общественной жизни.
За эти дни пребывания в Саратове Короленко дважды посетил Чернышевского на его квартире. Они подолгу беседовали, и не проходило ощущение, появившееся у Короленко еще в первое свидание их, что они с Николаем Гавриловичем были словно родные, свидевшиеся после долгой разлуки.
Последнее свидание было особенно теплым и сердечным. Владимир Галактионович подарил хозяину своего «Слепого музыканта», недавно вышедшего вторым изданием, с надписью: «Николаю Гавриловичу Чернышевскому от глубоко уважающего В. Короленко».
Чернышевский проводил гостя до ворот. В мерцающих сумерках позднего вечера в последний раз смотрел Короленко в глаза «яркого светоча науки опальной», в последний раз обнимал худые, старческие уже плечи.
Уехал далеко от Саратова – в Крым – и там все думал о человеке, ставшем близким и дорогим за несколько коротких летних дней.
Вспоминались беседы с Чернышевским. Цельный, твердый, несломленный человек, активный борец против пассивного смирения, против общественного зла, против условий, отнимающих у людей счастье и долю.
Накануне отъезда из Крыма Короленко лихорадочно, торопливо, словно боясь, что остынет гнев против пассивного человечьего существования, этого страшного зла жизни, принялся набрасывать рассказ «Тени».
Мудрый строптивец Сократ, не боясь смерти, отстаивает свое право на поиски истины. Если ошибаются даже сами боги – они услышат слова протеста. «Уступите же с дороги, мглистые тени, заграждающие свет зари! Я говорю вам, боги моего народа: вы неправедны, олимпийцы, а где нет правды, там и истина – только призрак».
Короленко не видел новой веры, но твердо знал, что старая вера – зло и поэтому разрыв с ней необходим. Смирение перед злом – это то же самое, что сопротивление добру.
Учитель и ученик
… Ясным декабрьским утром 1889 года у дома Лемке остановился высокий молодой человек лет двадцати, широкоплечий, крепкий, но худой и одетый скорее по-летнему, чем по-зимнему. Огляделся и решительно полез в худых сапогах напрямик через сугроб к крыльцу.
– Вам кого?
Невысокий коренастый мужчина в коротком тулупчике отставил лопату, смотрит внимательно, добро. Большая курчавая борода в инее, лицо разрумянилось от работы, а глаза карие, хорошие, с веселой искоркой.
– Мне нужен Короленко.
– Это я.
Молодой человек сконфузился, пробормотал, что его зовут Пешков, Алексей Максимович Пешков. Он принес писателю Короленко свою поэму, хочет узнать его мнение.
Пешков читал рассказы Короленко, и они вызывали в нем чувство, не схожее с тем, какое испытывал он при знакомстве с произведениями народнических писателей – Каронина, Златовратского, Засодимского, Наумова, Мачтета. Короленко не требовал истовой, безоглядной веры в мужика, и поэтому его творчество в кругах нижегородских и казанских народников – «радикалов» – не пользовалось симпатиями, В нем они видели вредного скептика, отказавшегося следовать святой традиции поклонения народу. По правде сказать, Пешков чувствовал себя в среде «радикалов», как чиж в стае мудрых воронов, а их отзывы о Короленко только увеличивали его острый интерес к писателю.
Пешков уже шесть лет писал стихи, но желания показать их кому-нибудь из писателей-«радикалов» не испытывал, – очень уж много в стихах было такого, что вовсе не соответствовало взглядам его знакомых. В один из трудных периодов трудной своей молодости и пришел Пешков к Короленко. Свою поэму в стихах и прозе под названием «Песнь старого дуба» молодой автор искренне считал вещью замечательной: ведь он вложил в нее свои размышления о судьбах мира и человечества, тревожившие его всю недолгую сознательную жизнь. Он был уверен, что, прочитав его творение, все грамотное человечество будет потрясено им, после чего мир радикально переустроится, начнется иная, честная, чистая, веселая жизнь. Других желаний у Пешкова не было.
Листая объемистую рукопись, Короленко больше смотрел на автора, чем на его тетрадь, в которой оказалось еще и несколько листков со стихами.
– Почитаем! Тут у вас написано «зизгаг», это, очевидно… описка. Такого слова нет, есть – «зигзаг».
Пауза дала Пешкову понять, что Короленко знает: здесь ошибка, но щадит самолюбие автора. Таких «описок» нашлось немало.
– Какое суровое лицо у вас, – сказал Короленко, глядя прямо в лицо смущенному Пешкову, и вдруг широко, понимающе улыбнулся: – Трудно живется?
– Иностранные слова надо употреблять только в случаях совершенной необходимости, – мягко наставлял писатель. – Вообще же лучше избегать их. Русский язык достаточно богат, он обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли… Вы часто допускаете также грубые слова, – должно быть, потому, что они кажутся вам сильными? Это бывает.
– Я это знаю, – отвечал Пешков. – И о своей малограмотности знаю. У меня не было ни времени для того, чтобы обогатить себя мягкими словами и чувствами, ни места, где я мог бы это сделать.
Короленко согласно кивнул головой: он сумел проникнуть в настроение автора и в причины, побудившие его взяться за перо.
– В юности мы все немножко пессимисты, не знаю, право, почему, – говорил Короленко. – Кажется, потому, что хотим многого, а достигаем мало…
Пешков ушел расстроенный. Твердо решил больше не писать. Ничего. Ни стихов, ни прозы.
Через две недели знакомый принес ему рукопись.
– Владимир Галактионович думает, что слишком запугал вас. Он говорит, что способности у вас есть, но надо писать с натуры, не философствуя. У вас есть юмор, хотя и грубоватый, но это хорошо! А о стихах он сказал: это бред!
На обложке тетрадки Пешков прочел запись карандашом характерным короленковским почерком:
«По «Песне» трудно судить о Ваших способностях, но, кажется, они у Вас есть. Напишите о чем-либо пережитом Вами и покажите мне. Я не ценитель стихов, Ваши показались мне непонятными, хотя отдельные строки есть сильные и яркие.
Вл. Кор.».
Пешков разорвал тетрадку, листочки, со стихами и затолкал в печь. «С этим покончено…»
Полгода спустя летней теплой ночью сидел он, задумавшись, на Откосе, высоком волжском берегу, и не услышал шагов Короленко.
Во Владимире Галактионовиче было что-то, напоминавшее Пешкову волжского лоцмана: плотная широкогрудая фигура, зоркий взгляд умных глаз, благодушное спокойствие во всем облике.
И молодой человек задал вопрос, который мучительно тревожил его давно:
– Почему вы, Владимир Галактионович, такой ровный, спокойный? Мы с вами несколько раз встречались у знакомых, и я ни разу не видел, чтобы вы взволновались, доказывая свою правду. Подо мною все колеблется, вокруг начинается брожение, а вы спокойно прислушиваетесь к спорам. Почему вы спокойны?
– Я знаю, что мне нужно делать, и убежден в полезности того, что делаю, – отвечал Короленко просто и, отодвинувшись, чтобы лучше видеть лицо собеседника, улыбаясь, задал встречный вопрос: – А почему вы об этом спрашиваете?
Почему?! – хотелось крикнуть Пешкову. – Почему интеллигенция не делает более энергичных усилий проникнуть в массу людей, пустая жизнь которых кажется, да и есть на самом деле, совершенно бесполезной, насыщена духовной нищетой, диковинной скукой, равнодушной жестокостью во взаимных отношениях?..
Пешков говорил долго, горячо, а собеседник его, глядя на него – большого – снизу вверх, слушал молча, внимательно, добро.
Помолчав, заговорил дружески, негромко:
– Не спешите выбрать верования, я говорю – выбрать, потому что, мне кажется, теперь их не вырабатывают, а именно – выбирают. Всякая разумная попытка объяснить явления жизни заслуживает внимания и уважения… всякая.
Короленко помолчал, слушая, как проснувшаяся река встречает новый день плеском пароходных колес, гудками, людскими голосами, потом положил руку на плечо собеседника, и это вышло у него само собой, очень просто, по-дружески. Он продолжал:
– Не ожидал, что вас волнуют эти вопросы. Мне говорили о вас, как о человеке иного характера… веселом, грубоватом и враждебном интеллигенции… – И он взволнованно, как о давно продуманном и очень близком, заветном, стал говорить об интеллигенции. Да, она всегда и везде оторвана от народа, но это потому, что она идет впереди, в этом ее историческое значение. Она – дрожжи всякого народного брожения и первый камень в фундаменте каждого нового строительства. Сократ, Джордано Бруно, Галилей, Робеспьер, декабристы, Перовская, Желябов, все, кто сейчас голодают в ссылке, кто в эту ночь сидит за книгой, готовя себя к борьбе за справедливость, а прежде всего, конечно, в тюрьму, – все это самая живая сила жизни, самое чуткое и острое орудие ее… Необходима справедливость! Когда она, накопляясь понемногу, маленькими искорками, образует большой огонь, он сожжет всю ложь и грязь земли, и только тогда жизнь изменит свои тяжелые, печальные формы. Упрямо, не щадя себя, никого и ничего не щадя, вносите в жизнь справедливость!
Пешков пошел провожать Короленко через город.
– Что же – пишете вы? – спросил Короленко.
– Нет. Времени не имею.
– Жаль и напрасно. Если бы вы хотели, время нашлось бы. Я серьезно думаю – кажется, у вас есть способности. Плохо вы настроены, сударь…
Хлынул проливной дождь. Они дружески распрощались и расстались надолго. Весною следующего, 1891 года Пешков отправился в дальние странствия по Руси, а Короленко продолжал делать то дело, в полезности которого он был убежден.



