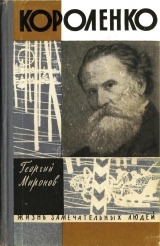
Текст книги "Короленко"
Автор книги: Георгий Миронов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
II. В СТОЛИЦАХ
Родина-мать! нет ни счету, ни сметы
Змеям, что были тобою пригреты;
Всюду душил тебя льстивый сенатор,
Хищный чиновник, жандарм, император,
Поп и помещик, судья и купец;
Грабил последний судейский писец…
Родина-мать! Разверни свои силы,
Жизнь пробуди средь молчанья могилы!
Встань! Угнетенье и тьму прекрати
И за погибших детей отомсти!!.
И. А. Морозов

Бесплодные попытки
Мир беспределен, ярок, полон огорашивающего шума, ослепительной новизны. Мир – это Киев, Курск, Москва, Петербург, это грохочущие поезда, шумная толкотня станций, пестрая, говорливая человеческая река московских площадей, сдержанное громыхание экипажей на прямых петербургских улицах.
Владимир – в Петербурге! В Петербурге, откуда исходила вся русская литература, настоящая родина его души. Здесь жили Белинский и Добролюбов, здесь живут Некрасов, Щедрин, Михайловский… Вот здесь, на Невском, можно встретить гоголевского поручика Пирогова. Здесь обитают герои Достоевского, и среди женщин на панелях Невского не одна близка по судьбе Соне Мармеладовой…
Мглистые сумерки быстро опускались на Петербург. Вот уже зажглись ряды газовых фонарей. От Знаменской площади цепочка огней уверенно уходила вдаль по широкой невской перспективе, и слева, над Льговским каналом, откуда несло промозглой сыростью, робко мигали редкие тусклые светильники.
Когда тебе восемнадцать лет, даже те 17 рублей, с которыми ты появился на вокзальной площади Петербурга, кажутся целым состоянием. Впереди студенческая жизнь, лекции, товарищи, профессора.
С двумя студентами-технологами Владимир поселился в Семеновском полку, на Малом Царскосельском проспекте, в «мансарде», у супругов Цывёнко.
В ближайший же день новый член маленькой «коммуны» попросил свести его в институт. Вызвался Збигнев Негребецкий, земляк-ровенец.
Высокий статный красавец Збигнев был когда-то звездой в гимназии, а здесь он не сумел перейти на второй курс. Милое приветливое лицо приятеля бледно, он в худых сапогах, плохо одет.
Третий член «коммуны», Васька Веселовский, бывший семинарист, сегодня обронил фразу: «С нами тут, братец, добра не наживешь…» Все ясно: они голодают, им не до учебы. Но Владимир сумеет преодолеть все ради жизни в Петербурге, ради учения. Восторженное настроение не покидает юношу. Все вокруг ново и интересно до крайности. Чем ближе к институту, тем чаще мелькают зеленые околыши фуражек студентов-технологов. Формы у них нет, одеты кто в чем, преобладают высокие сапоги, темные блузы с ремнем. Почти у всех длинные, до плеч, волосы, пледы, многие в очках. «Интеллигентные рабочие с печатью мысли».

Эвелина Иосифовна Короленко – мать писателя. С фотографии, сделанной В. Г. Короленко в 90-х годах.

Житомир. Вид на реку Тетерев.

Вениамин Васильевич Авдиев – учитель Ровенской гимназии.

Володя Короленко – ученик Ровенской реальной гимназии. Фото 1871 года.

Реальная гимназия в г. Ровно.
Негребецкого остановил какой-то студент, загорелый, оживленный. Желание поделиться с кем-нибудь новостями распирало его. Летом для практики ездил на паровозе с балластными поездами в Полесье. Был сначала кочегаром, потом помощником машиниста. Интересно!
Их окружили, и начались рассказы. Почти все были на практике – простыми рабочими, монтерами, табельщиками. Денег это давало немного, зато впечатлений более чем достаточно.
Движение «в народ» еще не начиналось, но в молодежи уже созрела уверенность, что необходимо идти на борьбу за справедливый социальный строй ради интересов страдающего народа.
Владимир чутко улавливал это настроение, которое так совпадало с его собственными мечтами о будущей деятельности. Образ N. N.. человека известного немногим, дополнился рядом черт… В институте он овладевает техникой, живет в казарме среди рабочих, читает им книги об иной, лучшей жизни. Вот он на паровозе зорко глядит вперед, и машина несется в ночи, сквозь ночь, к неведомым станциям, к новым этапам обновляющейся жизни. А по сторонам приветливо мерцают огоньки российских деревень, и их обитатели, простые, добрые трудовые люди, ждут от молодых искателей новых откровений о будущей справедливой, хорошей жизни…
Кудрявую голову нового технолога вместо мягкой шляпы покрыла зеленая фуражка, на смену немыслимому костюму пришла серая блуза, туго перепоясанная ремешком. Оставалось пойти по пути перевоплощения в рабочего-интеллигента с умным взглядом, каким теперь представлял себя Владимир в будущем.
Но сделать это оказалось не так просто. Очень скоро Владимир узнал, что такое голод бедных студентов, обитателей наемных комнат под самыми крышами.
Совсем немного требовалось, чтобы быть сытыми: всего двадцать копеек. Когда они появлялись, на четырнадцать копеек брали чесночной колбасы, на шесть копеек – черного кислого хлеба, и «коммуна» обедала.
От голода притуплялась память, запах еды вызывал уже только отвращение. Спасали лишь молодость да железное здоровье. С трудом добредал Владимир вечерами после чертежной или библиотеки до своей «мансарды».
Иногда хозяйка Мавра Максимовна приглашала его к своему столу, поила чаем с булкой, жалостливо причитала по поводу его голодного вида, плохой одежды. Как-то добрая толстуха рассказала Владимиру о бывшем жильце, рабочем, арестованном полицией «за книжки» и желание поравнять богатых и бедных.
– Взяли нашего Павла Карповича на заводе… домой зайти не дозволили. Пришли сюда на квартиру… Рылись, рылись, все книжки смотрели… Так и не видели мы больше нашего Павлушу. Посылала я Цывенку своего, потом уже сама была не рада…
– Что же сказали? – спрашивает Владимир.
– «Что вы, – говорят, – господин Цывенко… верный слуга, а об таких людях интересуетесь… Такого человека надо в каменный столб замуровать, раз в неделю спрашивать: живой ли еще…»
Владимир заинтересован и взволнован. Впервые он слышит о том, что идеи Фурье и Сен-Симона, которые казались ему далекими от жизни, нашли доступ в рабочую среду. Значит, не только интеллигенцию интересуют эти вопросы. Вот ведь простой рабочий с товарищами пытался приложить социалистические формулы к жизни.
Вскоре знакомый студент предложил посетить одно «тайное собрание», и Владимир с радостью согласился.
Собрание разочаровало его. Оно показалось просто скучным. Серьезный студент в очках говорил о необходимости отдать все силы на пользу родного народа. Но присутствующие словно ждали еще чего-то, может быть нового, последнего откровения, которое бы разъяснило, что же надо делать, как действовать ради желанной цели.
«Скучное собрание», однако, настойчиво разыскивала полиция. К Мавре Максимовне тоже наведались.
– Где ваши были третьего дня?
Но арест рабочего Павла кое-чему научил женщину.
– Мои смирные, всё учатся, – соврала она.
Владимир задумался. «Правительство боится таких сборищ молодежи. Значит, в них есть что-то важное…»
«Вы были на собрании, ну, что там?» – тихо спрашивали Владимира товарищи, и он уже теперь не решался ответить, что там было «скучно».
К весне стало ясно, что год потерян. «Коммуна» распалась. Осенью 1872 года на север из Ровно перебралась семья Короленко. Илларион определился в техническое училище. Юлиан занялся переводами. Эвелина Иосифовна с младшей дочерью поселилась у родственника в Кронштадте. Маша уже училась в Екатерининском институте в Москве.
Хотя Владимир и решил (в который уже раз!) начать «новую жизнь», ничего у него не получилось. Вместо учебы приходилось подыскивать работу. Он рисовал атласы и географические карты, брал чертежи, вместе с Юлианом занимался переводами для известного издателя С. С. Окрейца и за эту неблагодарную, изнуряющую работу получал гроши.
И на второй год не удалась «новая жизнь».
Начался третий учебный год. Конец 1873 года застал Владимира в корректурном бюро некоего А. О. Студенского. С Юлианом они жили в крошечной оклеенной темно-синими обоями комнате, очень напоминающей гроб. Работать приходилось с раннего утра до поздней ночи с маленькими перерывами на обед.
Теплая ясная осень сменилась сырой безморозной зимой; все раньше зажигались огоньки в их сумрачном Демидовском переулке. В один из таких вечеров молодой человек понял, что так дальше продолжаться не может. Отвратительным казалось все: мрачная корректорская, опостылевшая работа, даже собственное будущее.
Владимир оделся и вышел. Побродил – тоска не проходила. Оглянулся, словно ища причину. Ну да, конечно, во всем виноваты петербургские фонари: они звали, манили, обещали – и что же?.. Прочь отсюда, в Москву, в Петровскую академию, куда давно зовут друзья!
Поднявшись в корректорскую, Владимир заявил Студенскому, что берет расчет. Съездил в Кронштадт, попрощался с матерью…
В Петровской академии беспорядки…
Как отрадно после бесцельного и вдобавок полуголодного существования войти в иную жизнь. Владимир аккуратно посещал лекции, умеренно зубрил, читал по вечерам разнообразнейшую литературу, в том числе и запрещенную.
Он поселился с товарищами в одной из «дачек», расположенной неподалеку от академии.
Часто собирались сходки, приезжали студенты и курсистки из Москвы. Мало пили, зато много спорили и много пели.
Выпьем мы за того,
Кто «Что делать?» писал,
За героев его,
За его идеал.
А потом вполголоса кто-нибудь начинал:
Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног…
Вечер по традиции заканчивался новой, революционной «Дубинушкой»:
Чтобы барка шла ходчее,
Надо гнать царя в три шеи…
Эх, дубинушка, ухнем,
Эх, зеленая, сама пойдет!..
Владимиру эти вечерние сборища казались несерьезными. Теперь он считал себя хорошим знатоком жизни и находил, что позиция скептика самым наилучшим образом соответствует его нынешнему мироощущению.
В учебе он делал заметные успехи: хорошо сдал экзамены и был переведен на второй курс со стипендией.
Незадолго перед каникулами, летом 1874 года, состоялось знакомство Владимира с человеком, который стал потом одним из ближайших, сердечных друзей всей его жизни.
Василий Григорьев и его товарищ Константин Вернер со второго курса инженерной академии решили оставить армию и перейти в Петровскую академию. К Григорьеву Владимир почувствовал сразу глубокую симпатию. Василий и его товарищ не желают служить военной бюрократии, они ищут чего-то, может быть, того же самого, что и он. Разговоры с самого же начала знакомства стали откровенными. Вдумчивый, серьезный, очень располагающий к себе, Григорьев выслушал нового товарища с глубоким вниманием.
«Старые» студенты с их бесшабашным разгулом кажутся Владимиру более интересными, чем нынешние с их игрой в тайные сходки и собрания, с громкими фразами о помощи народу. Нужно не это. А что именно – он не знает.
Григорьев в ответ как-то хорошо, умно усмехнулся и огорошил, убил Владимира замечанием:
– Помнится, у Писарева в статье «Наша университетская наука» сказано примерно так: «Скептицизм, переходящий за известные пределы, становится подлостью…»
Владимиру эта мысль была знакома, но сейчас, в устах Григорьева, она неожиданно обрела новый, важный, глубинный смысл. И чем больше он задумывался, тем яснее становилось для него, что он непростительно самонадеянно и поспешно облек себя в одежды скептика и зря взялся преподавать уроки скороспелого, беспочвенного разочарования. Они не по нему, и он не для них!..
Дружба с Григорьевым и Вернером постепенно положила предел старому настроению. Они стали частыми посетителями сходок, тайных собраний, которые устраивались то в академии, то студентами университета и технических учебных заведений. Часто приезжали агитаторы из Петербурга. Движение учащейся молодежи обрело, наконец, конкретный лозунг: звали идти «в народ». Все чаще стали исчезать студенты. «Уехал на Волгу…», «На Украину…», «На Дон…» – передавали потом.
И почти тотчас с движением «в народ» начались аресты.
Чувство необыкновенной радости жизни, уверенности, что ему и всему его поколению предстоит сделать что-то выдающееся, необыкновенное, героическое, отчего жизнь вдруг изменится и станет совсем иной, все росло, переполняло Владимира. Он сам стал выступать на сходках, мало-помалу преодолевая свою природную застенчивость.
Говорил горячо, дельно. Имя его становилось популярным у молодежи, зараженной известным «настроением».
Владимира захватила народническая теория Лаврова. В отличие от Бакунина, Ткачева, требовавших немедленных действий во имя великого служения страдальцу народу, Лавров выдвигал задачу серьезной научной подготовки будущих пропагандистов. Это совпадало и с желанием Владимира завершить образование в академии. Вооруженный знаниями, он будет с большей пользой служить делу народа.
Памятной осенью 1875 года, когда шел уже третий год учебы Владимира в академии, на одном из собраний он встретился с Авдотьей Ивановской, слушательницей Лубянских курсов. Их никто не знакомил, они ни разу не заговорили друг с другом, но от мысли, что в уголке сидит и внимательно слушает девушка в темном платье, которое так идет к ее бледному выразительному лицу, и ее задумчивые глаза нет-нет да остановятся на нем, – от этой мысли становилось легко и радостно. В мечтах, в беглых, неоформленных мыслях мелькало, теплилось новое чувство, говорившее о том, что вот оно, пришло то, что он искал. Высокая, стройная, с тяжелой пепельно-русой косой и спокойными, плавными движениями Душа Ивановская, как ее все называли, овладела сознанием и мыслями скромного, застенчивого Владимира.
Как-то раз во время горячего спора к нему обратились за арбитражем. Он рассудил дельно и умно, и в глазах девушки увидел согласие и сочувствие.
Они встречались лишь на собраниях, говорили только о «деле», о «народе».
…Дуню арестовали весною, когда в парке шумели ручьи. Арестовали по делу о пропаганде в Москве и Вологодской губернии. При обыске у нее были найдены запрещенные издания, подложные паспорта, оружие…
Климент Аркадьевич Тимирязев читал у «лесников» ботанику и физиологию растений. Владимир относился к профессору с обожанием. Он рисовал для лекций Тимирязева демонстрационные таблицы, часто посещал профессора в его маленьком деревянном домике и при этом ловил себя на мысли, что испытывает к нему такие же чувства, как некогда к Авдиеву.
Тимирязев был одним из немногих профессоров академии, которых студенты искренне любили. В 1876 году Тимирязеву было тридцать три года, он живо интересовался общественными вопросами, которые так будоражили студентов (говорили, что в свое время он был исключен из университета за участие в сходках). Профессор был предан науке беззаветно, до конца – это тоже сближало его с молодежью.
Студенты верили, что установившийся в последнее время фискальный режим в стенах академии не может не возмущать Тимирязева, и постоянно вызывали его на беседы, не имеющие отношения к ботанике и физиологии растений.
Вокруг Тимирязева собралась большая группа студентов.
Один из них, высокий, угловатый, говорил быстро, горячо, напористо.
– Да, профессор, мы тоже ценим науку, но мы не забываем, что в то время, как интеллигенция красуется на солнце, – студент почему-то указал на таблицу, где изображалось влияние солнца на жизнь растений, – в это время там, где-нибудь в глубине шахт, роются люди… Вот именно, как говорит Некрасов: «…предоставив почтительно нам погружаться в искусства, в науки…»
Владимир видел поверх голов, как у нервного, подвижного Климента Аркадьевича лицо омрачилось, он сделал протестующее движение, но спохватился, вынул часы:
– Господа… Пора начинать лекцию…
Тимирязев читал, как всегда, ярко, зажигательно.
Шаг за шагом раскрывал он фазы процесса, где в сложном взаимодействии существуют животное и растительное царства.
Серые живые глаза Тимирязева сверкнули. «Сейчас он перейдет к предмету спора», – мелькнуло у Владимира. Он беспокойно пошевелился. Тимирязев быстро взглянул на него – под усами, на тонких губах скользнула улыбка.
– …Вот, господа, зернышко хлорофилла, совершающее великую работу. Оно в листе. Лист красуется и трепещет в воздухе, залитый потоками света, в то время когда корни роются глубоко, в темных глубинах земли…
Тимирязев разыскал в аудитории своего оппонента, и улыбка осветила его лицо. Он приглашал выслушать его доводы.
Нет, роль листа не украшение, не простая «эстетика растения». В нем начало всей экономии живой природы. Это он ловит солнечную энергию, он распределяет ее от верхушечной почки до концов корневых мочек. И когда он красуется в лучах солнца, когда он трепещет под дыханием ветра, в это самое время он работает в великой мастерской, где энергия солнечного луча как бы перековывается в первичную энергию жизни.
Профессор оглядел аудиторию своими мудрыми и наивными глазами.
– Напомню вам, господа, басню Крылова «Листы и корни».
«Мы те, —
Им снизу отвечали, —
Которые, здесь роясь в темноте,
Питаем вас. Ужель не узнаете?
Мы корни дерева, на коем вы цветете.
Красуйтесь в добрый час!
Да только помните ту разницу меж нас,
Что с новою весной лист новый народится,
А если корень иссушится, —
Не станет дерева, ни вас».
– Да, люди науки могут без оговорки принять это ироническое сравнение. Если они листва народа, то мы видим, какова действительная роль этой листвы. Общественные формы эволюционируют. Просвещение перестанет когда-нибудь быть привилегией. Но каковы бы ни были эти новые формы – знание, наука, искусство, основные задачи интеллигенции останутся всегда важнейшим из жизненных процессов отдельного человека и всей нации…
На несколько коротких мгновений застыла тишина, а потом аудитория разразилась громом аплодисментов. Тимирязева окружили. Потом расступились перед его оппонентом. Тот протянул руку Тимирязеву, развел руками, и вновь задрожала аудитория от мощных рукоплесканий.
А вскоре академия глухо заволновалась. Возмущали студентов и мелкие придирки начальства, и обыски в казенных номерах, и помощь администрации полицейским в поимках тех, кто, скрываясь от полиции, жил без прописки. В аудиториях стихийно возникали студенческие сходки. Большинство стояло на умеренных позициях, считая, что надо требовать лишь отмены мелочных регламентаций. Но группа, в которую входили Короленко, Григорьев, Вернер и их друзья, настаивала на том, чтобы подать директору заявление о сыскной роли академической инспекции.
В спорах прошли две недели. Наконец после одной особенно бурной сходки Короленко и Григорьев объявили, что в прениях больше не участвуют, составят заявление и подадут его даже за двумя подписями. Надо же сказать всю правду!
Владимир написал заявление директору и первым поставил свою подпись, а за ним к столу подошли Гаврила Жданов – земляк, ученик Авдиева, – Григорьев, братья Пругавины, уроженцы Архангельска… Вернер, собравший одиннадцать подписей, присоединил их к заявлению позднее. Всего подписалось девяносто человек…
На следующий день, 13 марта, Григорьев и Короленко, выбранные в качестве депутатов, отправились к директору.
В коридорах и аудиториях стояла тишина, хотя никто не занимался.
Королев взял листы с заявлением и подписями и стал читать со слегка пренебрежительным видом, пожимая время от времени плечами.
– Вы говорите здесь о книге для отлучек студентов, о столовой и прочем, – это может решать совет академии. Но здесь упомянуто оскорбление, якобы наносимое не отдельным лицам, а всем. Потрудитесь объяснить, что это значит.
Ответить хотел Григорьев, но Владимир опередил его.
– Мы имеем в виду, – проговорил он, – последний инцидент с попыткой задержания инспекторами студента. Это заставляет нас смотреть на канцелярию академии, как на отделение московского жандармского управления, а на представителей академической администрации, как на его послушных агентов.
Директор нахмурился и прервал Владимира:
– Вы задеваете такие мотивы, которые я с вами обсуждать не вправе. Это касается общего положения вещей…
Помолчал и сухо произнес, вставая:
– Вашему заявлению будет дан ход.
Тогда они коротко поклонились и вышли.
В академии возобновились занятия, но студенты были очень взволнованы, осторожные и трусы нападали на депутатов, говорили даже о контрзаявлении. Через несколько дней Короленко, Григорьева и Вернера вызвал к себе для объяснений специально приехавший по поводу волнений в академии товарищ министра государственных имуществ князь Ливен.
Вызовы чрезвычайно возбудили студентов. В комнате Владимира собралось множество народу. От профессоров узнали, что Ливен чуть ли не прямо с вокзала отправился совещаться с московским генерал-губернатором Долгоруковым и завтра его ждут в академии. Тут же ночью принялись срочно собирать для Владимира, весьма беспечного насчет своего костюма, приличную одежду. Принесли черную новенькую пару, рубашку с крахмальным воротничком, щегольской галстук, лакированные ботинки – все сборное. Депутаты, приехавшие к Ливену в гостиницу, не застали его и вернулись в академию. К полудню появился князь.
Депутатов пригласили в директорский кабинет, к Ливену.
Князь разразился речью.
Он командирован по высочайшему повелению. Государь очень огорчен коллективным заявлением петровцев, ибо, по уставам, студенчество не должно объединяться в корпорации, а стало быть, это заявление уже само по себе преступление. Ясно, что студенческая масса только слепо повиновалась им, депутатам, и теперь от них зависит возвращение ее на путь законности.
Князь помолчал и обратился к Григорьеву:
– Вы готовы исполнить требуемое?
Григорьев с присущими ему твердостью и хладнокровием заметил, что они трое не вожаки, а лишь выразители мнений и чувств всех своих товарищей.
– Вы тоже такого мнения, господин Короленко?
Владимир смотрел князю прямо в лицо. Собственный голос звучал незнакомо, чуждо. Да, он тоже так считает, ибо отрицать корпоративное чувство студенчества – большая ошибка. Там, где есть известная масса людей, объединенных общими интересами, идейными и бытовыми, там, несомненно, есть и корпорация. Это жизненный факт, независимо от того, признается он уставами или нет.
Ливен сделал вид, что такие речи приводят его в ужас. Повернувшись к почтительно привставшему Королеву, князь сказал:
– Если действительно таков дух, господствующий среди ваших студентов, то я уже не знаю, как осмелюсь сообщить обо всем государю… Академию останется только закрыть.
Он потребовал от всех троих слова: пока он будет беседовать со студентами, депутаты дадут ему возможность убедиться, что студенты действуют сознательно, а не по их наущению.
Ему немедленно дали честное слово. Сторож отвел их в особую комнату и остался сторожить у дверей.
– Хитрая скотина этот князь, – сказал Григорьев. – Действует умело. Набил, видно, руку на подобных делах.
Ему не успели ответить. По коридору раздались торопливые шаги, замерли у их двери, и тотчас они услышали звонкий, знакомый, взволнованный голос:
– Вы не смеете не пропустить меня: я профессор и иду к своим студентам…
Дверь распахнулась, и в комнату быстро вошел Тимирязев. Торопливо пожал всем руки, присел на край стула.
– Знаете, господа, я не могу согласиться в вашем заявлении со многим…
Они слушали его, серьезные и молчаливые. Если кто-нибудь мог поколебать их уверенность в правоте своих действий, то только профессор Тимирязев. Но в принципе он протест не осудил, значит…
Вбежал субинспектор: профессора звали на совет. Эта торопливость показывала, что Королеву уже доложили, где Тимирязев, и он тревожится. Заглушенный расстоянием, доносился к ним из директорского кабинета голос любимого профессора, но слов разобрать было невозможно.
Снова всех троих вызвали к Ливену. Он просил их продлить свое рыцарское слово до завтра и уехать в город.
Депутаты согласились. Уже к вечеру они узнали, что студенты принесли Ливену извинения в надежде, что будет смягчена участь их трех товарищей. Это предельно огорчило друзей. В полдень следующего дня они приехали к Ливену снова. Князь вкрадчиво попросил еще на сутки продлить данное ими слово. Григорьев категорически отказался.
– Если, конечно, мы не будем арестованы.
Ливена словно кольнули.
– Неужели вы думаете, что я приехал сюда с такими полицейскими мерами? Поверьте, ни о каком аресте не может быть и речи!
Через два часа они были арестованы.
А Владимир с товарищами почувствовал все же сладость моральной победы над торжествующим врагом. Князь унижался до лжи, лишь бы только выйти победителем в единоборстве с крамольными студентами.



