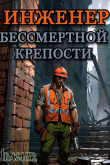Текст книги "Тайна Черной горы"
Автор книги: Георгий Свиридов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
2
– Можно, товарищ начальник?
В приоткрытую дверь показалось сначала скуластое, курносое загорелое лицо, а потом и крупный молодой рабочий в спецовке, с кепкой в руке. Казаковский узнал его. Это был токарь из ремонтно-механической мастерской, хороший специалист, передовик, и Казаковский совсем недавно вручал ему вымпел за победу в трудовом соревновании. Вот только фамилию его никак не вспомнит: то ли Селиванов, то ли Селиверстов… За спиной рабочего слышались какая-то возня и приглушенный женский голос, повторяющий: «Заходи, заходи, кому говорят!» Но токарь смущался, не зная, как себя дальше вести. На его чумазом лице было смущение и растерянность. Как ни крути, а, выходит, по своим пустяшным делам притопал в рабочее время. Но его кто-то в спину подталкивал, что-то нашептывая, приказывая.
Казаковский сквозь стекла очков посмотрел на рабочего, приветливо улыбнулся:
– Проходи, коль зашел, – и тут же добавил: – И еще, кто там с тобой, заходите сразу.
– Жена тут у меня… – начал смущенно и виновато токарь, – мы вместе. Она вот…
– И зайду! А что? И сама скажу! – в кабинет бойко вошла молодая грудастая женщина, одетая довольно прилично, в распахнутом нейлоновом плаще. – Вы что удерживаете моего мужа, а? Думаете, ежели начальник, так вам все можно? Ежели он правильный, честный работник и за себя слово сказать не может, так над ним и измываться можно, да? Но и мы сами законные порядки знаем! Все знаем!
– Ну так сразу и меня за грудки брать тоже негоже, – Казаковский показал на стулья. – Проходите, садитесь. И успокойтесь. Поговорим спокойно, как серьезные люди, без эмоций. И во всем разберемся.
Токарь, смяв сильными руками кепку, продолжая виновато улыбаться, шагнул к стулу. Но жена схватила его за рукав, удержала.
– Стой! Тут стой! – и сердито посмотрела на Казаковского. – Мы люди простые и постоять можем. Подписывайте заявление, и дело с концом!
– Какое заявление? – спросил Казаковский.
– А то, какое у вас на столе лежит вон в той папке, – она показала пальцем на синюю папку, где лежали заявления увольняющихся. – Я сама… то есть мы совместно с мужем приходили в отдел кадров, но и там самый главный товарищ положил его в папку на моих глазах. Так что не тяните резину, подписывайте. Мы свои законы знаем! Уже десять ден прошло? Прошло! Осталось совсем меньше недели, и он имеет право не выходить… Так что тут нас силком не удержите, не старайтесь! Мы по всей рабочей законности и так можем уехать. Я уже полностью рассчиталась, а мужнины документы сами пришлете, если хотите тянуть резину и разводить канцелярскую бюрократию.
– Нет, канцелярскую бюрократию разводить не будем, – в тон ей произнес Казаковский, раскрыл папку и стал перебирать заявления. – Сейчас все подпишем. Как фамилия? Кажется, Селиванов?
– Да, да, Селиванов, – обрадовано закивал стриженой головой токарь, приятно удивленный тем, что сам начальник помнит его фамилию, значит, ценит и уважает. – Дмитрий Селиванов.
– Вот, нашел, – Евгений вынул заявление Селиванова, написанное на листке в клеточку, вырванном из тетради, и прочел вслух: – Прошу меня рассчитать с работы по собственному моему желанию.
– Оно самое, его заявление, – подтвердила жена.
– Что ж, как говорят, вольному воля. Удерживать не стану, сейчас и подпишу. Конечно, скрывать не буду, жаль расставаться с хорошим работником, – Казаковский сделал ударение на словах «хороший работник». – Только ответьте мне на один вопрос. Честно и прямо.
Тут зазвонил телефон. Казаковский снял трубку, сказал: «Я занят! Позвоните попозже!» – и снова обратился к Селиванову.
– Что вас не устраивает в экспедиции? Может быть, с жильем туго?
– Не, обижаться грешно, комнату нам дали. Спасибо вам, не хуже, чем у людей. Жить можно, – ответила жена за мужа. – Мы же тоже сознательные, понимаем, что здесь не город и условия другие. Жить можно!
– Тогда что же? – допытывался Казаковский. – Может быть, заработки низкие?
– Нормальные. Зарабатываем! – сказал Селиванов и повторил слова жены. – Жить можно!
– А на кой черт нам эти рубли-десятки, скажите на милость! – запальчиво затараторила жена. – Что с ними делать, когда жизни нормальной нету здеся! У нас дети! Двое! Девочка в третьем классе учится, и сынишка в школу должон пойти. Сердце кровью обливается, когда их в автобус садим. Так почему же они через нас, родителев своих, обязаны страдать-мучаться? Почему у них нормальной учебы нету? – и шагнула к столу, полная решимости. – Вот что я вам скажу, товарищ начальник! Уважают вас, здорово уважают, потому как вы честный и справедливый, хотя и молодой. И через это терпят.
– Что? – удивился Казаковский. – Не понял.
– Терпят, говорю, – повторила Селиванова. – А вы сами посмотрите кругом себя на жизнь нашу. Нарушаете вы главные законы Конституции. Везде по всей стране нашей как? Только читаешь и по радио слышишь насчет детев. И что все само лучшее им – детям! Так и написано. А у нас, позвольте спросить прямо, так или не так? – И сама же с горечью в голосе ответила. – Конечно, не так! Даже самой захудалой школы нету. Вот надоело смотреть нам, как родные кровные детки мучаются. Поднимаем их ни свет ни заря, да скорее в автобус, трясутся-мерзнут они в нем часами, пока до районной школы доедут. Да еще питание у них через это получается сплошь ненормальное.
Одна сухомятка, бутерброды с утра до вечера, без горячей пищи. Разве то питание? От него только желудки такой ненормальной пищей можно попортить с малолетства. Потом никакими деньгами не вылечишь, – она передохнула, набралась сил. – И мы тут целый день маемся, а не работаем, сплошное переживание и трепка нервов насчет автобуса. Доехали? Не доехали? А вдруг авария какая, пьяных водителей за рулем, энтих лихачей, на той дороге ой сколько! Так что терпению нашему конец пришел. Поскольку мы с мужем прямые ответственные за своих детей и если мы о них не позаботимся, никто не позаботится, поскольку они родные наши и кровные, – она перевела дух, горестно вздохнула и закончила: – Вот так, товарищ начальник, и выходит, что уезжаем по собственному своему родительскому желанию.
Казаковский слушал ее, не перебивая, понимая своим сердцем ее ежедневные материнские переживания. И думал, что так, или примерно так, ему ответят и другие подающие заявления об уходе. А удержать людей надо. Они уже привыкли к таежной жизни. За плечами у каждого не один год работы, накопился и личный опыт. На таких только и можно положиться, довериться. И Казаковский сказал вслух то, о чем лишь пока думал, пытаясь найти решение:
– А если в поселке будет своя школа, останетесь?
Муж обрадованно посмотрел на свою жену, как бы говоря: вот видишь, а мы торопились… Но жена только усмехнулась краешками губ, мол, знаем мы эти красивые сказки-обещания, и ответила и мужу и начальнику:
– И-и когда ж это она будет, Евгений Александрович? – женщина тяжело вздохнула, своим протяжным «и-и», всем своим видом, показывая, что она нисколько не верит словам начальника экспедиции.
– Скоро, – сказал Казаковский, задетый ее недоверием.
– Как скоро? Да откуда она возьмется? Что ли с неба та школа к нам в поселок свалится? – она открыто обиделась. – Мы к вам с откровением чистосердечным, по-человечески, а вы что?.. Не надо так с нами, Евгений Александрович. Не надо… Хоть мы и простые люди, а все же понятие имеем. Школу-то вот так просто не заведешь. Ее-то построить сначала надо, да потом учителей пригласить, а для них опять же дома под жилплощадь срубить нужно… Так что ваше скоро, Евгений Александрович, годами не обернется. Годами! А нам щчас надо, понимаете, Евгений Александрович, щчас, поскольку дети малые того требуют. Мы-то и подождать могли бы, а они – нет!
Казаковский выдержал паузу. Он не стал вступать в пререкания с раздраженной женщиной и доказывать, что не зря произнес слово «скоро». Оно не случайно сорвалось у него с языка.
Встреча с семьей Селивановых лишь подтвердила то, о чем он думал. Проблему школы нужно решать, решать сегодня, не откладывая на завтра. Он не знал, как ее решить, но знал, чувствовал одно – надо. И он только спросил, обращаясь к ним обоим:
– А повременить с увольнением можете?
– Повременить-то можно. Да что это даст? – в свою очередь спросил Селиванов, спросил недоверчиво и даже слегка насмешливо, как бы говоря, что, мол, не надо нас принимать за круглых дураков.
– Многое, – ответил ему Казаковский, пропуская мимо ушей его недоверчивый и насмешливый тон. – И еще раз спрашиваю: повременить можете?
– А нам и по закону еще тута трубить, – сказал Селивнов и решительно потянул жену за рукав. – Пошли.
– А потом мы так и так на полном основании законов уедем отсюдова, – выпалила уже в дверях жена.
После их ухода, Казаковский раскрыл папку, ту самую злополучную синюю папку с заявлениями об уходе. Полистал те заявления. Они ничего не говорили. Написанные разными почерками, крупными и мелкими, размашистыми и аккуратными, на разных листках бумаги, чернилами и карандашами, все они, как бы написанные под диктовку, имели одно содержание: «прошу… по собственному…» Увольнялись, уезжали кадровые рабочие, специалисты, люди семейные. Даже высокие заработки их не удерживали.
Казаковский вызвал кадровика и поручил ему срочно определить наличие в поселке детей школьного возраста. Тот, к удивлению Евгения, вернулся буквально через пару минут.
– У меня они давно на учете, – сказал Павел Иванович, подавая списки юных жителей Солнечного. – Школьников, особенно младших классов, у нас насчитывается более полусотни, а точнее, шестьдесят четыре человека. Здесь они по алфавиту. А в этом списке – по возрасту, по годам рождения все дети поселка, включая и будущих школьников.
Павел Иванович поправил на носу пенсне и вынул из своей папки еще одну бумагу, положил ее рядом с теми двумя.
– Тут я и списочек родителей тех детей подготовил, так сказать, возможных кандидатов, – он сделал выразительную паузу, не произнес «на увольнение», но было и так понятно, о каких кандидатах идет речь.
Кадровик знал, о чем говорил.
Евгений внимательно посмотрел на него, на его спокойное, ничего не выражающее сухощавое лицо исполнительного человека. «Да, дельный у нас кадровик, – подумал Казаковский, – ничего плохого о нем не скажешь». И еще подумал о том, что у Павла Ивановича, такого аккуратненького и тихого интеллигентного служащего, наверняка в папках хранятся расписанные по разным бумагам данные на всех жителей поселка. Попроси любые сведения, тут же он их выдаст. Одним словом, опытный и дельный кадровик. И сам себя спросил: а как же еще ему работать? На то он, Павел Иванович, и поставлен начальником отдела кадров. А кадры эти самые в геологоразведочной экспедиции весьма пестрые. Состоят они не только из одних квалифицированных да положительных. Есть и другая категория лиц, да притом весьма многочисленная. И уголовники разных мастей, отбывшие свои сроки наказания, и опустившиеся люди, и бывшие предатели, власовцы, самовольно перешедшие на сторону врага, бывшие прислужники оккупантов, каратели, полицаи да старосты. Даже есть в поселке четыре немца, эсэсовца, отбывших свой срок наказания. Пестрая публика, с какой стороны на нее ни посмотри. И на этом фоне, конечно, ценен каждый порядочный человек, квалифицированный специалист.
– Давайте ваш списочек.
Казаковский взял бумагу, пробежал глазами фамилии. Они не были для него пустыми. За каждой фамилией стоял человек, и Казаковский большинство из них знал лично. Хвалил за хорошую работу, награждал грамотой, вручал премию, укреплял на станке вымпел передовика… Многим помогал обустраиваться, выписывал лес, стройматериалы, передавал ключи от комнаты, от квартиры… И шофера Степаныча, ветерана экспедиции. И ставшего начальником штольни Шумакова, зарезавшего первую штольню. Нет, такими кадрами не бросаются, их на улице с огнем не сыщешь. И маркшейдер Петряк, хозяин подземных границ, в списке?
– А у Петряка сколько? – спросил Казаковский, хотя мог об этом узнать из другого списка.
– Двое, обе девчонки, – ответил Павел Иванович. – Первый и третий класс.
Маркшейдер, работающий на месторождении, должен быть специалистом весьма широкого профиля. Ему приходится выполнять обязанности и геолога, и горняка, и, кроме того, геодезиста, картографа, чертежника, топографа. Вкратце суть его работы можно определить так: маркшейдер довершает дело геолога и проектировщика – «выносит в натуру» из проекта, из плана, определяя реальные размеры, или, как говорят, параметры рудного тела, определяя контур его, мощность, объемы добычи. Подземные измерения маркшейдер проделывает, не спускаясь под землю, а сверху, как говорят геологи, с борта, пользуясь теодолитом, рейкой, нивелиром, тахеометром, рулеткой и, разумеется, с помощью геометрии, тригонометрии, математических формул. Чистейшая пространственная математика!
Маркшейдер – это прежде всего активный посредник между «бумагой» и «натурой», между изыскателями, которые изучали данную площадь, и горняками, которые пришли пробиваться к руде. Профессия важная, называется она гордо – подземный штурман, или, говоря не по-русски, маркшейдер. В переводе с немецкого звучит проще: «Ищи границу!» Ищи не просто границу, а подземную. Точно определяй, где под землей залегает касситерит, а где – пустая порода. Знай границы горизонтов и продуктивность рудного тела, умей ориентироваться, «плыть» в подземном хозяйстве своего рудного тела так уверенно, как если бы перед тобой текла спокойная река со всеми опознавательными и предупредительными знаками, а не закрытые толщей земли богатые недра и – молчаливая карта…
– А жена его там же работает? – поинтересовался Казаковский, вспоминая веселую, чернобровую и голосистую украинку.
– Там же, в техническом отделе.
– Дети ездят в школу?
– Ездят. – В Солнечном говорили не «ходят в школу», а «ездят».
Своей школы не было, вот и приходилось возить детей на автобусе в далекий райцентр. Зимой еще так-сяк, а весной и осенью в распутицу – сплошные мучения, каждая поездка затягивалась на долгие часы. Мучались дети, мучались родители. Они не работали, а, по сути, только и занимались своими детьми – то отправляли их в школу, то, нервничая, ждали старенький автобус со школьниками. Да и на успеваемости детей ежедневные поездки отражались самым непосредственным образом и, естественно, не в лучшую сторону.
В небольшом поселке все люди живут друг у друга на виду. И Казаковский не раз видел, как маялись малыши в автобусе, как их родители – рабочие и работницы экспедиции – не находили себе места, когда, возвращаясь с работы, не обнаруживали возле клуба знакомого старенького голубого автобуса: их дети еще тряслись по ухабам где-то в пути…
Но на неоднократные запросы и просьбы открыть свою школу, Казаковский получал один и тот же стандартный ответ: поселок временный, школа не положена…
Кадровик сидел молча, недоуменно поглядывая на начальника. Он не мог понять, зачем же понадобилось Казаковскому затевать весь этот разговор. Он знал, что у начальника побывал токарь Селиванов. И если человек надумал увольняться, то все равно уволится, и одна неделя, в сущности, никакой роли не играет. Тем более что за неделю этой самой злополучной школы не построишь.
Казаковский сосредоточенно смотрел на список будущих кандидатов на увольнение, постукивая пальцем по столу. Лакированная поверхность стола отражала манжеты его рубахи, и, казалось, белые голуби порхали над темной зеркальной гладью.
– Павел Иванович, попрошу вас поднять личные дела сотрудников и выявить людей, имеющих педагогическое образование, – распорядился Казаковский, уже внутренне настроившийся на свой обычный боевой лад. – Когда вы сможете доложить?
Что такие учительские кадры имелись в экспедиции, Казаковский не сомневался, поскольку самому приходилось не раз принимать участие в устройстве на работу не по профилю, главным образом жен прибывающих по направлениям специалистов. Знал и то, что многие педагоги давно работали на разных участках, в лучшем случае – в технической библиотеке или лаборатории, в худшем – разнорабочими по последнему разряду.
– Евгений Александрович, я мигом, только взять сведения, – кадровик еще не понимал, куда метит Казаковский, но был рад тому, что задание начальника может выполнить быстро. – У меня, у нас, то есть, всё как положено, картотека и все сведения по полочкам и графам на каждого человека. А на тех, особенно которые работают не по своему профилю и не по специальности, у нас отдельный учет ведется.
3
Юрий Бакунин устало оперся плечом о косяк широких дверей и красными от недосыпания глазами смотрел на вращающиеся секции бурового станка. Темная труба, схваченная зажимами, стремительно крутилась и, казалось, ни на миллиметр не двигалась в глубь земли, туда, где глубоко внутри горы буровой инструмент прогрызал стальными зубами твердую гранитную породу. Основание буровой тихо и монотонно подрагивало в такт работы механизмов, как бы убаюкивая своим однообразием. Басовитый однообразный рокот бурового станка сливался с натужным гудением дизеля, создавая привычный рабочий гул буровой, эту бесконечную песню железных друзей человека.
Пошли третьи сутки, как Юрий не покидал буровую. Хотелось самому пройти последние подземные метры, первым взглянуть на вынутую из нутра пробу. Что там? А вдруг блеснут густой чернотой зерна долгожданного касситерита? Верилось и не верилось. Должно же когда-нибудь такое случиться. Обязательно должно. Надежда, вечно живая надежда, цепко держала его на этом давно всеми отвергнутом клочке горной земли, вернее, крутом склоне горы, негусто поросшем вечнозелеными хвойными таежными деревьями.
Юрий отвел взгляд от бурового станка и посмотрел в дверной проем на противоположную округлую вершину, которая вздымалась на той стороне неширокой долины. Деревья на ней отчетливо темнели на светлой голубизне неба и чем-то напоминали ему редкую щетину на небритом подбородке. Грустно усмехнувшись, Юрий медленно вынул руки из рукавицы и тыльной стороной провел по своей щеке и подбородку, ощущая колкую щетину. В свои двадцать четыре года он брился через день, через два. А тут, когда пошла сплошная запарка по пробурке последних метров, некогда было думать о наведении красоты лица. Да что там бритье, просто поесть некогда – питались здесь же, не покидая буровой, перехватывая на ходу, чтобы хоть как-то заморить червячка.
Юрий снова посмотрел на приборы, на дрожащую стрелку, показывающую глубину. Она едва-едва перевалила за отметку двести девяносто… Еще чуть-чуть, хотя бы пару метров, и пора останавливать бурение, начинать подъем труб и выбивать из последней секции керн – долгожданную пробу, добытую в скалистом теле горы.
Ноги не слушались, они стали предательски вялыми, какими-то ватными. А веки наливались свинцом и сами опускались на глаза. Юрий с большим усилием раздвигал слипшиеся, сцепившиеся ресницами веки, открывал глаза и заставлял себя смотреть на гудящий станок, на приборы. Своего помощника, старшего геолога, три часа назад он с трудом отослал в крохотный сборно-разборный домишко, и Петро Селезнев, закутавшись в спальном мешке, сейчас смотрит какой-нибудь сладкий сон про свои теплые и щедрые донецкие края. Ему почему-то часто снятся сны про южную угольную родину, откуда он прибыл сюда, в Мяочан, два года назад, всего на неделю раньше Юрия. А Бакунину почему-то никогда не снятся сны про его родные и такие далекие волжские края, про шумный и степенный старый русский город Саратов, про который сложено много ласковых песен…
После широкой и степенной красавицы Волги, такой привычной и ему родной с детства, Бакунин был приятно удивлен и покорен суровой величавостью могучего Амура. Сибирская река приглянулась ему с первого взгляда, покорив сердце коренного волжанина. А вот знаменитый и прославленный молодежный город на Амуре, о котором пришлось ему столько читать и слышать, несколько разочаровал Юрия. Крупное здание вокзала, сложенное из почерневших бревен, как-то не очень впечатляло, хотя выглядело необычно. Ему, зданию, явно недоставало того величия, которое полагалось. Даже не верилось, что это и есть железнодорожный вокзал знаменитого Комсомольска-на-Амуре. Для вещей убедительности Юрий еще раз прочитал название города, прикрепленное крупными буквами к фасаду деревянного вокзала. Нет, ошибки не было.
Потоптавшись на перроне, Бакунин привычно забросил за спину увесистый рюкзак и, подхватив потертый фибровый чемодан, вместе с пассажирами вышел через вокзал на площадь. Она была просторной, не такой, как в Саратове. На площадь вкатился трамвай в два вагона. Дребезжа стеклами и громко названивая, с некогда ярко-красной, а теперь убого рыжей полосой по бокам вагонов, трамвай не спеша разворачивался на своем конечном кругу. К остановке торопились приехавшие и встречавшие.
Юрий, поставив у ног чемодан и не снимая рюкзака, прислонился к почерневшим от времени бревнам стены вокзала. День давно набрал силу, и дальневосточное солнце нещадно палило с высоты. Теплынь стояла настоящая, летняя. На небе ни облачка. От разогретого асфальта площади, от деревянной стены источалась привычная знойная сухость воздуха. Прикрыв глаза ладонью, словно козырьком, Юрий огляделся по сторонам. Даже не верилось, что он отмахал столько тысяч километров, пересек чуть ли не всю страну и стоит сейчас на привокзальной площади знаменитого Комсомольска. Щемящее чувство какой-то неудовлетворенности, возникшее на перроне, не покидало его. Город не производил должного впечатления. Приземистые одноэтажные бревенчатые домишки, сараи, складские помещения, двухэтажные бараки, покосившиеся заборы… И пустырь. Огромный пустырь, густо поросший сорной травой, из которой то там то здесь торчали брошенные какие-то механизмы, сплошь покрытые ржавчиной. А за пустырем, вдали, вырисовывались контуры кирпичных зданий, заводские корпуса, трубы, торчавшие в небо столбами, из которых густо поднимался темный дым… Центр города, наверное, где-то там, решил он.
Нигде и ничего не напоминало ему, что он находится на суровом Дальнем Востоке. Лето как лето. Пустырь как пустырь, такие можно встретить в своем краю, теперь уже таком далеком. Вспомнив напутствия матери, он улыбнулся. Мама, засовывая в чемодан еще две пары шерстяных носков, говорила: «Ты, сынок, если что, если холода сплошные, особенно не раздумывай. Возвращайся назад. Как-нибудь проживем». А чего возвращаться, когда и тут вроде бы обстановка нормальная.
Пока он стоял и осматривался, трамвай тронулся, увозя пассажиров. Укатили и несколько легковых машин. Площадь как-то враз опустела. В первое мгновение Бакунин хотел было броситься за трамваем вдогонку, но тут же раздумал. Куда спешить? Торопиться ему вроде и некуда. Уедет со следующим трамваем, ничего тут страшного. Надо вот сначала разыскать справочную и узнать, где здесь находится контора экспедиции и на каком номере трамвая до нее удобнее уехать. Сама экспедиция, он знал, базируется в районе, где-то поблизости, в полутора километрах от города, на самом месторождении, там и поселок, который называется Солнечным.
Пока он стоял и размышлял, на площадь вкатила изрядно запыленная «Победа» с таксистскими знакомыми черно-белыми квадратиками на кузове. Юрий поднял руку. А что? Можно и прокатиться. Все ж таки он теперь не студент, а дипломированный специалист. Всего каких-то пятьдесят километров. Даже если в оба конца заплатить, и то не так дорого обойдется.
Негромко скрипнув тормозами, машина остановилась рядом. Бакунин, подхватив чемодан, направился к «Победе». Таксист, мужчина лет тридцати, в лихо сдвинутом набекрень картузе, помог уложить чемодан и рюкзак в багажник.
– Жарища нынче, как в Ташкенте, не меньше, – весело говорил он. – Пока едешь, еще ничего, а встанешь, ну нет спасу.
Он включил скорость, и «Победа» развернулась на площади.
– Куда? – не поворачивая головы, привычно спросил таксист.
Юрий привалился к мягкой обивке сиденья, ощущал спиной нагретый солнцем кожезаменитель.
– В Солнечный.
– Куда, куда? – удивленно переспросил водитель, поворачиваясь к Бакунину.
– В Солнечный, – как ни в чем не бывало повторил Юрий, не замечая странного удивления в голосе таксиста.
В следующую минуту, к удивлению Бакунина, «Победа», сделав «круг почета» по площади, резко затормозила на том же месте, где он сел в нее.
– Слазь! – таксист сам протянул руку и распахнул дверцу.
– Ты что? – теперь в свою очередь удивился Бакунин. – Я ж не даром! И в оба конца плачу, если так у вас принято.
– Вылазь! – повторил таксист, хмурясь. – Нечего мне мозги пудрить, – и добавил, злясь: – Это всего-навсего легковушка, а не трактор! Не видишь, что ли?
– А при чем тут трактор?
– Да при том самом! В твой Солнечный и на тракторе не во всякую погоду доберешься, а ты на такси захотел!
– Да ну? – удивленно воскликнул Юрий.
– Вот тебе и «ну»!
– А мне говорили в Хабаровске, что он где-то рядом с городом, каких-то полсотни километров, – растерянно произнес Бакунин.
– Полсотни! Это верно. Но каких? Тайга и горы. Сплошное бездорожье. Строитель небось? По комсомольской путевке?
– Не, по распределению. Геологический техникум кончил, – ответил с достоинством Юрий. – Вот и приехал.
– А-а-а, – понимающе протянул таксист, уважительно глядя на Бакунина. – А я думал, ты того, разыгрываешь… Нарочно, что ли?
– Мне как раз туда и нужно. В Солнечный. Могу документы показать, – оживился Юрий, не теряя вспыхнувшей надежды.
– Не нужны мне твои документы, и так сам вижу. Что ж мне с тобой делать, а? – рассуждал вслух таксист. – Погоди, парень. Вспомнил! Кажется, в Старте, поселок такой тут неподалеку, склады ваши. Геологов то есть. Склады или там база, точно не знаю. Избушка есть, переночевать можно. А там глядишь, какая-нибудь оказия тебе подвернется, трактора в Солнечный с грузами пойдут, – и добавил: – До того Старта могу довезти. Ну как, согласен?
– Давай хоть до Старта, – ответил Бакунин, припоминая, что в управлении, еще в Хабаровске, он не раз слышал про поселок со спортивным названием Старт.
Таксист оказался прав. В этом Юрий убедился, пока они добирались по пыльной и очень плохой дороге до Старта. С большими трудностями, но «Победа» все же прикатила в полупустой поселок, заброшенный в тайге, со старыми, уже давно пришедшими в ветхость угрюмыми строениями.
В свое время Старт сыграл свою немалую роль в строительстве самого Комсомольска. Возникший в начале тридцатых годов, этот небольшой поселок был задуман как окончание будущей Байкало-Амурской магистрали, или же как плацдарм для строительства железной дороги в западном направлении. Отсюда и такое звучное название. Но великая война спутала все мирные планы. Строительство магистрали отложили, отодвинули в неясное будущее время. Жители постепенно покидали поселок, и он хирел и тихо умирал, окруженный буйной тайгой. Новую жизнь вдохнули в него геологи, недавно открывшие в недрах Мяочана крупное месторождение касситерита. Поселок стал перевалочной базой, опорным пунктом при штурме недр Мяочана. А заодно и своеобразным стартовым трамплином в судьбах многих людей, особенно молодых, которые именно отсюда и стартовали в свою трудовую жизнь. И Юрий Бакунин был в их числе.
Только на четвертый день, к вечеру, молодой геолог добрался до Солнечного. Полсотни километров, которые отделяли Комсомольск от таежного поселка геологов, были отгорожены горами, изрезаны неглубокими, но напористыми горными реками с непривычными для его слуха названиями – Силинка, Циркуль, – да отсечены труднопроходимыми болотами, кочковатыми марями и окружены глухой темной тайгой, подступающей прямо к самой дороге, похожей на широкую звериную тропу.
Два трактора, натужно урча, то и дело останавливаясь, из последних своих сил тянули волокушу на полозьях, в которой громоздилось оборудование для геологоразведочной экспедиции, и небольшой прицеп на колесах, в кузове которого устроились несколько молодых парней, студентов-практикантов, и женщин с узлами и чемоданами. Юрий догадался, что это жены геологов, решившиеся проведать своих мужей.
Двигаться такой черепашьей скоростью в прицепе было и утомительно скучно, и довольно тряско. И Бакунин, когда одолели очередное болото, оставив в кузове чемодан и рюкзак, выпрыгнул за борт, чтобы немного размяться, пройтись пешком. Настроение у него было хорошее. Трактора медленно ползли на перевал. Опережая машины, Юрий первым добрался на вершину и остановился, Перед ним открывался великолепный вид на суровый Мяочан. В белесой дымке голубели пологие горбины сопок. Кое-где над ними вздымались более высокие горные пики, вершины которых белели снежным покровом. Юрий, никогда еще не видевший гор, с восхищением смотрел на горные массивы. На душе было легко и свободно. Жизнь открывала перед ним свои просторы, такие же величественные, как хребты Мяочана. Юрий смотрел на них и не мог насмотреться, и невольно про себя повторял знаменитые слова поэта Маяковского, которые учил еще в школе: «Твори, выдумывай, пробуй!» Прославленный поэт как бы непосредственно обращался к нему, к Бакунину, напутствуя в самостоятельную трудовую жизнь. И ему в эти минуты все казалось возможным и доступным. Только стремись, только старайся. Сил много. Молодой, крепкотелый, здоровый. Все части целы, не ломаные, не штопанные, все гаечки на месте, плотно пригнаны. Ничего не скрипит, не болтается. Любая трудность, любая перегрузка – нипочем. Поел, отоспался – и снова свеженький, как заправленная машина, к любому рейсу готовая.
А просторы Мяочана звали и манили к себе. Неприступные и безмолвные. Кого-нибудь они, возможно, и пугали. А он, Юрий, не боялся опасностей, он любил риск. Пусть горы неприступны, пусть веками хранили свои тайны. Но нет секретов, которые не могли бы разгадать люди. Работать, конечно, придется много, пройдут годы труда и поиска, но горы все же раскроют свои кладовые, и эти немые суровые просторы заговорят языком геологических карт, языком цифр, графиков, развернутых таблиц, цветных вкладышей и диаграмм.
– Эй, парень! Оглох, что ли?
Смуглая круглолицая молодуха, словно крючком, зацепила Юрия своими темными, как спелые вишни, глазами, весело сверкавшими из-под надвинутого платка, и теперь, когда он обратил на нее внимание, цепко удерживала его, словно привязывала к себе, не вырвешься.
Юрию она показалась чем-то похожей на его Алину, на родную Алинку, у которой они перед самым его отъездом сюда, на Дальний Восток, договорились на веки вечные связать свои судьбы на всю дальнейшую жизнь, стать мужем и женой. Алинка, он знал твердо, ждет не дождется от него весточки, сигнальной телеграммы, чтобы тут же двинуться следом, прибыть в Солнечный. Они так договорились, дав друг другу слово, скрепив свой договор долгим поцелуем. Юрий и сейчас тихо улыбнулся, радостно так улыбнулся, вспомнив их прощальный вечер и тот ее долгий поцелуй. И вслух, в свою очередь, спросил, не сводя своих глаз с бойкой молодухи: