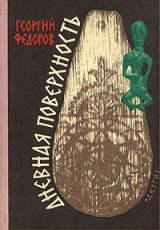
Текст книги "Дневная поверхность"
Автор книги: Георгий Фёдоров
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
ТОГРУЛ
Время от времени Кремнев посылал меня в город за материалами. Путь был нелёгкий. Однажды, во время такой поездки, в ожидании транспорта для отправки в экспедицию, я застрял в городе на целый день.
Получив и упаковав все материалы, я пошёл побродить по рынку. Жара была такая, что даже неугомонный базар замер. На блеклом от зноя небе – ни облачка. Раскалённые глыбы плотного, пахучего воздуха неподвижно нависли над рынком. Спрятаться некуда. Палящие лучи выжгли пот, лицо горит, а рубашка затвердела, как панцирь. Каждая ворсинка на ней окаменела, и от этого все тело покалывает, словно в него воткнули тысячи маленьких булавок. Нет сил двигаться. За длинными зелёными прилавками дремлют полнотелые туркменские продавщицы в ярких халатах, склонив высокие красные тюрбаны, покрытые медными украшениями, на груды лука, редиски, дынь и другой снеди. У ног их, свернувшись калачиками, застыли оборванные, взлохмаченные юные базарные воришки. Идиллическая картина всеобщего мира перед лицом стихийного бедствия!
Уронив голову на баранку, полулежит на жёстком сиденье «виллиса», не то заснув, не то потеряв сознание, какой–то лейтенант. Устав, я присел на камень под навесом у чайханы. Это – единственное место, где была тень и чувствовалось какое–то движение. Из открытой двери чайханы валил пар. Когда он немного рассеивался, видны были десятки сидящих на циновках расплывшихся фигур. В большинстве это были совсем ещё молодые ребята, из тех, что ходят в шинелях и мечтают об оружии и конях – сражаться с фашистами и вообще прославиться, как полагается джигиту. Но срок им ещё не вышел, и, по местным обычаям, они коротают свободное время в чайхане. Сняв громадные бараньи шапки и оставшись в одних чёрных тюбетейках, до одури наливаются они крепким зёленым чаем.
Окна чайханы потные, как в бане, а у двери, прислонившись к косяку, стоит громадный швейцар с равнодушным толстым лицом.
Прямо напротив чайханы, слегка облокотившись на прилавок, неподвижно стоит высокий молодой туркмен в малиновом шёлковом халате, туго перехваченном в талии тонким ременным пояском.
Под громадной, ослепительно белой папахой, словно выточенное из яшмы, строгое, неподвижное лицо, отделённое от папахи узкой полоской чёрных, гладких волос. Глаза туркмена закрыты, и только продолговатые веки с длинными, как у женщины, ресницами время от времени вздрагивают. Обманчиво его спокойствие.
Я знаю его. Это Ахмет, племянник нашего Берды и младший брат чабана Байрама, недавно погибшего на фронте. Вместе с извещением о смерти семья его получила в красной коробочке орден Отечественной войны II степени, которым был награждён Байрам. Ахмет взял орден себе и носит его под халатом, прикрепив прямо к нательной рубахе. Древний закон предков велит мстить за брата, за его кровь. Честолюбие и жажда мести, ещё не утолённые, горькое сознание невозможности этой мести наполняют молодого туркмена. Из–за молодости его не берут в армию, и это кажется ему страшной несправедливостью, обидой и позором.
Всеобщее оцепенение.
Но вот из–за полуразрушенной глинобитной ограды показался всадник в белой милицейской форме. Милиционер ехал по–кавалерийски, свечкой вытянувшись в седле и держа слегка на весу подрагивающие локти. Это был постовой с холмов, давнишний тамбовский переселенец Токарев. Ни всадник, ни конь, словно не чувствовали жары. Веснушчатое, круглое лицо Токарева, как обычно, расплылось широкой, немного глуповатой улыбкой, а ясные синие глаза смотрели приветливо и с хитрецой. Конь дробно перебирал стройными, тонкими ногами в высоких белых чулочках, косил то в одну, то в другую сторону влажные блестящие агатовые глаза, мощные мышцы его играли под тонкой, лоснящейся кожей.
Это был Тогрул, настоящий ахалтекинский жеребец чистых кровей, каких и в самой Туркмении не так много. Поджарый вороной красавец, с длинной изящно изогнутой шеей, с дымчатым хвостом и такой же дымчатой неподстриженной гривой. Тогрул родился на госзаводе колченогим. Его выбраковали и должны были уничтожить, но Токарев выпросил жеребенка себе, вынянчил и вылечил на диво, какими–то только одному ему – прирождённому коновалу – известными средствами.
У чайханы Токарев спешился, с хозяйственной заботливостью сорокалетнего холостяка отвел коня под навес в тень, похлопал его по крутой шее и набросил повод на вбитый в стену костыль. Безмятежно сдвинув на бритый, розовый затылок форменную фуражку, он вошёл в чайхану.
Приезд его немного развлек меня, но жара снова взяла своё, и я опять было погрузился в дрёму, да вдруг что–то мягко шлёпнуло меня по лицу, и я услышал резкий, пронзительный свист.
Я вскочил, и словно видение промелькнуло предо мной: молодой туркмен с развевающимися полами малинового халата, без шапки, валявшейся у моих ног, с пьяными от счастья глазами, верхом на вздыбленном Тогруле.
Конь легко перемахнул через прилавок с заснувшими продавщицами и, широко развевая дымчатый пушистый хвост, понёсся по широкой улице прямо в пески Каракумов.
Токарев, словно большой белый шар, выкатился на крыльцо чайханы, сплюнул перед собой, сделал ещё шаг вперёд и остановился, как будто раздумывал. Через секунду он досадливо махнул рукой, пробормотал какое–то ругательство и с неожиданной быстротой, вперевалку побежал к «виллису», хлопнул по плечу недоуменно озирающегося, неочухавшегося ещё лейтенанта и что–то тихо сказал ему. Лейтенант кивнул головой и нажал стартер. Токарев махнул мне рукой и закричал:
– А ну, помогай!
Я побежал и едва успел перевалиться через борт рванувшейся вперёд машины. Сзади, вслед нам послышались чьи–то насмешливые и злобные крики, но оглядываться было некогда. «Виллис», набирая скорость и подпрыгивая на взбугренной жарой дороге, вылетел в песчаный океан Каракумов.
На спёкшемся солончаковом, твёрдом покрове песка ясно отпечатывались следы копыт. Лейтенант дал полный газ, и машина, вздрогнув и заревев, рванулась впёред. Горячий воздух бил в лицо, машину бросало из стороны в сторону, а мы только старались удержаться, хватаясь за жёсткие, раскалённые борта.
Вдруг Токарев тонким голосом закричал:
– Вот он!
Далеко впереди на ровном, ослепительно жёлтом песчаном ноле чётко выделялся всадник. Вскоре уже хорошо стал виден длинный круп, вспыхивающие на солнце подковы и малиновый халат всадника, припавшего к шее коня.
– Стреляй! – Хрипло закричал лейтенант, дрожа от возбуждения. – Стреляй, чёрт тебя побери!
Милиционер только досадливо махнул головой, не отвечая, и, приподнявшись с сиденья, не отрываясь, смотрел за всадником.
Вдруг частые, сильные удары забили в ветровое стекло, и я увидел быстро приближающуюся к нам вихревую чёрную стену, которая закрыла полнеба.
– Афганец! – Испуганно воскликнул лейтенант и пригнулся к рулю.
А Токарев, вытянувшись во весь рост и размахивая руками, не своим голосом завопил:
– Заворачивай, заворачивай! Клади коня! – Но, сбитый порывом ветра, тяжело упал на дно машины и закашлялся, выплёвывая комки крупного, похрустывающего песка.
Ураган из Афганистана, подняв тучи раскалённого песка и пыли, бушевал вовсю по туркменской равнине. Дикий вой раздавался вокруг, видимость уменьшалась с каждой секундой, чёрная стена закрывшего солнце песка падала на нас. Побледневший лейтенант круто развернул машину назад, но песок и ветер били её по бортам, мотор дрожал и потрескивал, колеса буксовали, и мы еле двигались,
– Не успеем, дурак! – Закричал Токарев. – Давай за бархан!
Лейтенант поднял на него красные, забитые песком, невидящие глаза. Токарев перегнулся через сиденье, схватился за баранку и повернул вбок за громадный, ребристый бархан. Там ветер был тише. Мы вылезли из «Виллиса», повернули машину и на корточках забрались под неё. Больше часа бушевал афганец. Он дико завывал и обрушивал на машину груды песка. Потом вдруг сразу все стихло. Неожиданно стало очень холодно. Отплёвываясь и протирая глаза, мы откопались, вылезли, с трудом снова повернули машину.
Вокруг, как и час назад, был полный покой. На небе ни облачка, в воздухе ни песчинки. Только на горизонте громадное красное полушарие заходящего солнца. В его огненных лучах чётко выделялись два стройных силуэта: коня и стоящего рядом человека.
Мы подъехали, вылезли из машины и молча подошли к ним. Ахмет стоял неподвижно, опустив голову, с безжизненно висящими вдоль тела руками, и пристально смотрел прямо перед собой на окровавленный закатом песок.
Конь, не отрывая ног от земли, весь дрожал мелкой, прерывистой дрожью. В глубине обеих глазниц его, начисто вылизанных ураганом, запеклась чёрная, перемешанная с песком кровь. Глаза вытекли. Тогрул ослеп навсегда.
Токарев подошёл к коню, который, почуяв хозяина, потянулся к нему мордой и заржал. Токарев, кривясь, дрожащими толстыми пальцами достал из кобуры наган. Он вложил его в ухо коню и быстро нажал курок. Глухой звук выстрела… Тогрул повалился на песок, повел тонкими ногами в нарядных белых чулочках и замер.
Токарев подошёл к туркмену, положил ему руку на плечо и сказал тихо – не то брезгливо, не то с жалостью:
– Эх ты, басмач! Загубил коня!
Ахмет поднял на него потухшие грифельные глаза и вдруг, рванув отворот шёлкового халата, длинными пальцами обеих рук вцепился самому себе в горло.
Мы посадили его в машину и поехали в город.
ПИОНЕРЫ ПУСТЫНИ
Не помню, как я вернулся в экспедицию. Наверное, мне было очень плохо последующие два дня, потому что я не выходил из землянки и пил гораздо больше воды, чем полагается пить в Каракумах. Когда я все же вышел, то не мог без ненависти смотреть на звериный лик пустыни, которая как раз в это утро притворялась спокойной, ясной, нежаркой.
– Вы, Георгий Борисович, вот что… – сказал мне Кремнев. – Тут у нас пару дней Иван Михайлович побудет, так вы с ним походите по пустыне вокруг городища.
– Как это – походить по пустыне? – Спросил я. – Зачем?
– А вот так и походите, – не допускающим возражений тоном сказал Кремнев. – Посмотрите – может, вокруг что–нибудь найдется: сооружения или ещё что–нибудь.
– Хорошо, – ответил я, с трудом сдерживая закипавшую злость и желание поспорить.
Мы с Иваном Михайловичем пересекли такыр и вышли наверх из такырной котловины. Наискосок стояла высокая, метров в восемь, барханная цепь. Это барханы слились друг с другом. За первой цепью – вторая, за ней – третья и четвёртая. Цепи были длинные, концов не видно. Между цепями узкие котловины. Иван Михайлович обратил моё внимание на то, что склоны цепей неравномерны. Наветренный склон пологий, подветренный – крутой. По пологому склону песчинки, гонимые ветром, вкатываются на острый гребень и падают вниз по крутому подветренному склону. В результате барханная цепь движется. За год она дважды меняет направление – в зависимости от ветра. Летом, когда дуют северный и северо–западный ветры, цепь перекатывается на юг или юго–восток; зимой, когда преобладает юго–восточный ветер, – на север и северо–запад. Медленно наступает цепь. За год она проходит в одном направлении не более двадцати метров. Но зато движение это неотвратимо. Все, что попадает под наступающие барханы, через два–три дня оказывается закопанным многометровой толщей песка.
Я слушал безучастно, стоя на гребне наступающей барханной цепи и глядя, как коварные струйки песка плавно стекают вниз по крутому склону. Но постепенно во мне закипало возмущение.
– Проклятая, жадная, мёртвая пустыня. Здесь все мертво. Всё здесь обречено на смерть, – пробормотал я.
Иван Михайлович внимательно посмотрел на меня, потянул своим утиным носом и сказал:
– Нет, не всё. Здесь идёт борьба жизни и смерти.
– Ну да, какая же борьба? – С горькой иронией ответил я. – Это наши потуги, что ли? Так это все пустое. Может быть, когда техника невероятно разовьётся, удастся и тут что–нибудь сделать. А пока что – ерунда.
– Я не о том, – задумчиво ответил Иван Михайлович. – Сама природа борется. Разве вы не видели в межбарханных котловинах и на нижней части склонов барханных цепей растения?
– Видел, – ответил я. – Это какие–то еле заметные под песком жёсткие щётки да кривые безлистные кустики.
Иван Михайлович помрачнел. Мы двинулись дальше. Очевидно, сделав над собой усилие, Иван Михайлович снова стал рассказывать:
– Подпрыгивает, катится по Каракумам гонимый ветром лёгкий, упругий, щетинистый шарик. Как ни быстро двигается под ветром песок, шарик все время обгоняет его. Но вот стих ветер. Шарик лёг на песок, и тут же заключённые в нем семена выпустили корни. Те, которые попали на гребень барханной цепи, сразу же погибают. Но те, которые оказались внизу на склонах или в межбарханной котловине, начинают расти. Они выпускают длинные, горизонтально растущие корни. Эти корни попадают в подповерхностный слой влажности, имеющийся в барханах. Отсюда растения черпают жизнь. На корнях маленькие волоски, которые связывают песчинки. А потом этот песок цементируется в чехлы, одевающие корни. Песок засыпает растение, но из почек в пазухах листьев вырастают новые корни с острыми концами. Они пробивают слой песка и, дойдя до поверхности, дают новый пучок листьев и наземные стебли. Ветер выдувает песок из–под корней, но растение ложится кроной на песок, задерживает песчинки и, когда наберется их много, пускает в ату кучку новые корни. Цементные чехольчики защищают обнажённые корни от полного высыхания, пока новые корни не окрепнут. А новые корни разрастаются и разрастаются, песок между ними цементируется, бархан возле растения покрывается твёрдой коркой. Эта корка и длинные горизонтальные корни задерживают движение песка. И вот уже фронт наступающей барханной цепи прорван. Вперёд уходит только та её часть, где нет растений. Авангард борцов против барханных степей – селин – принадлежит к гордому племени растений–пионеров. Но живет селин недолго. Сцементированный им поверхностный слой песка задерживает влагу, она уже не достигает корней, и селин вымирает. На смену ему появляется кандым – кустарник до двух метров высотой с ветвистой кроной и топкими безлистными веточками. Вот он, – сказал Иван Михайлович и наклонился над темно–зелёной щёткой, которая едва возвышалась над песком. – Он не может так хорошо закрепляться в движущихся песках, как селин, но зато он больше и растет тем быстрее, чем быстрее его засыпает песок. Кандым всегда хотя бы немного обгоняет песок. Куст растет в песке во все стороны. Его корни, достигающие в длину до тридцати метров, пронизывают барханную цепь во всех направлениях.
И вот целые отрезки цепи остановлены и превращены в неподвижные бугры. Но, как и в истории с селином, уплотнение почвы в буграх нарушает, задерживает приток воздуха и влаги, необходимых кандыму, и он тоже умирает. Опадающие веточки кандыма обогащают верхние слои песка, превращая его уже в почву – мелкозём. Тогда вступают в строй осока и трава – иляк. Они ещё больше увеличивают содержание мелкозёма, делают почву ещё богаче. Но, в конце концов, и они обречены на гибель, их листья испаряют больше влаги, чем накопляется в почве от атмосферных осадков, и постепенно иляк с осокой тоже вымирают. Тогда на их месте появляются высокие кустарники – чогон, борджок, а затем и песчаный саксаул – деревцо высотой до четырёх–пяти метров. Своими мощными корнями он пронизывает бугор уже не только вширь, но и вглубь. Его опадающие ветви ещё больше обогащают почву, она становится плотной, засолённой и сцементированной. И тогда песчаный саксаул, нуждающийся в рыхлой структуре, вымирает, уступая место солончаковому саксаулу, которому не страшна плотная и засоленная почва.
Пока Иван Михайлович говорил, мы добрались до бугристой равнины, сплошь покрытой зарослями невысоких кудрявых деревьев. Я подошёл к: ним и с удивлением увидел, что стволы и ветки деревьев покрыты узорчатым солевым инеем, а в некоторых местах даже плотной коркой соли. Между деревцами росла трава, в которой с необыкновенной быстротой бегали какие–то маленькие серо–жёлтые птички.
– Да, – ответил на мой вопросительный взгляд Иван Михайлович. – Это и есть заросли солончакового саксаула – леса пустыни. Отличные пастбища для скота и топливо. Так побеждается пустыня. Конечно, бывают не только победы. Посмотрите внимательно на барханные цепи. Во многих местах вы найдете засохшие пеньки – останки погибших в бою с песками первых пионеров. А иногда и человек, варварски вырубая все заросли саксаула, открывает путь врагу – движущимся пескам. Но борьба идёт, идёт по всей пустыне и не прекращается ни на минуту, – закончил Иван Михайлович и закурил, медленно пропуская дым сквозь свои длинные усы.
– Иван Михайлович, – спросил я, – а что, в сущности, делает здесь в Каракумах ваш батальон? Я понимаю, что есть военная тайна. Может, хоть что–нибудь вы можете мне рассказать? Вы извините, я долго удерживался, не спрашивал, а теперь уж очень узнать захотелось.
– Да нет, какая же это тайна? – Ответил Иван Михайлович. – Строим дороги для опорных баз, поисковых и строительных организаций, которые будут здесь прокладывать трассы будущих каналов и шоссе. Не век быть войне.
– Ну и тяжёлая же работа! – Глупо сказал я.
– Да, не лёгкая, – отозвался Иван Михайлович. – И сама по себе не слишком рациональная. Засыпает наши дороги песок, разрушают ветер и солнце. Тут бы надо строить шоссе да и каналы проводить на железобетонных эстакадах. Конечно, это дело дорогое и трудоёмкое, но окупится. Тогда все, что идёт сейчас во вред дорогам, будет идти им на пользу. А может быть, от наших дорог через десять – пятнадцать лет ничего и не останется.
– Тогда зачем же их строить?
– А видите ли, – сказал тихо Иван Михайлович и пристально взглянул на меня своими выцветшими голубыми глазами, – чтобы эстакадные шоссе и каналы соорудить, нужны сначала наши дороги – без них не построишь. Так–то вот.
ДАНДАНКАН
Ночью я впервые за время пребывания в Таш–Рабате долго не мог уснуть, и утром, когда мы с Иваном Михайловичем снова спустились с холма, я спросил его:
– Это верно, что такыры часто располагаются в древних долинах?
Иван Михайлович подтвердил.
– Вчера вы мне сказали, что барханные цепи имеют всегда совершенно определённое направление. Но тогда и межбарханные котловины должны иметь такое же направление. Ведь так?
– Да, конечно, – ответил Иван Михайлович.
– А посмотрите, котловина или балка, которая проходит мимо Таш–Рабата, не совпадает по направлению с барханными цепями и их котловинами.
Мы снова поднялись на холм. Отсюда, с высоты, была видна то появляющаяся, то исчезающая балка, проходившая мимо городища.
– Да, – сказал он, – направление другое. А вы заметили, что вдоль этой балки попадаются древние, окатанные песком, иногда покрытые чёрным блестящим налётом кости. Это кости верблюдов, лошадей, ослов, иногда человеческие.
– Я заметил, как что–то сверкало вдоль дороги, ещё когда мы в первый раз в штаб ехали, но не придал этому значения, – ответил я.
Мы дождались машины и поехали вдоль балки. Хотя дно её было очень твёрдым и ветер выдувал из него песок, местами балка совершенно исчезала, по потом неизменно появлялась снова. Мы проследили её почти до самого Серахса. К сожалению, в другую сторону балка оказалась почти совсем уничтоженной и засыпанной. Но сомнений быть не могло. Эту балку глубиной до двух–трёх метров создали не песок и ветер, а животные и люди. Тысячи верблюдов на протяжении сотен лет утоптали этот песок, сцементировали поверхность.
– Это древняя караванная дорога, – сказал я.
– Да, это древняя караванная дорога. Теперь мы узнаем настоящее имя Таш–Рабата, – отозвался Иван Михайлович.
– Мы всё узнаем – имя, отчество, фамилию и все такое.
– У города не бывает отчества и фамилии.
– Нет, бывает.
– Может быть, и бывает, – сказал Иван Михайлович, едва приметно пожав плечами, – вам виднее.
Таш–Рабат лежал на древней караванной дороге, которая вела в одном направлении на Серахс, а в другом… Ну это ещё предстояло выяснить. Мы снова и снова проверяли балку, всё новые факты подтверждали нашу догадку. По пути, возле городища, к северу и востоку от него наша экспедиция открыла несколько небольших древних холмов, которые, как показали исследования Кремнева, были остатками небольших поселений – видимо, ремесленного посада, так как там мы обнаружили печи для обжига кирпича. Это открытие послужило ещё одним веским доказательством того, что Таш–Рабат – остатки древнего города.
У подножия холма было раскопано несколько очень странных сооружений. Цилиндрические ямы, выложенные кирпичом. Их форма и положение, казалось, не оставляли сомнения в том, что это колодцы. Однако содержимое этих ям, заполнение, как говорят археологи, противоречило такому определению. Ямы доверху были забиты человеческими скелетами. В чем дело? В колодцах ещё никто никогда не хоронил. Да и какой смысл отравлять в безводной пустыне воду, бросая туда трупы? Мы долго строили по этому поводу различные предположения, но так ни до чего и не додумались. Однако позже и эта загадка объяснилась…
Как–то, возвращаясь с Иваном Михайловичем из очередной разведки, я заметил человеческий череп, торчавший на кусте саксаула. Череп был, видимо, очень древним, потому что кость оказалась сильно окатанной и покрытой чёрным блестящим налетом.
– Какое варварство! – зло сказал я. – Пусть этот никому не известный человек давно умер. Но ничем же так глупо надругаться над его останками, да ещё и саксаул портить?
– Вы всё торопитесь с выводами, всё поверху судите, – сказал Иван Михайлович, слегка подёргивая щекой, что служило у него признаком недовольства или расстройства. – Череп очень хорошо окатан и блестит как зеркало. Человеческий череп – самый круглый из черепов и равномерно отражает свет. Одетый на куст саксаула, он со всех сторон виден издалека. Тот, кто сделал это, заботился о других людях и о нас с вами. Если хочешь добраться до колодца, нужно идти в ту сторону, куда повёрнут глазницами череп.
Я молчал, пристыженный и потрясённый. Везде череп – символ смерти. В безводной пустыне череп – символ жизни, потому что он показывает дорогу к воде…
После новых детальных обследований балки, предпринятых всей экспедицией, в один из вечеров мы собрались в землянке.
– Вне всякого сомнения, Таш–Рабат находится на древней караванной дороге, – сказал Кремнев. ~ Одним концом эта дорога упиралась в древний город Серахс. А другим?
– Другая вела до древнего Мерва, – твердо сказал Леонов. – Эта караванная дорога была хорошо известна в IX, X, XI и XII веках. Она не раз упоминается арабскими и персидскими учёными и путешественниками. Мы узнаем, без сомнения, узнаем теперь древнее имя Таш–Рабата.
В этот вечер я впервые услышал звонкое, как звук колокольчика на шее ведущего караванную цепь верблюда, слово «Данданкан». Его произнес Кремнев.
Леонов тут же сказал:
– Караванную дорогу между Мервом и Серахсом упоминают Ибн Джафар, Ал–Якуби, Гардизи и другие. Всего, по их подсчетам, на верблюдах шесть дней пути от Серахса до Мерва. От Серахса до замка ан–Наджар три фарсаха, от ан–Наджара до Уштурмагака пять фарсахов, от Уштурмагака до Тильситана шесть фарсахов, от Тильситана до Данданкана шесть фарсахов, от Данданкана до Януджира пять фарсахов, от Януджира до Мерва пять фарсахов. Всего тридцать фарсахов. Старинная восточная мера длины – фарсах примерно равен шести километрам. Расстояние от Данданкана до Серахса двадцать фарсахов, или сто двадцать километров. А какое действительное расстояние от Серахса до Таш–Рабата?
Кремнев быстро подсчитал на карте и сказал:
– Так и есть – сто двадцать один.
– Великолепно! – закричал Леонов. – А теперь подсчитаем. От Данданкана до Мерва десять фарсахов, или шестьдесят километров.
Он кинулся к карте и стал измерять масштабной линейкой расстояние от Таш–Рабата до Мерва.
И вдруг лицо Алексея Владимировича вытянулось:
– Выходит, что от Таш–Рабата до Мерва тридцать три километра по прямой. Расстояния не совпадают.
Припомнив спор Кремнева с Леоновым, я не без ехидства сказал:
– А вы, Алексей Владимирович, подсчитайте расстояние от Байрам–Али до Таш–Рабата!
Леонов подсчитал и сказал с достоинством:
– Расстояние от Байрам–Али до Таш–Рабата шестьдесят пять километров. Это почти точно совладает с расстоянием от Мерва до Данданкана, указанным древними авторами.
Значит, во–первых, Таш–Рабат – это, несомненно, Данданкан, а во–вторых, древний Мерв находился на месте Байрам–Али. Вы оказались правы, Николай Иванович, – закончил Леонов и обменялся с Кремневым рукопожатием.
На следующее утро Леонов уехал в город. Вернувшись, он показал нам сводку всех сведений арабских и персидских историков и путешественников о Данданкане. У всех нас было праздничное настроение, и мы, как поэму, перечитывали эту сводку.








