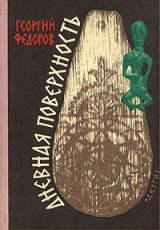
Текст книги "Дневная поверхность"
Автор книги: Георгий Фёдоров
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Керамика рассказывает археологу о многом. Так, например, кочевники делали сосуды с острым дном. Поставленные в дымный костёр где–нибудь в бескрайней степи, они хорошо держались среди камней. Сосуды же земледельцев почти всегда с плоским дном – их ставили на плоский под печи в доме.
Но как трудно изучать керамику! Глиняные сосуды обычно находят лишь в виде более или менее крупных обломков. А потом, когда их вымоют, зашифруют и внесут в опись, начинается невероятно кропотливая работа по составлению сосуда. Недостающие части заменяются гипсом, который потом тонируют под общий цвет, и лишь тогда археолог получает ясное представление обо всем сосуде – его форме, размерах, орнаменте, технике замешивания глины, формовке, обжиге.
Большое значение имеет и изучение примесей к гончарной глине, форм и способов нанесения орнамента, особенностей орудий производства. Гончарные круги, например, делались в древности из дерева. Деревянные круги не сохранились. Очень редко попадаются в раскопках и гончарные горны. Поэтому, когда с крайнего раскопа раздался крик: «Гори! Гончарный горн!» – все, кто мог хоть на несколько минут оторваться от работы, побежали на крик.
Володя уже успел расчистить верхнюю часть горна. Расчищал его он сам с помощью маленькой саперной лопатки и кисти. Рабочий, помогавший Володе, только отбрасывал большой лопатой уже просмотренную землю. Отчётливо виднелась верхняя часть купольного свода с большим круглым отверстием. Вернее, это были лишь обломки глиняных стенок рухнувшего свода, и на нескольких из них виднелись геометрически точные дуговые выемки – части круглого отверстия. Вот по положению этих обломков и можно было реконструировать купольный свод с круглым отверстием.
Расчистка горна продолжалась до позднего вечера. Самое главное было не сдвинуть ни на йоту, не потревожить обрушившиеся части свода: нужно было проследить, как именно он разрушился, и, зная это, восстановить его подлинные размеры, форму, конструкцию. И вот, наконец, горн расчищен. Нижняя часть его уцелела полностью. Горн оказался круглым в плане, двухъярусным, такой конструкции, которая была придумана ещё римлянами в первые века нашей эры. Он напоминал собой большой полукруглый колпак, внутри же был разделён толстой горизонтальной стенкой на дне части – верхнюю и нижнюю. Нижняя часть служила топочной камерой, мы нашли в ней золу и уголь, в верхней производился обжиг раскалённым воздухом. Для этого в потолке топочной камеры было проделано много круглых сквозных отверстий, или продухов, как их называют современные гончары.
Верхняя камера была полностью загружена совершенно целыми горшками, стоявшими один над другим в два ряда, и это дало нам возможность точно определить производительность горна. Топка была прервана внезапно и не возобновлялась: обжиг горшков был не закончен. Только исключительные обстоятельства могли заставить гончара вот так бросить работу и не вернуться больше к своему горну. Этими обстоятельствами, судя по слою, в котором мы нашли горн, были татарское нашествие и битва. Во время битвы, видимо, погиб и гончар… Вернее, не гончар, а гончары: днища сосудов были клеймены небольшими выпуклыми рельефными изображениями – знаками мастеров, своего рода фабричными клеймами. В нашем горне на днищах сосудов обнаружилось два типа клейма: крест в круге и квадрат в круге. Очевидно, здесь работали два мастера, горн был их общим достоянием…
Нашли мы и жилища мастеров: небольшие квадратные полуземлянки.
Помню, когда первый раз началась расчистка жилища – тёмного пятна квадратной формы, которое чётко выделялось на фоне жёлтого грунта, я почувствовал какое–то недоверие. Неужели это тёмное пятно и есть остатки жилища?
Но вот аккуратно снят тонкий тёмный слой – остатки рухнувшей земляной кровли, и медленно начала показываться из слоя угля, золы, глины нехитрая домашняя утварь: горшки, железные кресала для высекания огня, непонятного назначения крюки, заклёпки, пряслица для веретена.
Только тупица, лишённый всякого воображения и смысла, не различил бы в этой утвари остатков внезапно покинутого дома.
Тщательно расчищая пол дома, я испытывал даже какое–то неловкое чувство, словно вошёл в чужое жилище без ведома хозяев. В углу мы нашли каменные круглые жернова – мельничный постав, а рядом с ним обломки больших пузатых горшков – корчаг, куда ссыпалась мука.
Впервые были отысканы совершенно целые древнерусские жернова – не потревоженная никем и не разрушенная ручная мельница.
Мы находили не только жилища рядовых обитателей города – ремесленников и земледельцев. В центре укреплённой части городища – в детинце, или кремле, – открылись и остатки огромного, крытого медью дома: княжеского или боярского дворца…
У меня на раскопе все ещё не встречалось никаких сооружений, но зато открылись остатки древнего могильника. В те времена умерших уже не сжигали на кострах и в могилы к ним уже не клали вместе с прахом утварь, инструменты, украшения и еду, как во времена язычества. Христианская церковь требовала, чтобы умерших хоронили не сжигая, без всяких вещей. (За одно это, конечно, археологи полны недобрых чувств к христианству! Ведь вещи в могилах, как правило, сохранялись веками, и каким ценным источником знаний для изучения древней материальной культуры служит каждая могила язычника! А христианская церковь лишила науку этого источника.) Но жители нашего города, несмотря на то что Русь уже давно приняла христианство, на наше счастье, продолжали кое в чем придерживаться старых обычаев. Поэтому в могилах иногда попадались горшки, перстни, браслеты, ножи. Попались они в конце концов и мне.
Раскопки древнего могильника – увлекательнейшее дело. Особенно, если это первое раскопанное тобой погребение. Вот все вскрыто. Тщательнейшим образом расчистил я ножами и специальными кистями скелет и вещи, которые находились возле него. Все сфотографировано, нанесено на план, зарисовано. Останки давно ушедшего из жизни человека и вся нехитрая утварь, положенная с ним в могилу, не потревожены, ни на сантиметр не сдвинуты с места, лежат так же, как пролежали уже сотни лет. И вес это очищено до такой стерильной чистоты, как будто скелет положен на операционный стол.
Впрочем, это и есть операционный стол – операционный стол историка–исследователя. Это неважно, что ты студент. Последние взмахи кистей, последний щелчок затвора фотоаппарата, и все рабочие и твои добровольные помощники отходят в сторону. Остаешься только ты – археолог. Один на один со своей находкой. Это своеобразный поединок мёртвого и живого. Вот он лежит перед тобой – скелет давно умершего, безвестного человека. Он нем, нем уже многие сотни лет. Но ты должен заставить его заговорить, рассказать о себе: кто он, когда жил, кем был, сколько ему было лет, когда и отчего умер, мужчина он или женщина, знатный ли боярин, или воин, или простой ремесленник, русский или, может быть, печенег…
Конечно, кое–что ты сможешь уточнить только в Москве, в лаборатории, когда скажут своё слово химики–консерваторы, антропологи, реставраторы. Но главное ты должен сделать сейчас. Ведь от правильности, точности твоего определения во многом зависит направление и успех дальнейших раскопок. Так будь осторожен. Вспомни все, что знаешь, все, что умеешь. Не торопись, будь внимательным к каждой мелочи. Ведь не зря ты потревожил эту древнюю могилу, не зря здесь столько времени, с таким старанием и тщательностью работали твои товарищи.
Поединок начинается. Наклонись над скелетом. Посмотри состояние зубов, степень сращения и обызвесткования черепных швов. Так–так. Этому человеку, когда он умер, было лет сорок – сорок пять. Точнее это скажут в Москве специалисты–антропологи, но примерный возраст ясен. А теперь посмотри на форму глазниц, на подбородок, на ширину и линии лба. Это женщина. Что это за маленькое розовато–фиолетовое колесико возле ее правой руки? А, это пряслице–грузик для веретена, который придает веретену устойчивость при вращении. Что же, это только подтверждает, что скелет женский. Ведь пряли испокон веков именно женщины.
Пряслице сделано из розового шифера. Такой шифер в Восточной Европе имеется только в одном месте – возле города Овруча, одного из центров древнерусского государства. Там были знаменитые камнерезные мастерские, изделия которых, в том числе и пряслица, широко распространялись по всей Руси и за её пределами. Мастерские были разрушены и уничтожены татарами около 1238 года, овручёвые ремесленники были либо перебиты, либо уведены в плен, и мастерские никогда с тех пор не возобновляли работы. А начали они функционировать примерно в середине XI века. Значит, женщина погребена не раньше середины XI. Это пряслице из ранних: посмотри внимательно, какое оно плоское, какое широкое в нем отверстие. Позднее в Овруче стали делать пряслица другой формы. Значит, погребение было совершено не позже середины XII века.
А вот и небольшой горшочек у ног скелета. Он покрыт узором в виде широкой и плавной многорядной волны, венчик горшочка почти прямой, с чёткими гранями, лишь слегка отогнутый наружу. Сам горшок очень простой по форме, напоминает перевёрнутый усечённый конус, однако сделан на гончарном круге. В глине примесь мелкого песка.
Так. Мы знаем, что подобные горшки изготовляли в X – первой половине XI века, не позже. Знаем это на основании работ наших керамистов, классифицировавших сотни тысяч фрагментов древнерусской керамики.
А теперь сопоставим две вещи: пряслице и горшок. Пряслице датируется серединой XI – первой половиной XII века. Горшок – X – серединой XI века. Получается, что женщина умерла в середине XI века: только в этом случае к ней в могилу могли положить одновременно и такой горшок, и такое пряслице.
Но пойдем дальше. Горшок – с плоским дном; значит, он принадлежал оседлым людям; об этом же говорит и сам могильник, расположенный на долговременном поселении – городище. А по форме, орнаменту, технике выделки и глиняному тесту горшок типично славянский. Так. А теперь посмотрим, пока ещё могила освещена солнцем: что это отливает зеленью возле головы женщины? Четыре медных височных кольца, по два с каждой стороны головы. Кольца литые, грубоватые, с дужкой и семью расходящимися лопастями. Сквозь дужку женщины продевали пряди волос и носили кольца у висков, отчего и происходит их название. У каждого из четырнадцати восточнославянских племён – предков русского, украинского и белорусского народов – были свои, только этому племени присущие формы височных колец. Учёные давно установили, что районы массового распространения височных колец определённого типа точно совпадают с указанием летописца о той территории, которую занимало каждое из племён. Височные кольца с семью лопастями носили славяне из племени вятичей. Они жили, как написано в летописи, по реке Оке и её притокам. Москва тоже стоит на древней земле вятичей.
Далеко, однако, ушла ты от берегов Оки, землячка, и умерла на чужбине…
Стеша принесла мне ужин прямо на раскоп, но я до него не дотронулся. Может быть, здесь вообще была колония вятичей? Во всех других могилах, где мы нашли височные кольца, они были иной формы, характерной для племени северян. На их земле, судя по сведениям летописи, стоял и наш город…
Вместе с моей землячкой в могилу положили только пряслице, горшок и височные кольца. Небогато. Да пряслице и не положили бы в могилу знатной и богатой женщины: вряд ли ей приходилось сидеть за прялкой. Кроме того, у богатых женщин височные кольца были из серебра, перевитые кручёной серебряной проволокой, с узором из напаянных серебряных шариков. А это – простые, грубые, медные литые височные кольца. Женщина, видно, была простая, – наверное, жена ремесленника.
Я принялся подводить некоторые итоги. Итак, в могиле похоронена простая горожанка, лет сорока – сорока пяти, приехавшая сюда откуда–то с побережья Оки. Она жила и умерла в первой половине XI века. Судя по тому что она продолжала и на территории другого славянского племени носить височные кольца вятичей, она попала сюда уже довольно взрослой. Конечно, это только догадка, но догадка необходимая. Поединок ведь не окончен. После раскопок всего могильника, после реставрации и детального изучения всех найденных вещей можно будет сказать еще многое. А в мастерской замечательного учёного–антрополога М. М. Герасимова нам сделают пластическую реконструкцию лица этой женщины, и мы увидим её скульптурный портрет. Разве смогу я забыть его? Могила за могилой. Изо дня в день вступали мы в эти поединки, пока не раскопали все древнее кладбище.
На моем раскопе начала наконец попадаться плинфа – тонкий и широкий кирпич, излюбленный древними русскими зодчими. Вслед за тем показались остатки стен и фундамента чудесной древнерусской церкви XII века, выстроенной под влиянием византийской архитектуры, – её хорошо знали русские строители.
Нет, это было совсем не просто – раскапывать остатки Церкви, расшифровывать её конструкцию и форму. Ещё очень далеко было то время, когда изображение и реконструкция этой церкви войдут в различные работы по истории русского зодчества. Но мы уже видели её – маленькую, изящную, с одной полукруглой абсидой и крытой галереей вокруг всего здания.
Раскопки были трудными. В некоторых местах не сохранилось даже остатков фундамента. Проследить толщину и форму фундамента и стен можно было только по едва уловимой разнице в окраске и плотности почвы. В других местах развал стен и остатки сохранившейся кладки так перемешались, что отделить одно от другого было почти невозможно. А сделать это было необходимо, чтобы, выяснив размеры и пропорции здания, восстановить его подлинный облик. Итак, раскопки требовали особой, совершенно ювелирной тщательности.
Тут–то Григорий Иванович Паниковский показал, на что он способен. Ни одна кошка не выслеживала с такой осторожностью мышь, с какой Григорий Иванович отыскивал остатки следов древних стен. Как тут пригодились и медлительность, и обстоятельность, свойственные ему!
Штыковую лопату Григорий Иванович сменил на целый набор инструментов: на маленькую сапёрную лопату, кисть, шпатель, скальпель. Наконец–то люди оценили Григория Ивановича, наконец–то воцарился мир между его душой и внешними проявлениями этой души. Григорий Иванович пользовался симпатией всех сотрудников экспедиции и был счастлив и спокоен. Единственный человек, с лёгкостью нарушавший безмятежное состояние его духа, была Семёновна. Явившись на раскоп, что она имела обыкновение делать по нескольку раз в день, Семёновна некоторое время наблюдала за Паниковским, а потом, как бы невзначай, цедила:
– Ну как, лежебок? Все змываешься над наукой?
Паниковский мог бы сделать вид, что он не слышит Семёновну или думает, что её слова относятся не к нему. Зная его невозмутимость, я сначала решил, что он поступит именно так. Но есть исключения из любых правил. К Семёновне даже Паниковский не мог быть равнодушным. Он немедленно отвечал ей (и, право, отвечал то, что она заслуживала), она – ему, и начиналось… Но верх все же оставался за бабкой. Паниковский в отчаянии кидал шпатель или лопатку и требовал моего заступничества. Он ссылался на свои военные заслуги, на контузию… Я с трудом восстанавливал порядок.
Странные отношения сложились у нас с Семёновной. Природный ум, острота и даже ехидство уживались в ней с детским простодушием и неустанным правдоискательством. Я с удовольствием забегал к ней иногда и подолгу беседовал, хотя мы по преимуществу препирались и спорили, о чем бы ни зашла речь. Впрочем, я был допущен Семёновной к величайшему таинству. Сын её служил во флоте, плавал в заграничных рейсах и дома бывал только раз в несколько лет, а муж давным–давно умер. Семёновна хранила письма сына, перевязанные ленточкой, за иконой. Иногда, по вечерам, она торжественно читала их. Вот в этом–то ритуале я и принимал участие, что являлось знаком величайшего доверия. Этим я, конечно, искренне гордился.
Происходило чтение так: бабка стелила на стол лучшую скатерть, надевала старинную белую рубаху и тёмную, плотную, расшитую, как ковёр, понёву. Затем водружала на нос большие очки в железной оправе и доставала из–за образа письма. Я присаживался рядом, на краешек стула. И хоть очки надевала она, письма читал я: Семёновна была неграмотной.
Потом мы чинно пили молоко и в эти вечера не ругались и не ссорились.
Как–то она сказала мне:
– Ты бы, Егор, на Хитрову гору сходил, к Магериной Параше. Ох, и песни знает, и поёт как!.. У тебя в Москве в киятрах так не поют! Только вот… – И старуха замялась.
– Что, Семёновна? – Усмехнулся я. – Опять какой–нибудь подвох?
– Да ты слушай, слушай! – Серьёзно, наставительно продолжала старуха. – Колдунья она. К ней подобру никто и не ходит. А вот привяжется болезнь или хворость, так не хочешь – пойдешь. Она от всех болезней лечит. А заговоры какие знает – страх берет!
Я рассмеялся:
– Прошлый раз ты меня к уроду посылала, а оказалась – красавица. Теперь к колдунье шлёшь, а она, наверно, доктор медицинских наук, профессор! Болезни–то она вылечивает?
– Не вылечивала – не ходили бы. Ещё как вылечивает!
– Я и говорю – профессор!
– Сам ты прохвессор, и еще хужей! – Рассердилась Семёновна.
Я долго умасливал и успокаивал расходившуюся старуху…
Но в один из ближайших дней я все же отправился к «колдунье». Мне было интересно узнать, что лежит в основе оригинальных бабкиных определений.
Пошёл я с Володей. Он, кстати, захватил с собой фонограф (магнитофонов тогда ещё не было), и мы двинулись на Хитрову гору.
На Хитровой горе – небольшом, но крутом холме – стоял только один дом, рубленый из крепких дубовых брёвен. Володя постучал. Никто не ответил. Тогда, приподняв деревянную щеколду, мы открыли дверь сами и через холодные сени пошли в светлую, просторную горницу. У стола сидела миловидная, курносая девушка лет восемнадцати.
– Прасковья Магерина дома? – Спросил я.
– Ни. Мама в лес пошла, за травами, – приветливо ответила девушка.
– Мы хотим с твоей мамой поговорить. Мы из экспедиции, копаем здесь, в селе. А тебя как зовут?
– Зиной. А я вас видела. Сидайте, мама скоро придёт.
Ждать пришлось недолго. Дверь распахнулась спустя минут десять, не больше, и в горницу вошла женщина лет пятидесяти, высокая, статная. В одной руке она держала несколько пучков разных трав, перевязанных, как редиска, нитками.
Женщина бросила на нас смелый, но в то же время какой–то настороженный взгляд и сказала:
– Здравствуйте, гости дорогие! Чего Москве на Хитровой горе увиделось?
– Здравствуйте, – ответил за нас обоих Володя. – Простите, не знаю, как ваше имя–отчество?
– Прасковьей Антоновной величают, – спокойно, с лёгкой усмешкой ответила Магерина. Потом налила ковшом воды из бочки в плоскую деревянную бадейку, с удовольствием, как–то особенно вкусно, умыла руки и лицо, вытерлась чистым белым, расшитым по концам петухами рушником и присела на лавку.
– Прасковья Антоновна, говорят, вы знаете много хороших песен, – продолжал Володя. – Мы бы очень хотели послушать, как вы поёте.
– Песни–то знаю, как не знать, – все так же с усмешкой ответила Магерина, – да время ли среди бела дня песнями баловаться?
Пока Володя, запинаясь, разъяснил, как важно для науки собирать и изучать народные песни, какое значение имеет фольклор, я разглядывал «колдунью». Высокий лоб, загорелое скуластое лицо выражали ум и волю. Кожа у Прасковьи Антоновны была гладкая, без морщин; седоватые волосы, пышные и слегка вьющиеся, небрежно собраны сзади в большой узел. Резко вырезанные тонкие ноздри, прямой, с лёгкой горбинкой нос. Брови широкие, слегка приподнятые кверху, к вискам.
Но особенно сильное впечатление произвели на меня её небольшие, глубоко сидящие серые глаза. Они были очень странной формы: как вытянутые треугольники; яркий блеск их напоминал блеск полированного железного лезвия.
Материна слушала моего приятеля молча, внимательно, казалось, все с той же лёгкой, затаённой усмешкой.
Когда Володя кончил, сказала задумчиво:
– Так, выходит, не баловство? Что же, можно и спеть.
Потом встала, развернув прямые, широкие плечи, провела ладонью по лицу и словно вдруг помолодела от этого. В глазах её появилось какое–то напряжённое выражение, они остановились. И, глядя поверх наших голов, запела сильным, высоким и звучным голосом на редкость приятного тембра. Она стояла в вольной, свободной позе, но совсем не двигалась: казалось, ни один мускул даже не шевельнется на её лице; казалось, песня сама поётся, а она, зачарованная звуками, лишь прислушивается к ней.
Песня была о старой, как мир, истории: о страданиях человека, насильно разлучённого с любимой. Только фоном служили не городские улицы, не хоромы, не поля, а родной для Прасковьи Магериной лес. И от этого вся песня приобретала новый смысл и звучание.
Спокойно, грустно, задумчиво лилось из её уст:
Унесу скуку в дремучие леса…
И вдруг голос, дрожа, подымался вверх, в нем слышались боль, шелестящий ветер, острое, мятущееся страдание несправедливо обиженной, цельной и сильной натуры:
В лесах нет спокою —
Все листья шумят,
Древа, как нарочно,
Попарно стоят…
Прасковья Антоновна кончила петь и спросила:
– Ну, как вам, люди учёные, наша деревенская песня?
Но она и сама хорошо видела, «как нам»,
Пела она в тот день много, не чинясь, и мы сразу же записали несколько песен. Но, когда затем мы прокрутили ей запись и она услыхала свой голос, она очень заволновалась и даже испугалась. И так не вязался испуг с этой сильной и смелой женщиной, что мы даже и не подумали, как раньше хотели, пошутить по этому поводу. Мы стали её успокаивать. Но успокоилась она только тогда, когда мы, как могли, объяснили ей устройство фонографа и даже разобрали и собрали его.
– Не люблю чертовни всякой непонятной, – как бы извиняясь, сказала Магерина.
Тут я не выдержал и сказал:
– А с чего бы это, Прасковья Антоновна? Ведь вас саму колдуньей считают?
– Дуры бабы, – с досадой ответила она. – Тебе, человеку учёному, не пристало бы их сплетни повторять. Бабка моя и мать моя от века травами лечат и меня сызмальства научили. А я ещё в германскую войну в госпитале работала. Разве ж травы плохие? Они полезные, от них всякая хворь выходит. Только своего не уберегла. Он семь лет воевал. И в окопах насиделся, и в гражданскую в Красной Армии. Как пришёл в село, все кашлял, кашлял года два, да так и помер. Вот Зинки – и то не дождался. Так и живем мы с нею… А бабы дуры, – сильно и со злостью сказала она. – Ко мне же бегут, Христа ради просят: вылечи – и меня же в колдуньи произвели.
– А заговоры зачем? – Спросил Володя. – Вы ведь и их, говорят, применяете?
Прасковья Антоновна посмотрела на него с обычной своей усмешкой и тихо, но с каким–то озорством произнесла:
– Так ведь у меня трубочек, градусников нету, я баба деревенская, а чтоб человек вылечился, ему вера нужна… Вот в супе и мясо, и картошка, и соль есть – что ещё надо? А без травки есть не станешь – вкуса нету. Так и вера для леченья. Чтоб было что–то особое!
Мы подружились с Прасковьей Антоновной. Часто бывали у неё, любили смотреть, как неутомимо, легко и красиво работает она и дома, и в огороде, и в поле, слушали её песни, а особенно любили ходить с ней в лес. Для каждой травинки у неё было своё название; каждую западину, каждое урочище в лесу она знала, как свою избу, знала и любила, хотя в разговоре старалась скрыть ату любовь за обычной усмешкой. А потом неожиданно случилось так, что пришлось и нам узнать её врачевание.
Село, в котором мы жили, было расположено очень далеко от железных и шоссейных дорог, в глуши, среди непроходимых лесных чащ. Может быть, поэтому тут так причудливо уживалась с колхозным строем, бригадами и трудоднями, старина: множество всяких суеверий, вековые традиции и обычаи, домотканая одежда.
С того времени как мы отрыли остатки церкви, часть жителей села, и вовсе не одни только старухи, стали относиться к нам плохо.
Сердилась и Семёновна. Правда, недовольство своё она вымещала только на Паниковском. Придя на раскоп и сдвинув совсем на нос, как забрало, конец своего чёрного головного платка, она заводила:
– У, анчихрист, разоритель!
Паниковский мгновенно вскипал и сразу переходил в контратаку:
– Уходи, старая! Ты Егора своего ругай!
Но меня бабка в обиду давать не желала. И хоть пронзала меня укоризненным взглядом, Паниковского все–таки отбривала:
– Ты Егора не трогай. Егор – он неверующий. Он как дитё малое – не ведает, что творит, для науки старается!
– Нет, вы поглядите! – Совсем срывался на крик возмущённый Паниковский, обращаясь к любопытствующей аудитории. – Егор для науки старается! А я, по-твоему, не для науки?! Да я ещё в Германии всё про науки разнюхал!
– «Для науки»! – Сардонически отвечала Семёновна. – Фурштюк ты проклятый, немецкая баклажка!
Непонятное слово «фурштюк» приводило Паниковского в такую бешеную ярость, что тут уже и я вынужден был вмешиваться. Бабка, победоносно ухмыляясь, уходила.
Многим деревенским казалось, что, раскапывая церковь, мы оскверняем святыни. Мы разъясняли, что это не так, читали в колхозном клубе нечто вроде популярных докладов по археологии, много беседовали с крестьянами. Но все это помогало слабо. На рабочих, принимавших участие в наших раскопках, смотрели косо, а Паниковского, по пьяному делу, даже побили. Григорий Иванович, ставший настоящим мучеником археологии, перенёс побои стоически и остался нам верен.
Даже дружба с Прасковьей Антоновной и частые встречи с ней – и они ставились нам в укор. Но, конечно, несмотря ни на что, мы не отказывались ни от раскопок, ни от знакомства с Прасковьей Антоновной. Председатель колхоза и председатель сельсовета, а также обе школьные учительницы были, понятно, на нашей стороне. Жадно слушали нас и школьники – мальчики и девочки: они были нашими закадычными друзьями. Но среди простых колхозников нас открыто поддерживали только Федя и Стеша Шатровы. Стеша к этому времени стала настоящим энтузиастом экспедиции. Рано утром она тихонько стучала в окно: пора вставать. Научилась обращаться с рулеткой, уровнем и буссолью. По вечерам она, пристроившись где–нибудь в уголке нашей избы с тазом и щёткой для мытья керамики, слушала увлекательные рассказы нашего начальника. Слушала с необыкновенным вниманием, широко раскрыв глаза, оживлённо кивала головой. Выражение её худенького лица непрерывно менялось. И когда понимала, что можно спрашивать, задавала, краснея, десятки вопросов. Мы никогда не уставали ей отвечать. Все свободные вечера проводил с нами и Федя. Однажды, принеся второй завтрак на раскоп, Стеша босой ногой перевернула лежащий в тени плоский кирпич – плинфу. Там оказалась гадюка – она спряталась в холодок – и, потревоженная, немедленно ужалила Стешу.
Я очень испугался, тут же перебинтовал Стеше ногу выше укуса и побежал в конюшню за подводой, чтобы срочно отвезти Стешу в соседнее село – Жуково, где был медпункт. Я сказал заведующему фермой, у которого попросил подводу, что у меня в Жукове дела по экспедиции и что ездового мне не нужно. Сказать, в чем было дело по–настоящему, я не хотел: кое–кто мог бы ещё объявить, что все это божья кара за осквернение церкви, и тогда нам, пожалуй, пришлось бы плохо. А передать Стешу с рук на руки Феде я тоже не мог: он находился далеко за рекой, на луговине, звать его было некогда.
Уже через час взмыленная лошадь подвезла нас к медпункту. Всю дорогу Стеша молча держалась руками за края телеги, чтобы не вывалиться, и только смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Трудно мне было выдержать этот взгляд…
Из избы, в которой помещался медпункт, вышла девушка лет семнадцати–восемнадцати, в белом халате.
– Что у вас? – Испуганно спросила она.
– Фельдшера! Быстро! Женщину змея укусила! – Ответил я.
– Я – фельдшер, – упавшим голосом откликнулась девушка.
– Ну, тогда командуйте, что делать.
Но она растерялась. Только спросила меня:
– Может быть, йодом намажем?
Не помня себя от отчаяния, я чуть не замахнулся на неё кнутом и вскачь погнал лошадь обратно.
Когда мы доехали до магеринской избы, нога у Стеши стала пухнуть и синеть.
К счастью, Прасковья Антоновна была дома.
– Стешу змея укусила! – закричал я.
Прасковья Антоновна молча легко подняла Стешу, внесла в избу, положила на лавку. Пока она своими сильными руками накладывала на Стешину ногу жгут из рушника и туго затягивала его палкой, я сбивчиво рассказал ей, что произошло.
– Сразу бы ко мне вез, милый, – укоризненно произнесла Прасковья Антоновна.
Потом, подержав на огне в печи острый нож, вроде сапожного, сделала довольно большой разрез на месте ранки от укуса.
Стеша дёрнулась и тоненько вскрикнула. Но Прасковья Антоновна, ласково уговаривая и успокаивая её, начала накладывать в рану и около разреза какую–то траву.
Может быть, сказались перенесённые волнения, только я не мог вынести этого зрелища и выскочил на улицу.
Наутро опухоль у Стеши спала, и через два дня она совсем поправилась.
Хотя Стеша обещала мне никому обо всей этой истории не рассказывать, но вездесущая Семёновна каким–то образом все же разнюхала, что произошло. И дня через три подозвала меня:
– Ты что же, Егор, носу не кажешь?
– А я как раз думал сегодня к тебе зайти.
Семёновна помолчала, потом ехидно сощурилась:
– Сегодня, значит? Так, так… А что это ты, человек московский, столичный, у колдуньев Стешу лечил?
Хотя я относился к Семёновне совсем иначе, чем Паниковский, но тут и я не выдержал и чуть не раскричался на неё, как он. Целый час препирался с ней. Рассказал и про то, как лечит Прасковья Антоновна, и про то, что такое вообще народная медицина. Сказал, что сообщу о Прасковье Антоновне в область, чтобы ей помогли. Заодно ещё и ещё раз доказывал Семёновне, почему нет ничего плохого в раскопках церквей, – наоборот, люди о самих себе больше узнают.
Семёновна, однако, не сдавалась. Прерывала меня ехидными замечаниями, а во время горячих моих монологов с сомнением жевала тонкими губами.
И все же разговор этот не прошёл даром. На наших глазах изменилось отношение и к «колдунье», и к раскопкам церкви, – Семёновна была заводилой всяких разговоров на селе. Люди стали ходить к Прасковье Антоновне свободно, не таясь, и не только по какому–нибудь делу, но, как и к другим, по–приятельски. Угрюмое молчание, встречающее нас, когда мы заводили с крестьянами разговор о раскопках церкви, теперь сменилось нескрываемым любопытством, нас засыпали вопросами.
Но вот раскопки подошли к концу. «Весомо, грубо, зримо» встал перед нами древний город. Он поднимался во весь рост, расправлял богатырские плечи, стряхивал налипшую веками землю, протягивал нам свои сильные руки – руки кузнеца и гончара, каменщика и ткача, строителя и воина. Мы бродили по его улицам, путая их с улицами современного села, мы назначали свидания то у княжеского дворца, то у колхозного клуба. Мы видели его живую историю, его труд, его радости и горести, и чувство необыкновенного единения с родной землей захватывало нас – чувство гордости за то, что принадлежишь к своему народу, что ты сам часть этого народа и его великой истории. Не успев уехать, мы уже с нетерпением ждали следующего сезона работ.








