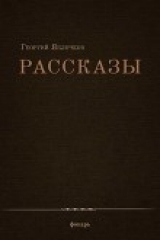
Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Георгий Яблочков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
V
Не знаю, смог ли бы кто-нибудь описать, как следует, душевное состояние Петра Иваныча в пять часов следующего дня, когда он ожидал прихода Марьи Николаевны. Душа Петра Иваныча была всегда темна не только для него самого, но и для самых лучших знатоков человеческого сердца. Во всяком случае, несомненно одно: что, ожидая прихода Марьи Николаевны, Пётр Иваныч с необыкновенной тщательностью осмотрел всю комнату: не лежит ли где-нибудь на полу какая-нибудь записочка, женской рукою брошенная с улицы в форточку и случайно незамеченная им.
Таких записочек, однако, не оказалось и, когда снаружи послышался нетерпеливый, властный стук в дверь, он отворил с чистой совестью и спокойной душой. Перед ним была Марья Николаевна.
Она быстро вошла и точно так же, как он, прежде всего оглядела пол, подоконник и стол. Она заглянула затем за ширмы, чтобы проверить состояние укромных мест комнаты, окинула быстрым и испытующим взором все стены и только тогда остановила глаза на Петре Иваныче. Затем села, постепенно, нервными движениями сняла перчатки и бросила их перед собой, сняла шляпу и сбросила сак, молча следя, как Пётр Иваныч с кротким видом брал каждую вещь и маленькими шажками относил на комод, на преддиванный столик и на кресло.
Марья Николаевна имела полное белое лицо с маленьким лбом, маленькими чёрными глазками, с толстым носиком, немного надменно торчащим кверху, и с массивной нижней челюстью, что, как известно, указывает на смелость и решительность характера. Лицо её имело теперь презрительно-раздражённое выражение.
– Ну, что? – произнесла, наконец, Марья Николаевна, упорно глядя в глаза Петру Иванычу. – Вы продолжаете ещё состоять членом воровской шайки?
Физиономия Петра Иваныча выразила глубокое горе и трогательную покорность судьбе, что ещё более усилил поднявший его грудь тяжёлый вздох.
– Как же, Маруся? – кротко произнёс он. – Ведь я же говорил тебе…
– И за вами следят, вас могут арестовать и так далее? – продолжала Марья Николаевна.
– Я же говорил тебе… как ты не хочешь верить?.. Могут даже и сейчас прийти…
– Как вам не стыдно! – гневно крикнула Марья Николаевна, поднимаясь во весь рост. – Как вам не стыдно!..
Пётр Иванович невольно отступил, выражая на лице страх.
– Вы думаете, что нашли такую дуру, которую можно заставить поверить всему? – гневно продолжала Марья Николаевна. – Ошибаетесь! Не на такую напали! Я узнала о вас всё. Вы служите в страховом обществе, вы считаетесь очень хорошим агентом, вас очень многие в городе знают, вы, действительно, легкомысленный, гадкий и развратный человек, но вы порядочный человек и никогда не можете быть ни вором, ни состоять в какой-то шайке. Вы мне всё налгали!
– Маруся! Но как же налгал? Да вот как раз сейчас… Погляди вон в окно…
– Вы лжёте! – гневно крикнула, двинувшись к нему, Марья Николаевна. – За окном нет никого! Я понимаю вас! Вам тяжела любовь порядочной женщины, которую вы подлостью заставили полюбить вас, вы хотели бы избавиться от меня, потому что со мной нельзя поступать, как с вашими девчонками, но вам это не удастся! Я заставлю вас любить себя!
Марья Николаевна всё более наступала, Пётр Иваныч постепенно отступал, попадая в щель между стеной и письменным столом, и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы неожиданно не раздался чрезвычайно сильный стук в дверь. Марья Николаевна гневно оглянулась, а Пётр Иваныч, воспользовавшись этим, ускользнул из западни и бросился открывать дверь.
В дверях показался Кокин. Несмотря на малый рост, ему не надо было делать особых усилий, чтобы иметь величественный вид. Его живот массивным полушарием выдавался вперёд, его красное лицо с выпученными глазами само собою откидывалось назад, и правая рука привычным жестом простиралась вперёд по направлению к Петру Иванычу.
Несколько секунд, отдуваясь, он молча переводил угрожающий взгляд с Петра Иваныча на Марью Николаевну, пока окончательно не остановил его на первом, и пред окаменевшей от изумления дамой разыгралась следующая сцена:
– Метлов! – загремел толстяк. – Что это значит?
Пётр Иваныч кланялся и приседал, всем существом выражая панический ужас.
– Что это значит, Метлов? Тебя предупреждают, тебе говорят, тебе пишут и ты не делаешь ничего? Что, ты мальчишка, дурак? Что, ты не понимаешь, какой опасности ты подвергаешь всех?
Толстый палец Кокина направился в сторону Марьи Николаевны.
– Кто это женщина?
– Это… Это моя знакомая… – лепетал Пётр Иваныч, приседая.
– Скажи ей, чтоб она вышла вон!
– Маруся! – умоляюще шептал Пётр Иваныч, – Так надо… Я тут ничего не могу… Тебе придётся уйти…
– Я не уйду! – выйдя из столбняка, с отчаянной решительностью, воскликнула Марья Николаевна. – Я останусь здесь. Я хочу знать всё, что будет с ним. Я – его жена!
– Метлов! Это твоя жена?
– Да…
– Метлов! – снова громко гремел толстяк. – Всякие объяснения излишни. За тобой следят. Ты должен исчезнуть.
– Куда? – с отчаянием лепетал Пётр Иваныч.
– В порт.
Пётр Иваныч в ужасе схватился за голову.
– Ты будешь там целый месяц жить босяком! Пошли за парикмахером, чтобы остричь тебе волосы, бороду и усы и собирайся. Даю тебе на всё полчаса.
– Почему он должен идти в порт? – крикнула Марья Николаевна, подступая к Кокину. – Я хочу знать? Что он сделал, и кто вы такой?
– Метлов! Прикажи женщине молчать! Собирайся.
– Маруся… – плачущим голосом твердил Пётр Иваныч. – Я умоляю тебя!.. Ты меня губишь совсем. С ним нельзя так говорить…
– Я со всеми могу говорить, как хочу! – гневно крикнула Марья Николаевна и очень решительно схватила Кокина за плечо – Зачем он должен идти в порт?
– В наказание! – величественно ответил Кокин, стряхивая её руку с своего плеча.
– За что?
– За то, что, зная, что за ним следят, продолжал жить в этой комнате и тем легкомысленно подвергал опасности как себя, так и нас.
– Кого это вас? – крикнула Марья Николаевна, наступая на него.
– Товарищей!! – рявкнул Кокин, делая на всякий случай шаг назад.
– Маруся! – с ужасом шептал Пётр Иваныч, удерживая её за руку. – Я умоляю тебя… С ним нельзя так говорить. Это наш главный начальник…
– Я ничего не понимаю!.. – в полном отчаянии крикнула Марья Николаевна и в изнеможении упала в кресло.
– Метлов! – командовал Кокин. – Переодевайся! Сейчас придёт парикмахер.
Пётр Иваныч, мелкими шагами, выказывая полную угнетённость, отправился за ширмы, и оттуда послышалась, сопровождаемая тяжёлыми вздохами, возня. Марья Николаевна лежала в кресле, закрыв руками лицо. Кокин стоял, сохраняя величественно-непреклонный вид.
– А можно мне взять туда носовые платки? – послышался из-за ширм робкий голос Петра Иваныча.
– Нельзя, – отвечал Кокин.
– Но у меня нет скверного платья, – снова умоляюще проговорил Пётр Иваныч.
– Надевай то, что есть! Ты продашь своё платье и купишь другое! Лишние деньги немедленно пропьёшь.
– А что я там должен делать?
– Ты будешь пока заниматься мелкими кражами. Через неделю получишь приказания.
– И меня будут бить! – с отчаянием произнёс голос Петра Иваныча.
– Я ничего не понимаю! – воскликнула, вскакивая с кресла, Марья Николаевна. – Или я сумасшедшая, или вы оба смеётесь надо мной. Пётр Иваныч, подите сюда!
Пётр Иваныч показался из-за ширм. На нём был старый серый жокейский картузик, косоворотка, коротенький пиджак и старые короткие брюки. Видом своим он напоминал странствующего венгерца.
– Пётр Иваныч! Вы поедете со мной! Переодевайтесь! Вы сейчас же едете со мной на дачу!
– Метлов! – загремел голос Кокина. – Пусть эта женщина немедленно выйдет вон!
– Он поедет со мной! – пылко кричала Марья Николаевна. – Если нужно, он будет скрываться целый месяц у меня. Его никто там не найдёт. Пётр Иваныч, одевайтесь!
– Метлов! Пусть эта женщина сейчас же убирается вон!
Но Марья Николаевна пылала гневом, а в этом состоянии ничто не могло её удержать. Неожиданно крикнув: «Сами убирайтесь вон!» – она, закусив губы, так решительно двинулась на своего врага, что толстяк, сочтя за лучшее поспешно отступить, наткнулся задом на кресло и, потеряв равновесие, сначала сел, а потом перекатился через него, по дороге опрокинув стол и больно стукнувшись затылком о стену. Унизительное положение в соединении с болью мгновенно привели его в весёлую ярость и, подскочив, как мяч, он, в свою очередь, с такою же стремительностью ринулся на Марью Николаевну и так страшно затопал ногами, диким голосом крича: «Вон! Или сейчас же убью!» – что окончательно растерявшаяся женщина кинулась к дверям и, быстро приняв из рук Петра Иваныча шляпу, перчатки, сак и зонтик, исчезла. Удаляясь, она с рыданием крикнула: «Вы оба мерзавцы и негодяи!»
– Уф, – произнёс, отдуваясь Кокин. – Ну, я тебе скажу, женщина! Это – женщина! Но теперь я ручаюсь, что она больше не придёт. Однако же, и здоровую же я себе посадил шишку! Ну, и женщина! Метлов, немедленно идём пить пиво, я умираю от жажды.
Приведя себя в надлежащий вид, приятели, хохоча и припоминая все перипетии боя, отправились праздновать освобождение от врага. Просидев в самом радужном настроении часа два в ресторане, где Пётр Иваныч привёл весь персонал в немалое затруднение, упорно требуя себе бутылку «пропеллера», они вышли снова на улицу и в ожидании вдохновения, чтобы создать план действий на целый вечер, медленными шагами направились к комнате Петра Иваныча.
По дороге Петру Иванычу пришла мысль купить у фруктовщика большой арбуз и он чинно нёс его на плече, гостеприимно угощая им всех встречающихся дам. А у себя в комнате раскрыл окно, поставил на самый край подоконника тарелку, положил на неё арбуз, воткнул в него нож и вилку и, усевшись около окна, с интересом ожидал, какая рыба клюнет на эту приманку.
На панели происходило большое гулянье. Неожиданное появление на подоконнике великолепного арбуза, так великодушно выставленного для общего пользования, произвело сенсацию: перед окном останавливались кучки любопытных, и Пётр Иваныч неустанно и очень учтиво приглашал дам зайти к себе.
Три прехорошеньких весёлых девушки, давно уже привлекавших внимание Петра Иваныча, по-видимому, соблазнились радушным приглашением. Переглядываясь и хохоча, они направились в ту сторону, с которой был вход в комнату.
– Сейчас придут! – с торжеством заявил Кокину Пётр Иваныч и, встав около двери, взялся за ручку, чтобы немедленно открыть желанным гостям. Через минуту, действительно, послышался энергичный стук. С сияющим лицом Пётр Иваныч распахнул дверь и окаменел от ужаса; перед ним была Марья Николаевна.
Как ангел гнева и мести, она ворвалась в комнату и прежде всего дала Петру Иванычу одну за другой две очень звонких оплеухи. Затем, обратившись к Кокину, крикнула: «Вон отсюда, мерзавец!» – и в руках у неё блеснул вытащенный из ридикюля револьвер.
VI
Выскочив без памяти из своей комнаты, Пётр Иваныч целую неделю после этого провёл в ужаснейшем из всех состояний – в состоянии травимого неутомимым охотником зверя. Ежедневно, по три и даже по четыре раза в день, Марья Николаевна подъезжала на извозчике к его квартире, энергично стучалась в дверь, осведомлялась у прислуги, дома ли он, затем садилась в засаду и подстерегала его приход.
Только поздней ночью, крадучись и оглядываясь, как вор, Пётр Иванович решался пробраться к себе и, переночевав, ранним утром исчезал. Петра Иваныча пристукнула, наконец, настоящая беда, – такая беда, какой он никогда не знал и даже не предполагал. Он осунулся, побледнел, его великолепные усы унылыми сосульками повисли вниз, и его победоносная наружность получила взъерошенный и облезлый вид. Образ гневной Марьи Николаевны с револьвером в руке, преследовал его как кошмар; на улице Пётр Иваныч пугливо оглядывался на каждом шагу, и лишь только что-нибудь похожее на неё мелькало в толпе, немедленно вскакивал на извозчика, неистово гнал его и скрывался в каком-нибудь глухом ресторане, или кабаке, куда не мог проникнуть его враг.
Но от судьбы не уйдёшь. Однажды, под вечер, немного осмелев, Пётр Иваныч подобрался к своему дому и рассматривал окна комнаты, пытаясь по внешним признакам определить, скрывает ли она опасность или нет. Как раз в этот момент неожиданно загремели подъехавшие дрожки и, оглянувшись, он увидел именно ту, которой боялся больше всего. В паническом ужасе Пётр Иваныч рванулся бежать, но было уже поздно. Его нагнали. Знакомый голос повелительно крикнул ему: «Пётр Иваныч! Извольте идти сюда!» И он покорно подошёл, виновато виляя и говоря:
– А я и не узнал тебя, Маруся!..
– Извольте сесть! – И Пётр Иваныч сел. Ему даже не пришла в голову мысль, что можно соскочить с дрожек, бежать и спастись. Он только кротко и смиренно спросил:
– А куда же мы едем, Маруся?
Не говоря ни слова, Марья Николаевна привезла его в неизвестный дом – оказалось, что это была зимняя квартира её сестры, молча поднялась по лестнице, молча вошла в дверь, которую открыла старуха-прислуга и, когда они остались одни, закусив губы и тоже молча, принялась хлестать Петра Иваныча обеими руками по щекам.
Утолив свой гнев, она всё же простила его и в ней проснулась прежняя любовь. Она накормила Петра Иваныча вкусным ужином, напоила хорошим вином, и Пётр Иваныч, оглушённый, потрясённый, не успевший ещё прийти в себя, крепко заснул в её объятиях до следующего утра.
Но когда Пётр Иваныч проснулся на следующий день, его ожидал странный сюрприз: его собственное платье исчезло, неизвестно куда, и ему было предложено надеть военную тужурку с погонами, военные брюки и туфли. Покойный полковник был крупный мужчина с большим животом, и тужурка болталась на Петре Иваныче, как на вешалке, брюки делали сборы, подобно гармонике и туфли на каждом шагу сваливались с ног. Но Пётр Иваныч не смел протестовать: он боялся Марьи Николаевны, как огня.
Целое утро он подобострастно забавлял Марью Николаевну тем, что маршировал и зычным голосом командовал полком; затем они завтракали, играли в карты, обедали. После обеда Пётр Иваныч пел куплеты и романсы, которые знал во множестве. Вечером они пили чай, опять играли в карты, читали вслух, ужинали, потом легли спать.
Та же идиллия повторилась на следующий день.
На третий день с утра Пётр Иваныч почувствовал ужас. Он ничего не мог есть. А за завтраком и обедом он выпил всю водку, пиво и вино, какие были на столе. Под вечер, когда на улице стали зажигаться огни, пред ним волшебным видением вспыхнули картины прошлого: его комната, гулянье под окном, толстый Кокин, прелестные женщины, свободная и вольная жизнь… На Петра Иваныча нашёл припадок бешенства. Он ругался, носился по комнатам, опрокидывал стулья и столы, ломал шкапы и искал своё платье, и когда Марья Николаевна, закусив губы, принялась хлестать его обеими руками по щекам, он вырвался на лестницу и диким голосом закричал: «Караул!..»
Он хотел бежать вниз, но у него свалились туфли, он вспомнил про свой полковничий наряд, кругом приотворялись двери и смотрели любопытные глаза, – было стыдно, он горько заплакал и вернулся назад.
Маленькая жизнь
Я увидел этого солдата на бульваре в Одессе. Без шинели, в оборванном мундире, он, прихрамывая, подходил к сидящим, потряхивал своим Георгием и просил.
Он подошёл и ко мне. У него были ярко румяные щеки, изумлённые глазки и сложенные бантиком губы. Его толстое лицо было сплошь заткано сеткой красных жилок и, когда он остановился передо мной, то даже на расстоянии двух шагов мне ударил в нос крепкий запах винной бочки.
Мы столковались очень легко и через четверть часа сидели уже в соседнем погребке. Хозяин-грек поставил пред нами объёмистый графин белого вина, кусок сала, пяток яиц, и солдат принялся закусывать и выпивать. Ел он, звучно чавкая, медленно и со вкусом, и от него пахло застаревшей впитавшейся в тело грязью. Уставив на меня маленькие, похожие на пару оловянных пуговиц, глазки, он степенно и вразумительно говорил:
– Да, драгоценный вы мой, и скажу я вам так: жизнь моя, как есть, настоящий роман, и теперь я совершенно убитый человек. И убила меня война. Ушёл я туда сильным и молодым, а вернулся беспомощным калекой – ногу свело, в теле пять дырок от пуль, от всего отшибся и ничего не имею охоты начать. Но, всё-таки, не столь поразили меня вражеские пули, сколь собственная жена. Оттого и забросил себя, оттого и водочкой занялся, оттого и по ночам плачу. Но, однако, хочу вам всё подробно обсказать, а за угощение покорно благодарю. Я теперь по калечеству квасом торгую – куплю у знакомой бабы бочонок и продаю на базаре по мелочам, а что выручу, пропью. Но только на водку хватает. А вино это для меня, откровенно скажу, вроде как десерт. С большим удовольствием пью.
А жизнь моя, видите ли, такая: кончил здесь службу, не захотел в деревню, в необразованность и грязь, и поступил рассыльным в транспортную контору. Служил пять лет, никакого баловства себе не позволял и скопил четыреста рублей. А у меня всегда наклонность была собственное дело завести. Ну, пригляделся, понюхал и установил. Нет того полезнее дела, как тут вот у нас в порту мелочную лавочку открыть. Дела можно делать хорошие, особенно при умении. А у меня и знакомства там завязались, и народ там, хотя и пьяный, но верный. Присмотрел это я себе помещение, начал уже нацеливаться, чтобы снять, насчёт невесты тоже удочку забросил и нашёл одну очень даже подходящую девицу, из хорошего дома, и приданого, окромя всего прочего, деньгами триста рублей. Как есть, совсем уже на мази было жениться, но встретил теперешнюю свою жену и взял совсем новый курс.
Так, понимаешь, дорогой мой, почувствовал пристрастие, что так себе и сказал: или вот её, Анюточку, или больше никого. Не посмотрю, что в горничных служила – у доктора одного, в том же доме, где я, только с другого ходу – и что приданого за ней было только корсет да волосяные щипцы, и того во внимание не взял, что какое же может быть у горничной поведение, а того в голову вступило, что чисто как ошалелый ходил. Только о ней и думал. И хоть на лавочку хватило в самый обрез, но всё же на Анюточке женился и зажил хорошо.
И так, драгоценный мой, хорошо, что и не снилось мне – чисто в рай попал. Жена оказалась умница, помощница первый сорт, поворотливая да быстрая, и по хозяйству всё обернёт и в лавке не хуже меня сидит, и дело пошло хорошо, заторговал – лучше желать нельзя. И главное, дорогой мой, любились мы, как два голубка. Целую неделю вместе в одном гнезде воркуем, а в праздник после обеда нарядимся, возьмёмся под ручку и давай гулять. Гуляем и всё-то я округ неё хлопочу, чтобы даже ветерком на неё не дохнуло.
Прожили так, дорогой мой, лучшего не желая, три года, как три дня, и вдруг – война! Так это сразу и обомлел: пронесёт, аль не пронесёт? Потребуют, али нет? Целый месяц ни жив, ни мёртв ходил, всё ждал смертельного удара, однако прошло с полгода, уже успокоился совсем и вдруг – бац! Пожалуйте! Не угодно ли на край света, в Манчжурию, с японцами воевать!..
Затрепыхался, засовался, как малый мышонок, но спасенья нет. Еле-еле успел лавочку и товар перевести на жену, отдал ей все деньги, оставив себе только пятьдесят рублей, сунули меня, раба Божия, в вагон и повезли.
Не помню, как и с супругой своей прощался, не помню, как и ехал. Чисто обухом тяпнуло по темени, сижу, выпучив глаза, – промеж таких же горюнов, как я, и не понимаю ничего. И до самого конца, милейший вы мой, ничего понять не мог и назад вернулся – никакого понятия не нашёл. Так до сих пор без понятия и хожу.
Но, однако, горюй, не горюй, заливайся горючими слезами, сколь хошь, а поезд бежит, да бежит. Проехали мы Россию, перевалили в Сибирь. Ехали, стояли, ждали, опять ехали, водку с горя пили, песни спьяна орали, друг на дружке вповалку спали, и с каждым днём всё ближе да ближе. Молил я, окаянный, Господа Бога, чтобы не доехать бы нам никогда, однако не помогло, и двадцать девятого января, вот как сейчас помню, часов так в 12 прибыли мы, бесценный вы мой, в город Мукден, а второго февраля в пять часов утра, не дав даже вздохнуть, погнали нас на передовые позиции к Сандепу. Вёрст пятьдесят, должно быть, надо было пройти, а дорога там одни горы, да снег. И ни села тебе, ни деревни, ни домишка, ничего, так что окончательно только потому и шли, что остановиться хуже. Занесёт тебя снегом, и каюк!
Так вот, драгоценный вы мой, пришли мы на передовые позиции к вечеру, часов так в семь, легли в фанзах – дом это по-ихнему – спать, а на утро сейчас же траншей рыть. А земля мёрзлая, промёрзла наскрозь, чисто на сажень, так что рыть очень тяжело, и рыли мы долго – можно так сказать, что всё время, до самого конца, и подходили ещё войска и тоже рыли и растянулся наш фронт, так сказать, чуть не на двадцать вёрст.
А он против нас на сопках сидел, но на открытое дело не выходил, а шла только одна перестрелка. И натерпелся я тут, драгоценный вы мой, столько, что невозможно пересказать. Днём это траншеи роешь, с рук от морозу шкура слазит, и тут же тебе и пули, и шимозы, и шрапнель, а ночью отогреешься в землянке, вспомнишь про супругу милую и раздерёт тебе сердце ровно скребком, а слёз нету, потому весь окаменел. Но, конечно, скоро окончательно всё позабыл, потому как ежечасная трескотня и в голове один звон, а если и выдастся свободное время, то надо всё в порядок привести, и амуницию, и тело, и душу. Потому что война дело строгое. И душа тут первая вещь, а не то, что, как легкомысленный солдат, чуть посвободнее, так сейчас и в орлянку играть. И таких много было, но расскажу вам так: соберутся это они, столпятся, словно мошкара, а он с сопок всё видит. Как хватить шимозой, так и орлянке конец. Кто разбежался, а кто на месте лежит.
Ну-с, простояли мы так недели две, а потом как стал он обходить нас, так чисто побросали всё и пошли с отступлением на Мукден – так что потеряли напрасно и время, и траншеи. А что народу погибло, то невозможно сосчитать. И бывало так: лежит мёртвый, а у него нос, либо руку собаки отъели. Поглядишь на него – мёртвый, как мёртвый, а приглядишься хорошенько и видишь: лежит он в таком положении, что вовсе ему незачем так лежать, а выходит, что он ещё был живой, когда собака ему руку глодала. Подумаешь, что так вот и с тобой может случиться, и спервоначала было страшно, а потом окаменел ещё пуще и – ничего.
Отступили мы, значит, от Сандепу и дальше стали отступать. Всё время отступали и до чрезвычайности я это не одобрял, потому что не оттого мы отступали, чтобы он уж как супротив нас был силён, или учен, а мы-то больно уж плохи. Посудите сами: сидит в Порт-Артуре главный адмирал, с ним свиты видимо-невидимо и все пьют шампанское. Вдруг летит адъютант: доложите, говорит, что я с самого моря.
Выходит к нему главный адмирал: «Так и так, Ваше Высокопревосходительство, Паллада и Ретвизан неприятельскими снарядами утоплены на самое дно».
А тот:
– Это ничего. Построим новые. А скажите, командиры на судах были?
– Никак нет. На берегу были.
– А команда на судах была?
– Никак нет. Тоже на берегу.
– А! – говорит. – Ну, так это завсегда легко пустой броненосец потопить! – И сейчас же: – Генерал, будем писать Государю в Петербург телеграмму: Паллада и Ретвизан, приняв бой, геройски погибли с сильным неприятелем. А командирам для поощрения выдать ордена.
Вот оттого и отступали всё, оттого и проиграли всё. Отступили на Сандепу, и от Мукдена тоже с большой поспешностью стали отступать. Так что утром вдруг всё двинулось и люди, и пушки, и кавалерия, и всё мимо нас. Ну, мы ждали, ждали, да и тоже снялись. Да и ладно, а то забыли было про нас. Снялись и пошли. А снег! А ветер!.. А он уж на сопках кругом сидит, да из пушек бьёт. Нехорошо, я вам скажу, было. Сначала честь честью шли, а после вовсе перепутались и сами не знаем, как, что и куда. И что тогда безобразия всякого было! Я рассуждаю так: ну, какая мне польза, что набью я себе карманы золотом, да тут же и лягу. А легкомысленный солдат не то. Видит деньги и сейчас алчность. Денежные ящики стали разбивать. Накинутся это, как собаки, копошатся, как черви, а он всё видит. Нацелится, да как ахнет, – и нет тебе ни ящика, ни людей, а только мокреца.
Отступали так, сколько уже времени и не помню – всё перепуталось в голове – чисто одичали все – без пищи и питья, разве сухарь когда, как собаки, погложешь, только и задержались на Шахэ, потому что она широкая и берег у ней отвесистый. Так что перешли мы её, а нас и воротили. В цепь, потому что он на том берегу густо показался.
Ну-с, вернулись мы опять, а река, я вам скажу, шириной так с версту, и наш берег высокий, сажени в две. Насилу сошли с него и прямо в снег. А снег по пояс. Бредём цепью по снегу, а он на том берегу тоже цепь раскинул, да всё наседает! Мы огонь открываем, а он ещё шибче, и с сопок ползёт – так, я вам скажу, словно букашек – видимо, невидимо. Ну, что же нам делать? Не погибать же тут в снегу, на голой реке? Пошли назад, да хорошо, что подъехали две батареи пушек. Побили у него несколько народу – он и отошёл.
Вылез я тогда, опять на этот двухсаженный берег, лёг и нет больше моих сил. Лежу за кустом и тут за кустом о супруге своей милой вспомнил, и как ждёт меня она, и о лавочке – обо всём, а до сих пор с самого Сандепу чисто вышибло всё у меня из головы. Лежу на снегу, да плачу. Однако, вижу, что не дойдёшь так, и вижу, что надо себя облегчить. А на мне патронов двести семьдесят штук и ранец со всем солдатским припасом.
Снял я этот ранец, разбираю, что бы там выкинуть, гляжу – и это нужно, а это ещё нужнее, а без этого уж никак не обойтись! Думал, думал, да взял, упаковал всё окончательно хорошо и сложил мой ранец под кустом.
– Покойся, милый свет, до радостного утра! Пусть меня японец какой добрым словом помянет!
Встал и пошёл налегке. Пришли мы тогда к ночи в деревню одну. Фанз нет, всё раненые, да офицеры. Улёгся на улице в обнимку с товарищем, и продрожали так голодные до утра. Утром дальше тронулись и опять к вечеру пришли в деревню. Ну, тут стало легче. Прежде всего, запасов всяких видимо-невидимо, и казаки их жгут. Пойдёшь, наберёшь себе рису и рыбы и сваришь похлёбку. Так что там мы исправились, и не хотелось никуда уходить, потому что фанзы больно хороши – просторные и тёплые, – знай себе лежи.
Так-то вот лежу я в одну ночь и сплю и вдруг меня взводный будит:
– Что такое? – говорю.
– Вставай, – говорит, – тебе в секрет идти.
А у меня словно предчувствие какое, и говорю:
– Да я сегодня будто как нездоров!..
– Нечего, нечего!.. – говорит. – Капитан велел тебе идти.
– Ну, что ж? – думаю. – Раз начальство, тут уж ничего не поделаешь. – Встал и пошёл.
– Кто, – говорю, – со мной?
Пошли это мы, вышли так за версту от траншей и легли на берегу в кустах. А река и тут берег имела обрывистый и сама широкая.
Ну-с, лежим. Светло было, луна и река эта, как скатерть, так что всё видно. А сзади тоже светло – равнина такая и чернеется эта самая наша деревня. Лежу это я и думаю себе: понапрасну только побеспокоили нас. Мыслимое ли дело, чтоб он, хитрый такой, да в такую светел на нас полез! Проходит это час, потом другой, потом третий и что бы вы думали? Гляжу и вижу, – через реку наискосок он так и идёт!
Подпустили мы его несколько поближе, да как дадим! И пошли чистить. И тогда – Боже ты мой, что только сделалось! Он с того берега жарит, а от траншей наши тоже так и сыплют, так что очутились мы, драгоценный вы мой, между двух огней. Залегли в канавку, лежим, а пули над нами, как птички, так и поют.
Потом вижу, что дело становится плохо, наступает он и как бы нам ему не попасть. И говорю:
– Делать, мол, нечего. Попробуем, ребятки, до наших добраться. Ко́том пойдём.
Так и пошли. Обхватили винтовки руками, да так на боку и катились. Катились, катились – ничего, благополучно докатились до самых траншей.
И видим, делается он дерзости непомерной – ну, уж просто не дале, как на триста шагов подошёл. Наш ротный и говорит:
– Ребята, кто охотником в штыки пойдёт?
А сам он кавказец был, такой, что ни Бога, ни чёрта не боялся. Как жалованье получит, так всё время вдрызг пьян, так и говорит: «Пока у меня есть деньги, я не человек!» А как протрезвится, очень обходительный и простой. Так вот:
– Кто, говорит, охотником? Чего он, так его и так, над нами куражится?
Ну, я разгорячился и тоже пошёл.
И что бы вы, драгоценный мой, думали? Мы на него в штыки, а он на нас! Так и сбежались. Ну, однако, мы ему тут хорошо дали и далеко назад угнали, так что на утро генерал приезжал, смотрел и благодарил. А лежало его, словно валежнику, по снегу очень много.
Тут-то меня и ранили. Сгоряча ничего не почувствовал, а как обернули назад, я и давай падать. Товарищ меня поднимает: ты, говорит, Никаноров, чего дурака валяешь? А я уж и сомлел. Поглядели – а в ноге у меня штыковая рана до кости и в теле пять дырок от пуль.
Ну-с, положили меня в лазарет. Пули скоро заросли, а от штыка очень долго маялся, так что свело мне ногу вроде как крюк, и постепенно только её привели в прежнее положение, но и не то не совсем. И как вышел я для строя боле негодным и притом же получил сильнейший тиф, то решено было меня к отправке домой.
Тут-то, драгоценный вы мой, как стал я оправляться после тифу и приходить в себя, так тут и вспомнил окончательно про супругу мою милую и про лавочку, и про все дела, и чисто заплакал от умиления души!
– Господи, – думаю, – многомилостивый владыко! Жил в грехах, хоть и в маленьких, но скверных, забывал тебя всю свою жизнь, а ты – на-ко, погляди! И через войну меня провёл, через голод и холод, чрез кровавые раны и лютую болезть и обращаешь меня обратно, в мой родной приют!..
Лежу вот так, и в умилении Господа благодарю. А от жены, между прочим, ни письма, ничего, ни гу-гу. Но и я, конечно, тоже не писал. Да и где, посудите сами? Всё время отступали, воевали, вшей в траншеях кормили – никакой возможности не было писать.
Ну-с, попросил я тут из госпиталя сестрицу и написали мы супруге письмо – так, мол, и так, благодарение Богу, всё благополучно окончил и собираюсь я скоро домой. Написали, отправили, жду, пожду – ответа нет. Нетерпение меня, дорогой вы мой, чисто так и ест. Написали ещё, потом телеграмму стукнули и тоже никакого результата. А из Одессы, между прочим, нехорошие вести идут – бунты там, непорядки и прочее. Ну, истомился я совсем, однако не подозреваю ничего – так себе, думаю, на почте какая-нибудь забастовка вышла. Дождался времени, вошёл окончательно в силу, отправили меня в Россию. Еду это на поезде – сам уж не знаю, радоваться, или горевать, но всё же никак не ожидаю того, что произошло.
Приехал утречком, так что спали ещё все, в Одессу, шасть бегом к себе, к своему дому. Вошёл во двор, аж бьёт меня всего. Спрашиваю дворника:








