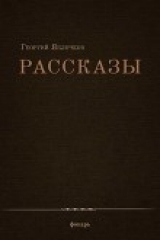
Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Георгий Яблочков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
IV
Мать так и ахнула, увидя, каков он стал, но, не отвечая на её расспросы, он прямо спросил:
– Мамаша, а у Панкратовых свадьба была? – и когда узнал, что на прошлой неделе была, то, не говоря ни слова, вышел на двор, влез по лестнице на сеновал и уткнулся там лицом в сено.
Сильно волнуясь, мамаша бегала внизу и кричала:
– Пётр, а, Пётр! Петя. Да сойди же ты вниз. Хоть поешь, с дороги-то. Вот какие ноне дети пошли. Приехал, целый месяц в чужом городе сидел, чуть не умер там, и заместо того, чтобы с матерью поговорить, на сеновал полез.
Но Петя поглядел на неё из сеновальной двери мутными глазами и проговорил:
– Мамаша. Оставьте меня в покое, а то я, пожалуй, удавлюсь.
Он пролежал на сеновале часа три и думал разные мысли: то хотел пойти к кондитеру и убить его, то решал украсть Анночку и убежать с ней в лес, ещё думал пойти ночью к их спальне и повеситься на дереве, чтобы, проснувшись, они увидели его высунутый язык, но, главное, чувствовал, что Анночка пропала для него навек, что ею теперь владеет, ласкает и целует другой, и это жгло так, что, набив в рот сена, он жевал его и мычал.
К вечеру, однако, он сошёл с сеновала, вошёл в горницу и сказал матери:
– Ну, мамаша, теперь я конченный человек! Не знаю ещё, что, но, должно быть, сделаю что-нибудь.
Потом попросил поесть и начал рассказывать про болезнь, про брата и про дела… Мамаша потеряла голову. Раз по пяти в день она ходила к родственникам и знакомым, пила чай, плакала, советовалась и жаловалась на Петю.
– Ну, уж и сынок! – говорила она, – Вот так милый сын! Вон он где у меня сидит. До самых до печеней дошёл. Когда маленьким ещё был, так что с ним было хлопот – то на реке чуть не утопится, та ему голову камнем расшибут, то сам кого-нибудь раскровенит. Ну, вырастет, думала, тогда спокойствие с ним найду, да, видно, уж только в могилке успокоиться придётся. Вот Серёженька – слова не скажу, умный, почтительный, настоящий сын, а этот, прости Господи, обалдуй какой-то, а не человек…
А Петя сидел с приказчиком в лавке и думал про себя так:
– Стало быть, всё врала. Любила бы, так бы не пошла. Сказала бы: не хочу, и никакой поп не стал бы венчать. Просто кондитершей захотела стать. Знаю я этих баб…
Сердце его ожесточалось всё сильней, и, попивая жидкий чай, он угрюмо смотрел перед собой и представлялось ему, что хорошо было бы сделаться разбойником, поселиться с шайкой в лесу, грабить и убивать. И захватить бы на дороге кондитера с Анночкой, его бы сейчас же в болото вниз головой, а её продержать в подземелье три дня, потом прийти и сказать:
– Вот, полюбуйся, что ты из меня сделала, дрянь!..
И, сам не замечая, он хотел только одного: встретиться с Анночкой ещё хоть один только раз и хоть одним глазком поглядеть, какая она стала теперь. С этими мыслями он ходил ко всенощной и обедне, с этими мыслями выходил на большую дорогу и на бульвар, но нигде её не встречал.
Через неделю, или полторы шёл он в воскресенье, после вечерен, по бульвару, поговорить со знакомыми, продрался сквозь сирень на другую дорожку, чтобы идти домой, да так и обомлел. В десяти шагах и прямо на него идёт Анночка, и её чинно ведёт под ручку кондитер в новом пальто и в котелке. Петя хотел, было, уйти сейчас же назад, в кусты, но вдруг так и забрало его. Шагнул прямо навстречу, снял картуз и громко проговорил:
– Здравствуйте, Анна Григорьевна!..
Анночка взглянула на него, остановилась и прежде, чем кондитер успел её поддержать, свалилась боком на траву.
Что стало тут с Петей, он и сам не мог понять. Помнил только, что пришёл к мамаше домой и сказал:
– Ну, мамаша! Таскайте меня за волосы и бейте палкой, сколь хотите, а я теперь запью. У меня перевернулось всё сердце.
И запил… Пошёл к Алексеичу, утащил его к Андрею Ильичу на завод, пьянствовал там целую ночь, а утром нанял лошадь и поехал за пять вёрст в усадьбу, к мужу сестры Алексеича. Снова пил там водку, плакал, разбил кулаком печку и всякий раз, когда вспоминал, как Анночка упала, хотел себя убить, но не мог решиться, потому что очень уж было жалко мамаши… Через три дня, когда он снова был на заводе, разыскал его дядя Степан, мамашин брат, долго стыдил и тащил домой, но не мог ничего поделать и за компанию запил сам.
А Петя никак не мог понять, зачем в мире несправедливость? Анночка его любит, и он её любит. Зачем же им страдать? Хватал дядю Степана за ворот, пригибал его к земле и кричал:
– Хочу справедливости! Чтобы всем было хорошо. Стану революционером. Жизнь за это отдам.
Возвращаясь домой, встретил пьяного мужика, пошёл, обнявшись с ним, по улице, целовал его и кричал, что умрёт за народ, пока не выбежала мамаша и не стала трясти его за волосы и колотить по спине палкой. А он только плакал и твердил:
– Ещё, мамаша, ещё! Хорошенько. Я подлец. Обидел её, а она страдает.
Потом он решил умереть. Полезли они – он, Алексеич, дядя Степан, который не отставал уже теперь ни на шаг, и ещё кто-то – уж не помнил даже, кто, на колокольню звонить. Добрались до площадки, взялся Петя за верёвку от большого колокола, остальные за средние и малые – пошёл частый перезвон, а он раскачает, да как ударит – так по всему миру гул и пойдёт. Звонил, звонил, взглянул, – увидел синее небо, на нём белых голубей, реку, за рекой лес – весело, хорошо! Подумал, что с Анночкой покончено навсегда, хватил изо всех сил железным языком в медный бок, крикнул: «Прощайте, братцы! Не поминайте лихом!» – и кинулся к решётке, чтобы прыгнуть вниз.
Его ухватили за фалды и потащили с колокольни, а он кричал:
– Пустите меня! Хочу умереть!
Вырвался от них, побежал к реке, разделся, крикнул опять: «Прощайте, братцы!» – и бросился в воду. Сбежался народ, поехали за ним на лодке – мамаша убивалась на берегу, а он переплыл реку два раза взад и вперёд, но только измучился, а утопиться не мог.
V
Вскоре после этого Петя пришёл в себя – нельзя же пьянствовать всю жизнь. Он проснулся утром на сеновале, огляделся мрачно кругом, счистил с волос сено, сошёл вниз и вылил себе из колодца на голову пять ведёрок воды. Потом причесал волосы, помолился и чинно сел пить чай. Мамаша принялась было стыдить его:
– Давно пора. Поглядел бы в зеркало на харю-то свою, как её роспил. Чисто леший стал. И в городе-то все над тобой смеются.
Но он сурово прервал:
– Мамаша, не тревожьте меня. А то я, пожалуй, опять запью.
Он решил, что Анночку надо забыть. Чего уж тут?
Отрезано, всё одно, совсем. С суровым и окаменелым лицом, сидел он в лавке и упрямо гнал все мысли о ней. Но душа его точила слёзы, сплетая из этих слёз чудесный венок, и чем дальше, тем он сильнее её любил. Нестерпимо хотел повидать Анночку ещё раз, взглянуть в её светлые глаза и что-то ей сказать, но нарочно её избегал. Надо забыть.
Но однажды, недели так через две, шёл по площади, на которой весной опрокидывал будку – нужно было ему в казначейство зайти и столкнулся с Анночкой лицом к лицу. Хотел было пройти мимо, но не смог. Остановился, остановилась и она, постояли они так, ничего не говоря – а кругом народ ходит, смотрит на них – и Анночка со стоном сказала:
– Не могла я, Петя. Силой заставили меня, – встрепенулась и пошла.
Кинуло было Петю броситься за ней, схватить её и унести, но увидел впереди кондитера, стиснул зубы и прошёл.
После этого точно отравило его. Он хотел только одного – не думать об Анночке совсем, забыть её, как можно скорее, а она ни на минуту ни днём, ни ночью не выходила у него из головы.
В мае месяце был большой вечер у Севастьяновых, почтённых купцов, и нельзя было никак туда не пойти, потому что там собирались все. Надел Петя сюртук, пришёл, поздоровался с хозяевами, потом ушёл вниз, в комнату Васи, хозяйского сына, и стал там курить. Хотел было просидеть так весь вечер, но не вытерпел, поднялся наверх, прошёл по комнатам и видит: в гостиной, на диване сидит среди молодых дам Анночка, бледная, худая, лицо как у мученицы на картинах, и разговаривает с хозяйской дочкой. Так и облилось у него слезами сердце. Кликнул он Васю, хозяйского сына, пошёл с ним в комнату, где стояла запуска, выпил одну за другой семь рюмок и видит – подходит к столу с компанией кондитер. Забрало Петю, не стерпел он и громко сказал:
– Здравствуй, бламанже!
Вышел опять в залу, как раз, когда гармонист заиграл вальс, встал около дверей, начал глядеть на Анночку и позабыл всё. И когда заиграли польку, подошёл к ней и сказал:
– Позвольте вас, Анна Григорьевна, попросить.
Она вздрогнула, но пошла. И как только обнял её Петя рукой и начали они танцевать, так и забылись оба. Глядели друг на друга, видел Петя её светлые глаза и танцевал. Все уже кончили давно и уселись по местам, а они одни танцевали по пустой зале.
Потом спохватился, отвёл её на место, спустился вниз, в Васину комнату, сел на диване, закурил папиросу, но сейчас же бросил. Увидел на стене напротив заряженное ружьё, хотел, было, выстрелить в себя, но по лестнице кто-то шёл. Стукнулся тогда с размаху о стену головой, так что огонь посыпался из глаз, поднялся опять наверх и столкнулся у лестницы с кондитером. Увидел, что хочет кондитер ему что-то сказать, но не остановился, прошёл мимо, подошёл опять к Анночке и сказал:
– Позвольте нас пригласить в последний раз на кадриль.
Заиграли кадриль, пошёл Петя с Анночкой, видит – кондитер тоже к ней бежит и всё лицо перекошено от злости. Но, прежде чем успел дойти, взял её Петя, привёл на место и посадил.
Стали танцевать, ни о чем ни слова не сказали, только опять друг на друга смотрели. Так бы и заплакали оба навзрыд, потому что знали оба без слов, что прощаются друг с другом навсегда.
А кондитер стоял у дверей и, не спуская с них глаз, смотрел.
После кадрили посадил Петя Анночку на место, поклонился ей низко, взглянул в последний раз, пошёл и хлопнул сразу рюмок пять водки, так, чтобы оглушило его. Потом спустился в пустую Васину комнату, сел на диван и стал курить.
Выкурил одну за другой три папиросы, и вдруг отворяется дверь, входит кондитер и говорит:
– А! Куришь здесь…
Сел напротив Пети, уставился на него и сразу стало видно, что человек вне себя.
– Чего же, – говорит, – ты здесь сидишь?
– А тебе что за дело?
– Ах ты, дрянь! – сказал тогда кондитер. – Таких, как ты, мерзавцев убивать надо. Чего ты жену у меня отбиваешь? Я тебя без дуэли, как собаку, застрелю.
Снял со стены ружьё, взвёл курок и снова говорит:
– Хочешь, прохвост ты такой, застрелю тебя сейчас!
Положив ногу на ногу, Петя затянулся папиросой, загадал себе в уме, помолчал и ответил:
– Застрели.
– Не застрелю, думаешь, мерзавец ты такой! – и потихоньку подносит ружьё к плечу.
– Побоишься, где тебе…
– Побоюсь?
– Знамо, побоишься. Больно, брат, у тебя кишка тонка.
Грянуло тут, брызнуло огнём и оглушило, так что Петя не мог даже сразу понять, убило его или нет. Пришёл немного в себя, а кондитер, белый, как полотно, стоит перед ним и шевелит синими губами:
– Мимо, – сказал Петя и, увидев вершках в трёх выше головы чёрную дыру, – прибавил: – А немножко не угадал.
– Прости меня, Пётр Никанорыч, – чуть ворочая языком, говорил кондитер. – Сам не знаю, как вышло. Очень уж ты мне сердце разбередил.
– Ну, полно, голова, – ответил Петя. – Чего уж тут? И убил бы, так невелика беда… А я, брат, с ней только попрощаться хотел, – прибавил он, помолчав, встал и сейчас же ушёл.
Прошёл на бульвар, сел на лавочку на обрыве и тут только увидел, что дрожит с ног до головы, как осиновый лист. Долго сидел, смотрел на реку, на раскидистые дубы на той стороне, на красный серп луны, который, качнувшись, выходил из-за леса, и чувствовал, как, вместе с дрожью, точно сплывает у него что-то с души, и как становится ему легко и хорошо. Образ Анночки ушёл вдруг вдаль и не жёг уже, как раньше, а ласково грел, как сладкое воспоминание, точно она давно умерла.
Походил радостно по бульвару, повернул домой и, когда мамаша отперла ему дверь, сказал ей:
– А я, мамаша, теперь, должно быть, совсем оздоровел.
– Давно, голубчик, пора, – ответила мамаша и начала, было, говорить, но Петя, не дослушав её, ушёл в лавку и, увидев в обед проходившего мимо кондитера, вышел к нему и серьёзно сказал: – Вот что, Дмитрий Николаич. То, что было, то прошло, и теперь у меня нет против тебя ничего. А про старое давай забудем совсем.
Горбатый Карл
I
Раньше всех в детской палате просыпалась Лиза.
Она была совсем здорова, – только её сломанную ногу неприятно тянул тяжёлый мешок с песком, привешенный к блоку на потолке.
Утром ей всегда страшно хотелось вскочить и побежать, жизнь переливалась в ней тысячью ручейков, и от нетерпения и досады она принималась быстро стучать по тюфяку здоровой ногой. Поднимая мешок к самому, потолку, она сползала туловищем с постели, на руках дотягивалась до соседней койки и дёргала за распущенные волосы Анну, которая спала, закинув назад голову и разинув рот.
Потом усевшись на кровати, она начинала кричать: «Стёпка! Стёпка!» – и, подняв с полу туфлю, нацеливалась и ловко пускала её через всю комнату прямо ему в лицо.
Стёпка удивлённо вытаращивал глаза, несколько времени, ничего не понимая, лежал, потом соскакивал на пол и, как хромой цыплёнок, ковыляя залитой в гипс ногой, бежал умываться.
Когда он возвращался назад, на его острой рожице бутоном выделялся покрасневший нос.
Затем просыпались все.
Раскрывала свои тёмные глазки бледная Соня и, не двигаясь, начинала смотреть перед собой. Шевелился бедный Шура, забинтованный так, что казалось, будто на голову его надет чепчик, – и сейчас же принимался тихонько плакать. Ему звонко откликался из своей люльки Данилка, который терял рожок… И, наконец, просыпался горбатый Карл.
Он не лежал, а сидел, прислонив горбатую спину к протянутой поперёк кровати сетке и так, сидя, спал, откинув назад голову и важно оттопырив губы.
Он просыпался, открывал глаза, поднимал голову, осторожно поправлял в сетке горб и сурово обводил глаза кругом.
Тогда на момент все чувствовали себя неловко и притихали, как будто в палате появлялся кто-то совсем чужой.
Начинался день.
Сиделка Катя, похожая на маленькую весёлую мышку, волоча за собой хвостиком юбку, приносила кофейник, чашки и хлеб.
Закинув назад красивую голову, высокая, весёлая и сильная, входила сестра Анна.
Детские руки тянулись ей навстречу, и детские голоса хором кричали ей:
– Тётя Анна! Тётя Анна!
Дети хотели есть и жадно следили, как сестра Анна намазывала хлеб и разливала кофе.
Лиза, сверкая глазами, изо всех сил стучала о постель здоровой ногой. Стёпка – единственный из палаты, который мог ходить – вертелся, помогая разносить чашки, около стола и всегда старался стащить самый большой кусок. Но всегда попадался, получал подзатыльник, затем добровольно отправлялся в угол и там, уткнувшись лбом в стену, некоторое время тихо пищал.
Сестру Анну любили все.
Лиза взвизгивала от восторга, подпрыгивая на постели, хватала её за руку, любовно гладила и умильно говорила:
– Тётя Анна!.. Тётя Анна!..
И потом:
– А когда мне можно будет встать?..
Бледная Соня своими восковыми пальчиками тихо брала её за руку, клала её к себе на грудь и с восхищением закрывала глаза.
Маленький Данилка с задранной кверху ногой, которая так же, как у Лизы, была привешена к блоку на потолке, таращил свои водянистые глаза, подскакивал всем телом и, как кукла, выкрикивал: «мам-ма! мам-ма!..» – и бедный Шура при её приближении начинал безнадёжно всхлипывать, точно жалуясь ей, как тяжела и мучительна жизнь…
Один только горбатый Карл жадно и быстро ел, сосредоточенно двигая худыми щеками, не обращая внимания ни на что, весь погруженный в себя. И когда сестра Анна подходила к нему, его неподвижный взгляд, остановившись на ней, коротко и сурово говорил ей:
– Уйди.
От этого взгляда в добром и сильном сердце сестры Анны поднималась непонятная смута, которую, несмотря на всю суету, она тайно носила в себе целый день.
II
Целое утро дети испытывали страх.
После забвения ночи дом болезни, до краёв полный скорби и мук, просыпался и начинал свой томительный день.
Сестра Анна и сиделка Катя озабоченно мелькали, то появляясь, то исчезая, за стеной кто-то тяжко стонал и вздыхал и, как большая, серая змея к детской палате издалека медленно подползал страх.
Дети слушали и лежали.
Вдали хлопала дверь, слышался громкий разговор и весёлый смех – доктор начал свой обход.
Он появлялся на минуту в палате – маленький, черноглазый, румяный, ещё пропитанный воздухом улицы – быстро обходил все постели и говорил:
– Как дела, Лиза?
– Как дела Анна? Ты, клоп? Сосёшь?
– Соня, Соня, Соня… – он щекотал подбородок Сони.
– Бедный Шура, здравствуй! Болит? Степан, иди сюда!
Он хватал Стёпку и начинал сгибать и разгибать ему руку, крича: «Постой! Да постой же, болван!» – и Стёпка подымался на цыпочки, выше, выше, точно лез куда-то вверх, я пищал самым тоненьким голосом, каким только мог.
– Как дела, Карл?
Но Карл, не отвечая, и важно оттопырив губы, смотрел, и доктор, не дождавшись ответа, исчезал.
Дети опять лежали и слушали, как вдалеке кто-то вскрикивал, кашлял, жаловался и стонал.
Приходила сестра Анна, нежно поднимала на руки Шуру, приговаривая: «Мой бедный цыплёночек! Мой бедный цыплёночек!..» – и он, бессильно уронив голову, начинал тихонько и горько рыдать.
Его уносили.
Вдали хлопала дверь, слышались голоса, потом раздавался отдалённый вопль. Сначала слабый, потом сильнее и как будто ближе, потом, не переставая, один тонкий, пронзительный, как заливающийся колокольчик, крик.
Все притихли.
Лиза, покрываясь холодным потом, с головой укутывалась в одеяло. Соня бледнела, умоляюще складывала руки и начинала дрожать. Страх нарастал, вползал в палату, удушливым клубом наполнял всю комнату, и один только Карл сидел прямо и неподвижно, выше всех и ничего не замечал.
Когда Шуру, белого, чистенького, с бессильно запрокинутой головой приносили назад, дети, ещё полные ужаса, молчаливо лежали, и только иногда решался смеяться один легкомысленный Стёпка.
Но Лиза, сейчас же обрывала его.
– Молчи, Стёпка! – с негодованием говорила она. – Ты сам пищишь, когда доктор крутит тебе руку.
– А ты не пищишь? – обижался он. – Запищала бы, если бы тебе повертели так ногу.
– Ну так и не смейся! Шура маленький, а ты большой. Дурак!
Потом уносили Анну. Она была нервна и ещё по дороге начинала оглушительно визжать:
– А-я я-я-яй! А-я я-я-яй! – так, что сестра Анна, закусив губу, с ожесточением давала ей шлёпок.
Это не было страшно.
Анна кричала от нервов, а не от боли и, когда её приносили назад, она с засохшими на щеках полосами от слёз сейчас же принималась есть конфеты, которые всегда лежали у неё под подушкой и которые всегда старался своровать Стёпка.
Потом несли из других палат.
По коридору слышался тяжёлый топот ног, кто-то жалобно говорил и стонал, потом гулко хлопала дверь. Наставала напряжённая тишина, и вдруг издалека доносился заглушённый вопль. За ним другой, третий, – без конца.
Они раздавались потом, почти не переставая, то тише, то громче, разнообразные, разноголосые, но далёкие и глухие, точно это кричали сами стены. Дети знали, что там была женщина, у которой каждый день скоблили железом кость и которая всегда страшно кричала и лишалась чувств, и мужчина, который ревел, как бык, потому что доктор размахивался и прокалывал ему ножом живот. Страх нарастал, наполнял всю комнату, поднимался до потолка и опускался оттуда, как душный свод.
Но это было не всё.
Самое страшное было впереди.
Стёпка, который давно уже стоял у дверей на часах, вытаращив глаза, стремглав ковылял к постели и вытягивался во фронт. Все поспешно шевелились и потом затихали – наставала мёртвая тишина.
В коридоре слышался топот многих шагов, настежь распахивалась дверь, и в палату входил профессор.
Он входил, медленно переваливаясь, и с трудом переставляя ноги, точно на них были одеты чугунные сапоги. У него был горбатый нос и страшные, красные, волосатые руки, которые равнодушно висели вниз, – и Лизе казалось, что в палату двигается камень, который может спокойно всех раздавить.
Он обходил одну за другой все постели, и за ним шли все доктора, все сестры и целая куча незнакомых людей.
Он равнодушно слушал, когда румяный доктор почтительно говорил, иногда кивал головой, медленно поднимал одеяло и своей страшной рукой больно ощупывал тело. Потом, переваливаясь, волоча ноги и болтая руками, со всей своей свитой уходил – и дети, не шевелясь, лежали и дрожали ещё полчаса, потому что каждый боялся, что сейчас придут, положат его на носилки и понесут.
Один Карл не боялся ничего.
Молчаливо и сурово он сидел, прислонив к сетке свой горб, и неподвижно смотрел прямо перед собой.
– Знаешь, Анна, – шептала иногда Лиза, нагибаясь к ней, – а всё-таки Карл храбрее всех. Мы все боимся, а он не боится ничего.
– Это оттого, – равнодушно отвечала Анна, – что он знает, что скоро умрёт.
И, нагнувшись друг к другу, они начинали шептаться о том, что у Карла в горбу сидит гной, который должен его задушить.
Это сказала им однажды сиделка Катя, и Лизе казалось с тех пор, что Карл тоже это знает и оттого всё время молчит.








