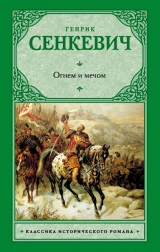
Текст книги "Огнем и мечом. Дилогия"
Автор книги: Генрик Сенкевич
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 56 страниц)
Глава XXVI
Опять пришлось осажденным возводить новые валы и лагерь в размерах уменьшить, чтобы свести на нет почти уже законченные казаками земляные работы, а поредевшим рядам воинов легче было держать оборону. Копали всю ночь после штурма. Но и казаки не сидели сложа руки. Подкравшись бесшумно темной ночью со вторника на среду, они окружили лагерь вторым валом, много выше прежнего. И оттуда на заре, возвестив о себе громким криком, подняли стрельбу и стреляли целых четыре дня и четыре ночи. Много враги нанесли друг другу урона, потому что состязались наилучшие, какие только были на каждой стороне, стрелки.
Время от времени полчища казаков и черни устремлялись на штурм, но до валов не доходили, только пальба разгоралась все жарче. Неприятель, силы которого были велики, непрестанно сменял людей: одни отправлялись на отдых, другие посылались в бой. А в лагере неоткуда было взять подмены: те же солдаты, что стреляли с валов и поминутно срывались с мест, дабы отразить приступ, хоронили убитых, рыли колодцы и подсыпали повыше валы, чтобы надежней иметь заслону. Спали, а вернее дремали, у валов под градом пуль, сыпавшихся так густо, что по утрам их метлой можно было сметать с майдана. Четыре дня кряду никто не мог переменить одежды, которая мокла под дождем, сохла на солнце, в которой днем было жарко, а ночью зябко, – четыре дня никто еды вареной не видел. Пили горелку, подмешивая к ней для крепости порох, грызли сухари и рвали зубами высохшее вяленое мясо, и все это в дыму, под выстрелами, под свист пуль и громыханье пушек.
И «легче легкого было прямо в лоб или в бок получить угощенье». Солдат обматывал окровавленную голову грязной тряпицей и тотчас же возвращался в строй. Страшный был у воинов вид: изодранные колеты и заржавелые доспехи, мушкеты с разбитыми прикладами, глаза, красные от бессонницы, но каждый во всякое время начеку, постоянно крепок духом и – днем ли, ночью ли, в дождь или ведро – всегда готов к бою.
Влюбленными глазами глядели солдаты на своего полководца, забыв страх пред опасностью, штурмами, смертью. Геройский дух в них вселился; все сердца закалились, «крепостью исполнились» души. Во всем этом ужасе они стали находить упоение. Хоругви соперничали одна с другою: кто больше выкажет усердья, кто легче перенесет голод, бессонницу, тяжкий труд, кто выше проявит отвагу и твердость. До того дошло, что солдат трудно стало удерживать в окопах; мало им было отражать приступы – они рвались к неприятелю, как обезумевшие от голода волки в овчарню. Отчаянная веселость царила во всех полках. Обмолвись какой маловер о сдаче, его бы вмиг растерзали в клочья. «Здесь хотим умереть!» – повторяли все уста.
Всякий приказ вождя исполнялся с молниеносной быстротою. Однажды случилось князю при вечернем объезде валов услышать, что огонь квартовой хоругви Лещинских слабеет. Подъехав к солдатам, он спросил:
– Отчего не стреляете?
– Порох весь вышел – за новым послали в замок.
– Дотуда поближе будет! – молвил князь, указав на казацкие шанцы.
Не успел он докончить, вся хоругвь скатилась с валов, бросилась стремглав к неприятелю и обрушилась на шанцы подобно смерчу. Казаки были перебиты колами, скоблями, прикладами мушкетов, а четыре орудия заклепаны. По прошествии получаса победители, немалые, правда, понеся потери, возвратились в лагерь с изрядными запасами пороха в охотничьих рогах и бочонках.
День проходил за днем. Стягивалось вокруг лагеря кольцо казацких апрошей, словно клин в дерево, врезались в валы их траншеи. Стреляли уже со столь близкого расстояния, что, не считая штурмов, в каждой хоругви ежеденно погибало еще человек десять. Ксендзы не успевали причащать умирающих. Осажденные загораживались телегами, намётами, развешивали перед окопами одежду, шкуры; ночами хоронили убитых – кого где смерть настигала, – но тем ожесточеннее оставшиеся в живых бились на могилах павших. Хмельницкий готов был без меры проливать кровь своих людей, и с каждым новым штурмом множились потери в его войске. Такого отпора он сам не ожидал и рассчитывал теперь лишь на то, что время сломит дух и истощит силы осажденных. Однако время шло, а они все большее выказывали к смерти презренье.
Полководцы служили солдатам примером. Князь Иеремия спал на голой земле у подошвы вала, пил горелку, ел вяленую конину и – «небрежа высоким своим положеньем» – наравне со всеми стойко сносил вседневные труды и капризы погоды. Коронный хорунжий Конецпольский и староста красноставский самолично водили полки на вылазки, а во время штурмов стояли без доспехов под сильнейшим градом пуль. Даже те военачальники, которым – как Остророгу – недоставало опыта в ратном деле и на которых солдат привык смотреть без доверья, теперь, под рукою Иеремии, становились будто совсем другими людьми. Старый Фирлей и Ланцекоронский тоже спали у валов, а Пшиемский днем устанавливал пушки, а ночью рылся, точно крот под землею, подводя под казацкие мины контрмины, взрывая редуты и прокладывая подземные ходы, из которых солдаты, как призраки смерти, выскакивали прямо на спящих казаков.
В конце концов Хмельницкий решился на переговоры с задней мыслью во время этих переговоров хитростью добиться успеха. Под вечер 24 июля казаки закричали с шанцев солдатам, чтобы те перестали стрелять. Посланный парламентером запорожец объявил, что гетман желает видеться с паном Зацвилиховским. После недолгого совещания региментарии приняли его предложение, и старик выехал из окопов.
Издалека видели рыцари, как казаки на шанцах поснимали перед ним шапки: за недолгую бытность комиссаром Зацвилиховский успел снискать уваженье необузданных запорожцев – его почитал сам Хмельницкий. Стрельба вмиг прекратилась. Казаки траншеями приблизились к самому валу, рыцарство сошло им навстречу. Обе стороны держались настороженно, но без неприязни. Шляхта всегда казаков ставила выше черного люда и теперь, воздавая должное их отваге в бою и упорству, говорила с ними на равных, как рыцарю с рыцарем пристало, казаки же с восхищением разглядывали вблизи неприступное логово льва, которое не по зубам пришлось запорожскому войску со всей ханской ратью в придачу. Сойдясь, воины стали толковать меж собою и сетовать, что столько проливается христианской крови, а там и принялись угощать друг дружку табаком и горелкой.
– Эй, п а н о в е л и ц а р i! – говорили старые запорожцы. – Кабы вы прежде дрались так, не было бы ни Желтых Вод, ни Корсуня, ни Пилявцев. Черти в вас, что ли, вселились? Таких удальцов нам еще не случалось встречать на свете.
– А мы всегда такие! Хоть завтра приходите, хоть послезавтра…
– И придем, а пока, слава господу, передышка. Страсть сколько христианской крови пролито. Да и все равно голод вас сломит.
– Раньше король прибудет с подмогой, а покамест мы только-только рты после вкусного обеда утерли.
– А не хватит провианту, в ваших пошарим обозах, – сказал, подбоченясь, Заглоба.
– Дай Бог б а т ь к е Зацвилиховскому хоть что-нибудь выговорить у нашего гетмана. Не столкуются – ввечеру снова пойдем на приступ.
– Да и нам уже тошно.
– Хан обещается: всем вам «кесим» будет.
– А наш князь хана за бороду к хвосту своего жеребца привязать обещался.
– Чародей он, а все равно н е з д е р ж и т ь.
– Лучше б вы с нашим князем на басурман пошли, чем руку подымать противу власти.
– С вашим князем… Хм! А неплохо бы было.
– Так чего же бунтуетесь? Король скоро придет, вот кого надо бояться. Князь Ярема вам как отец родной был…
– Отец… Такой же отец, как смерть – матерь. Чума столько добрых молодцев не положила.
– Дальше хуже будет: вы еще не знаете князя.
– И не хотим знать. Старики наши говорят: который казак Ярему в глаза увидит, тому не миновать смерти.
– И с Хмельницким так будет.
– Бог знает, щ о будет. Одно верно: не жить им двоим на свете. Наш б а т ь к о говорит, кабы вы ему выдали Ярему, он бы вас отпустил подобру-поздорову и с нами со всеми королю поклонился.
Тут солдаты нахмурились, засопели и зубами заскрежетали.
– Молчать, не то за сабли возьмемся.
– С е р д и т е с ь, л я х и, – говорили казаки, – а все одно вам кесим будет.
Такой шел у противников разговор: то приязненный, то вперемешку с угрозами, которые против воли срывались с уст, грому подобны. После полудня вернулся в лагерь Зацвилиховокий. Ничего не вышло из переговоров, и насчет перемирия не столковались. Хмельницкий чудовищное поставил условие: чтобы ему выдали князя и хорунжего Конецпольского. Напоследок перечислил все нанесенные запорожскому войску обиды и стал уговаривать Зацвилиховского насовсем остаться с казаками. Вспылил старый рыцарь, такое услыша, вскочил и уехал.
Вечером начался штурм, большой кровью отбитый. Весь лагерь в течение двух часов был охвачен огнем. Казаков не только отбросили от валов: пехота заняла ближние шанцы, разворотила земляные укрепления, разбила стрелковые башни и спалила еще четырнадцать гуляй-городков. Но Хмельницкий в ту ночь поклялся хану, что не отступится, пока в окопах жив будет хоть один человек.
Назавтра чем свет снова пальба, новые подкопы под валы и с утра до вечера схватки, в которых все было пущено в ход: цепы, косы, скобели, сабли, комья земли и камни. Вчерашние добрые чувства и сокрушения над пролитой христианской кровью еще большей остервенелостью сменились. С утра накрапывал дождик. В тот день солдатам был выдан половинный рацион, отчего сильно брюзжал Заглоба; впрочем, на пустой желудок ярость воинов только усугубилась. Рыцари клялись друг другу лечь костьми, но не сдаваться до последнего вздоха. Вечером на штурм брошены были казаки, одетые турками, однако новые приступы длились короче прежних. Настала ночь «вельми бурливая», полная шума и криков. Стрельба не прекращалась ни на минуту. Завязывались поединки: бились и по одному, и по нескольку человек. Выходил и пан Лонгинус, но никто не хотел с этим рыцарем драться – по нему лишь стреляли с почтительного расстояния. Зато великую славу снискали себе Стемповский и Володыёвский, который в поединке победил знаменитого рубаку Дударя.
Напоследок вышел и Заглоба, но… на поединок словесный. «Не могу я, – говорил он, – после Бурляя об кого ни попало марать руки!» Зато остротой языка никто не мог с ним сравниться – старый шляхтич до исступления доводил казаков, когда, осмотрительно укрывшись дерниной, истошно кричал, будто из-под земли:
– Сидите, сидите под Збаражем, хамы, а войско литовское тем часом вниз по Днепру валит. Уж они поклонятся женам да девкам вашим. К весне пропасть литвинят в своих хатах найдете, если, конечно, отыщете сами хаты.
То была правда: литовское войско под командою Радзивилла и впрямь шло вниз по Днепру, все на своем пути предавая огню и мечу, лишь землю за собой оставляя и воду. Казаки об этом знали и, заходясь от ярости, в ответ подымали стрельбу – точно с дерева груши, сыпались на Заглобу пули. Но он, голову пряча за дерном, снова принимался кричать:
– Промахнулись, вражьи души, а я небось не промахнулся, когда рубился с Бурляем. Да-да, это я и есть! Знайте наших! А ну, выходи один на один! Чего, хамы, ждете! Стреляйте, покуда не допекло, по осени будете в Крыму вшей щелкать на татарчатах либо гребли на Днепре насыпать… Сюда, сюда, давайте! Грош цена вам всем вместе с вашим Хмелем! Съездите который-нибудь ему от меня по роже – Заглоба, мол, кланяется, скажите. Слышите? Что, мерзавцы? Мало еще вашего падла гниет на поле? От вас дохлятиной за версту разит! Скоро всех приберет моровая! За вилы пора браться, гологузы, за плуги! Вишни и соль вам вверх по реке возить на дубасах, а не против нас подымать руку!
Казаки не оставались в долгу: насмешничали над «панами, что втроем один сухарь грызут», спрашивали, почему оные паны не требуют со своих мужиков оброка и десятины, но Заглоба брал верх во всех перепалках. Так и велись разговоры эти, прерываемые то проклятьями, то дикими взрывами смеха, ночи напролет, под пулями, между стычками мелкими и крупными. Потом пан Яницкий ездил на переговоры к хану, который опять твердил, что всем кесим будет, пока посол не ответил, потеряв терпенье: «Вы это давно уже нам сулите, а мы все живы-здоровы! Кто по наши головы придет, свою сложит!» Еще требовал хан, чтобы князь Иеремия съехался с его визирем в поле, но то была просто ловушка, о которой стало известно, – и переговоры были сорваны бесповоротно. Да и пока они шли, стычки не прекращались. Что ни вечер, то приступ, днем пальба из органок, из пушек, из пищалей и самопалов, вылазки из-за валов, сшибки, перемещение хоругвей, бешеные конные атаки – и все ощутимей потери, все страшнее кровопролитье.
Дух солдата поддерживался какой-то ярой жаждой борьбы, опасностей, крови. В бой шли, словно на свадьбу, с песней. Все так уже привыкли к шуму и грому, что полки, отправляемые на отдых, в самом пекле под пулями спали непробудным сном. С едою становилось все хуже, потому что региментарии до прибытия князя не запасли достаточно провианту. Дороговизна стояла ужасная, но те, у кого были деньги, покупая горелку или хлеб, весело делились с товарищами. Никто не думал о завтрашнем дне, всяк понимал: либо король подойдет на помощь, либо всем до единого смерть, – и готов был к тому и к другому, а более всего к бою. Случай небывалый в истории: десятки противостояли тысячам с таким упорством, с такой ожесточенностью, что каждый штурм оканчивался для казаков пораженьем. Вдобавок дня не проходило без нескольких вылазок из лагеря: осажденные громили врага в его собственных окопах. Вечерами, когда Хмельницкий, полагая, что усталость должна свалить даже самых стойких, тишком готовился к штурму, его слуха достигало вдруг веселое пенье. В величайшем изумлении колотил он себя тогда по ляжкам и всерьез начинал думать, что Иеремия, верно, и впрямь колдун почище тех, которые были в казацком таборе. И приходил в ярость, и опять подымал людей на бой, и проливал реки крови: от гетмана не укрылось, что его звезда пред звездою страшного князя начинает меркнуть.
В казацком лагере пели о Яреме песни или потихоньку рассказывали такое, от чего у молодцев волосы подымались дыбом. Говорили, будто в иные ночи он является на валу верхом на коне и растет на глазах, покуда головой не превысит збаражских башен, и что очи у него как два полумесяца светят, а меч в руке подобен той зловещей хвостатой звезде, которую Господь зажигает порой в небе, предвещая людям погибель. Говорили также, что стоит ему крикнуть, и павшие в бою рыцари подымаются, звеня железом, и встают в строй с живыми рядом. У всех на устах был Иеремия: о нем пели д i д и-лирники, толковали старые запорожцы, и темная чернь, и татары. И в разговорах этих, в этой ненависти, в суеверном страхе находилось место странной какой-то любви, которую внушал степному люду кровавый его супостат. Да, Хмельницкий рядом с ним бледнел не только в глазах хана и татар, но и в глазах собственного народа, и видел гетман, что должен захватить Збараж, иначе чары его рассеются, как сумрак перед рассветом, видел, что должен растоптать сего льва – иначе сам погибнет.
Но лев сей не только оборонялся, а каждодневно сам выползал из логова и все страшней наносил удары. Ничто не могло его сдержать: ни измены, ни хитроумные уловки, ни прямой натиск. Меж тем чернь и казаки начинали роптать. И им тяжко было сидеть в дыму и огне, под градом пуль, дыша трупным зловоньем, в дождь и в зной, перед обличьем смерти. Но не ратных трудов страшились удалые молодцы, не лишений, не штурмов, не огня, крови и смерти – они страшились Яремы.
Глава XXVII
Много простых рыцарей стяжали бессмертную славу в достопамятные дни осады Збаража, но первым изо всех восславит лютня пана Лонгина Подбипятку, ибо доблести его столь велики были, что сравниться с ними могла лишь его скромность.
Была ночь, пасмурная, темная и сырая; солдаты, утомленные бдением у валов, дремали стоя, опершись на саблю. Впервые за десять дней неустанной пальбы и штурмов воцарились тишина и покой.
Из недалеких, всего на каких-нибудь тридцать шагов отстоящих казацких шанцев не слышно было проклятий, выкриков и привычного шума. Казалось, неприятель в своих стараниях взять противника измором сам в конце концов изморился. Кое-где лишь поблескивали слабые огоньки костров, укрытых под дерном; в одном месте казак играл на лире, и тихий сладостный ее голос разносился окрест; поодаль в татарском коше ржали лошади, а на валах время от времени перекликалась стража.
В ту ночь княжеские панцирные хоругви несли в лагере пешую службу, поэтому Скшетуский, Подбипятка, маленький рыцарь и Заглоба стояли на валу, переговариваясь тихо, а когда беседа обрывалась, прислушивались к шуму наполняющего ров дождя. Скшетуский говорил:
– Странно мне спокойствие это. Столь привычны стали крики и грохот, что от тишины в ушах звенит. Как бы подвоха in hoc silentio [194]194
в этом молчании ( лат.).
[Закрыть]не скрывалось.
– С тех пор, что нас на половинный рацион посадили, мне все едино! – угрюмо проворчал Заглоба. – Моя отвага трех условий требует: хорошей еды, доброй выпивки и спокойного сна. Самый лучший ремень без смазки ссохнется и трещинами пойдет. А если вдобавок его в воде, точно коноплю, непрестанно мочить? Дождь нас поливает, а казаки мнут, как же с нас не сыпаться костре? Веселенькая жизнь: булка уже флорин стоит, а косушка – все пять. От вонючей этой воды и собака бы нос отворотила – колодцы доверху трупами забиты, а мне пить хочется не меньше, чем моим сапогам: вон, поразевали пасти, будто рыбы.
– Однако ж сапоги твои и этой не гнушаются водичкой, – заметил Володыёвский.
– Помолчал бы, пан Михал. Хорошо, ты чуть побольше синицы: просяное зернышко склюешь да хлебнешь из наперстка – и доволен. Я же, слава создателю, не такого мелкого сложенья, меня не курица задней ногой выгребла из песка, а женщина родила, потому есть и пить мне положено, как человеку, а не как букашке; когда с полудня, кроме слюны, во рту ничего не было, то и от шуток твоих воротит.
И Заглоба засопел сердито, а пан Михал, хлопнув себя по ляжке, молвил.
– Есть тут у меня баклажка – с казака нынче сорвал, но, будучи курицей из песка вырыт, полагаю, что и горелка от столь ничтожного червя вашей милости не придется по вкусу. – И добавил, обращаясь к Скшетускому: – Твое здоровье!
– Дай глотнуть, холодно! – сказал Скшетуский.
– Пану Лонгину оставь.
– Ох, и плут же ты, пан Михал, – сказал Заглоба, – но добрая душа, этого у тебя не отнимешь – последнее рад отдать. Благослови господь тех кур, что подобных витязей из песка выгребают, – впрочем, говорят, они давно перевелись на свете, да и не о тебе вовсе я думал.
– Ладно уж, не хочется тебя обижать – глотни после пана Лонгина, – сказал маленький рыцарь.
– Ты что, сударь, делаешь?.. Оставь мне! – испуганно воскликнул Заглоба, глядя на припавшего к баклажке литвина. – Куда голову запрокинул? Чтоб она у тебя совсем отвалилась! Кишки твои чересчур длинны, все равно враз не наполнишь. Как в трухлявую льет колоду! Чтоб тебе пусто было.
– Я только чуточку отхлебнул, – сказал пан Лонгинус, отдавая баклажку.
Заглоба приложился поосновательней и выпил все до последней капли, а затем, фыркнув, заговорил уже веселее:
– Одно утешение, что, ежели нашим бедам конец придет и создатель дозволит из этой передряги живыми выйти, мы себя вознаградим с лихвою. Какая-никакая кроха и нам перепадет, надеюсь. Ксендз Жабковский не дурак поесть, но за столом ему со мной нечего и тягаться.
– А что за verba veritatis [195]195
слова правды ( лат.).
[Закрыть]вы с ксендзом Жабковским от Муховецкого услыхали сегодня? – спросил пан Михал.
– Тихо! – прервал его Скшетуский. – Кто-то идет с майдана.
Друзья умолкли; вскоре какая-то темная фигура остановилась возле них и приглушенный голос спросил:
– Караулите?
– Караулим, ясновельможный князь, – ответил, вытянувшись, Скшетуский.
– Глядите в оба. Покой этот не сулит добра.
И князь отправился дальше проверять, не сморил ли где сон измаявшихся солдат. Пан Лонгинус сложил руки.
– Что за вождь! Что за воин!
– Он меньше нашего отдыхает, – сказал Скшетуский. – Каждую ночь самолично все валы – до второго пруда – обходит.
– Дай ему Бог здоровья!
– Аминь.
Настало молчание. Все напряженно всматривались в темноту, но ничего не могли увидеть – казацкие шанцы были спокойны. Последние огни и те погасли.
– Можно бы их всех во сне накрыть, как сусликов! – пробормотал Володыёвский.
– Как знать… – отвечал Скшетуский.
– В сон клонит, – сказал Заглоба, – глаза уже слипаются, а спать нельзя. Любопытно: когда можно будет? Стреляют, не стреляют, а ты стой, не выпуская сабли, и качайся от усталости, как еврей на молитве. Собачья служба! Ума не приложу, с чего меня так разобрало: то ли от горелки, то ли от злости на утреннюю выволочку, которой мы с ксендзом Жабковским безвинно подверглись.
– Что же случилось? – спросил пан Лонгинус. – Ты начал рассказывать, да не докончил.
– Сейчас и расскажу – авось перебьем сон! Пошли мы утром с ксендзом Жабковским в замок – поискать, не завалялось ли где чего съестного. Ходим, бродим, заглядываем во все углы – хоть шаром покати. Возвращаемся злые. А во дворе навстречу нам патер кальвинистский – явился готовить в последний путь капитана Шенберка – того, что на Фирлеевых позициях вчера был подстрелен. Я ему и говорю: «Долго ты, греховодник, здесь околачиваться будешь да на всевышнего хулу возводить? Еще навлечешь на нас немилость Господню!» А он, знать, рассчитывая на покровительство каштеляна бельского, речет: «Наша вера не хуже вашей, а то и получше!» Как сказал, нас прямо оторопь взяла от возмущенья. Но я помалкиваю! Думаю себе: ксендз Жабковский рядом, пускай поспорит. А ксендз мой как зашипит и без размышлений свой аргумент выставляет: хвать богоотступника под ребро. Однако ответа на первый сей довод не получил никакого: тот как покатится, так и не остановился, покуда головой не уткнулся в стену. Тут случился князь с ксендзом Муховецким и на нас: что за шум, что за свара? Не время, мол, не место и не метода! Как школярам, намылили головы… Где тут, спрашивается, справедливость? Utinam sim falsus vates [196]196
Да буду я лжепророком ( лат.).
[Закрыть], но патеры эти фирлеевские еще на нас беду накличут…
– А капитан Шенберк на путь истинный не обратился? – спросил пан Михал.
– Какое там! Как жил, заблудшая душа, так и умер.
– И чего только люди коснеют в упорстве своем, отказывая себе во спасении! – вздохнул пан Лонгинус.
– Господь нас от насилия и казацких злых чар хранит, – продолжал Заглоба, – а они еще его оскорблять смеют. Известно ли вам, любезные судари, что вчера вон с того шанца клубками ниток по майдану стреляли? Солдаты говорили, куда ни упадет клубок, в том месте земля покрывается коростой…
– Известное дело: у Хмельницкого нечистая сила на побегушках, – сказал, осеняя себя крестом, Подбипятка.
– Ведьм я сам видел, – добавил Скшетуский, – и, скажу вам, милостивые государи…
Дальнейшие его слова прервал Володыёвский, который, сжав локоть Скшетуского, шепнул вдруг:
– А ну-ка, тише!..
И, подскочив к самому краю вала, стал прислушиваться.
– Ничего не слышу, – сказал Заглоба.
– Тсс!.. Дождь заглушает! – объяснил Скшетуский.
Пан Михал замахал рукой, чтоб ему не мешали, и еще несколько времени простоял, насторожившись; наконец он вернулся к товарищам и прошептал:
– Идут.
– Дай знать князю! Он на позицию Остророга пошел, – так же тихо приказал Скшетуский, – а мы побежим предупредить солдат…
И друзья, ни секунды не медля, припустились вдоль вала, по дороге то и дело останавливаясь и тихим шепотом оповещая бодрствующих воинов:
– Идут! Идут!..
Слова неслышной зарницею полетели из уст в уста. Спустя четверть часа князь, взъехав верхом на валы, уже отдавал офицерам распоряженья. Поскольку противник, видно, рассчитывал застигнуть лагерь врасплох, во сне и бездействии, князь повелел его в этом заблуждении оставить. Солдатам приказано было держаться как можно тише и подпустить врага к самой подошве вала, а затем лишь, когда пушечным выстрелом будет дан сигнал, внезапно на него ударить.
Воинам не пришлось повторять дважды: дула мушкетов бесшумно были взяты на изготовку и настало глухое молчание. Скшетуский, пан Лонгинус и Володыёвский стояли рядом; Заглоба остался с ними, зная по опыту, что наибольшее число пуль ляжет посреди майдана, а на валу, рядом с тремя такими рубаками, всего безопасней.
Он только встал чуть позади друзей, чтобы избежать первого удара. Немного поодаль опустился на колено Подбипятка с Сорвиглавцем в руке, а Володыёвский примостился рядом со Скшетуским и шепнул ему в самое ухо:
– Идут, спору нет…
– Ровно шагают.
– Это не чернь, да и не татары.
– Запорожская пехота.
– Либо янычары – они маршируют отлично. С седла бы побольше уложить можно!
– Темно нынче слишком для конного бою.
– Теперь слышишь?
– Тсс! Тише!
Лагерь, казалось, погружен был в наиглубочайший сон. Нигде ни шороха, ни огонька – сплошь гробовое молчанье, нарушаемое лишь шелестом мелкого дождичка, сеющегося как сквозь сито. Помалу, однако, к шелестению этому примешался иной, тихий, но мерный и потому более явственный шорох, который все приближался, все отчетливее становился; наконец в десятке шагов ото рва показалась какая-то продолговатая плотная масса, различимая лишь оттого, что была темноты чернее, – показалась и застыла на месте.
Солдаты затаили дыхание, только маленький рыцарь исщипал ляжку Скшетуского, таким способом выражая свою радость.
Меж тем вражеские воины подступили ко рву, спустили в него лестницы, затем сами слезли на дно, а лестницы приставили к внешнему склону вала.
Вал по-прежнему хранил молчание, будто на нем и позади него все вымерло – тишина стояла, как в могиле.
Но кое-где все же, сколь ни осторожен был враг, перекладины стали потрескивать и скрипеть…
«Ох, и полетят ваши головы!» – подумал Заглоба.
Володыёвский перестал щипать Скшетуского, а пан Лонгинус сжал рукоять Сорвиглавца и напряг зрение – будучи ближе всех к гребню вала, он намеревался ударить первым.
Внезапно три пары рук высунулись из мрака и ухватились за гребень, а следом, медленно и осторожно, стали подниматься три мисюрки… Выше и выше…
«Турки!» – подумал пан Лонгинус.
В эту минуту оглушительно грянули тысячи мушкетов; сделалось светло как днем. Прежде чем свет померк, пан Лонгинус размахнулся и ударил – страшен был его удар, воздух так и взвыл под клинком Сорвиглавца.
Три тела упали в ров, три головы в мисюрках скатились к коленам литвина.
Тот же час, хотя на земле стался ад, над паном Лонгинусом отверзлись небеса, крылья выросли за спиной, ангельские хоры запели в душе и в груди райское разлилось блаженство – и дрался он, как во сне, и удары его меча были точно благодарственная молитва.
И все давно преставившиеся Подбипятки, начиная от прародителя Стовейки, возрадовались на небесах, ибо достоин их оказался последний живущий на земле отпрыск рода Подбипятка герба Сорвиглавец.
Штурм, в котором со стороны неприятеля главное участие принимали вспомогательные отряды румелийских и силистрийских турок и янычары ханской гвардии, отбит был жестоко – басурманской крови пролилось больше, чем в прошлых сраженьях, что навлекло на голову Хмельницкого страшную бурю. Гетман перед приступом поручился, что турок ляхи встретят с меньшим остервенением и, если их отряды с ним пойдут, лагерю быть взяту. Пришлось ему теперь улещать хана и рассвирепевших мурз и умягчать их сердца дарами. Хану он преподнес десять тысяч талеров, а Тугай-бею, Кош-аге, Субагази и Калге отсчитал по две тысячи. Тем временем в лагере челядь вытаскивала трупы изо рва, и ни единый выстрел с шанцев ей в этом не препятствовал. Солдатам дан был отдых до самого утра, поскольку ясно было, что штурм не возобновится. Все спали крепким сном, кроме хоругвей, назначенных в караул, и пана Лонгина Подбипятки, который ночь напролет крестом пролежал на мече, благодаря бога, дозволившего ему исполнить обет и такую громкую стяжать славу, что имя его в городе и лагере не сходило с уст. Назавтра его призвал к себе князь-воевода и хвалил от души, а воинство целый день шло толпою поздравить героя да поглядеть на три головы, которые челядь принесла и положила перед его наметом и которые уже почернели на воздухе. Одни восхищались, другие завидовали, а кое-кто глазам отказывался верить: до того все три головы в своих мисюрках со стальными маковками были ровно срезаны – будто ножницами.
– Лихой ваша милость sartor [197]197
портняжка ( лат.).
[Закрыть]! – дивилась шляхта. – Слыхали мы о твоих рыцарских доблестях, но такому удару и герои древности могли б позавидовать – искуснейшему палачу не суметь лучше.
– От ветру шапка так не слетит, как головы эти слетели! – говорили иные.
И всяк спешил пожать пану Лонгинусу руку, а он стоял, потупясь, и сиял, и улыбался застенчиво и кротко, как невинная девица перед венчаньем, и говорил, словно бы в свое оправдание:
– Очень уж удобно они стали…
Многим хотелось испробовать его меч, но ни одному этот двуручный крыжацкий кончар по руке не пришелся, не исключая даже ксендза Жабковского, хотя тот подкову переламывал, как щепку.
Возле намета делалось все шумнее: Заглоба, Скшетуский и Володыёвский принимали гостей, потчуя их рассказами, поскольку больше было нечем – в лагере уже догрызали последние сухари, да и мясо давно перевелось, если не считать вяленой конины. Но воодушевление заменяло любые яства. Под конец, когда иные начали уже расходиться, пожаловал Марек Собеский, староста красноставский, со своим поручиком Стемповским. Пан Лонгинус выбежал старосте навстречу, а тот, ласково приветствовав рыцаря, молвил:
– Сегодня у тебя, сударь, праздник.
– Конечно, праздник, – вмешался Заглоба, – приятель наш обет исполнил.
– И слава Богу! – ответил староста. – Что, брат, вскоре свадебку сыграем? Есть у тебя уже кто на примете?
Подбипятка ужасно смешался и покраснел до корней волос, а староста продолжал:
– Конфузия твоя свидетельством, что я не ошибся. Святая вашей милости обязанность заботиться, чтобы такой род не угаснул. Дай Бог, чтобы побольше на свет родилось витязей, подобных вам четверым.
И, сказавши так, каждому пожал руку, а наши друзья возликовали в душе, из таких уст похвалу услыша, ибо староста красноставский являл собой образец мужества, высокого благородства и прочих рыцарских достоинств. Это был воплощенный Марс; всевышний от щедрот своих одарил его всем в изобилье: необычайною красотой лица Марек Собеский превосходил даже младшего брата своего Яна, ставшего впоследствии королем, богатством и знатностью не уступал первейшим магнатам, а военные его таланты превозносил до небес сам великий Иеремия. Чрезвычайной яркости была б та звезда на небосводе Речи Посполитой, не случись волею провидения, что блеск ее перенял Ян, младший, звезда же эта угасла прежде времени в годину бедствий.








