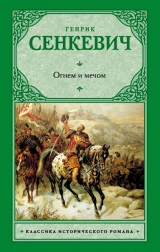
Текст книги "Огнем и мечом. Дилогия"
Автор книги: Генрик Сенкевич
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 56 страниц)
– А послезавтра ехать, – напомнил пан Заглоба.
Они пошли и, сказав молитву, улеглись у костра. Вскорости костры один за другим стали гаснуть. Лагерь покрыла темнота, и только месяц бросал на него серебряные свои лучи, освещая то тут, то там спящих жолнеров. Тишину нарушал разве что всеобщий могучий храп да перекличка часовых, стерегущих лагерь.
Но сон не надолго смежил усталые веки солдат. Едва рассвело и поблекли ночные тени, по всему лагерю трубы заиграли побудку.
А через какой-нибудь час князь, к великому удивлению своих рыцарей, отступал по всей линии.
Глава XXXII
Но это было отступление льва, готовившего место для прыжка.
Князь пустил Кривоноса за переправу намеренно, чтобы еще большее нанести ему поражение. Едва началась битва, он стегнул коня и поскакал прочь от противника, что видя, низовые сломали строй, дабы догнать его и отрезать путь к отступлению. Тогда князь внезапно поворотил и всею кавалерией ударил по ним столь сокрушительно, что те и на мгновение даже не смогли оказать сопротивления. Так что гнали их с милю до переправы, потом через мосты и дамбы, потом полмили до самого до табора, рубя и убивая без пощады, а героем дня на этот раз стал шестнадцатилетний пан Аксак, первым ударивший на врага и посеявший в его рядах панику. Только со своими солдатами, умелыми и вымуштрованными, мог решиться князь на подобную проделку, изображая притворное отступление, которое в любом другом войске могло бы превратиться в настоящее. Так что второй день куда более сокрушительным наказал Кривоноса поражением. Атаман потерял все полевые орудия, множество знамен, а среди них и несколько коронных, захваченных запорожцами под Корсунем. Поспей пехота Корицкого, Осинского и пушки Вурцеля за конницей, заодно был бы взят и табор. Но прежде чем они подошли, настала ночь, и неприятель тем временем значительно отдалился, поэтому настичь его не было никакой возможности. Тем не менее Зацвилиховский половину табора все же захватил, а в ней несметные запасы амуниции и провианта. Толпа уже дважды бросалась на Кривоноса, намереваясь выдать его князю, и только обещание незамедлительно вернуться к Хмельницкому позволило ему вырваться из смертоносных рук. Потерявший войско, побитый, павший духом, бежал он без оглядки с оставшейся частью табора, пока не очутился в Махновке, куда явившись, Хмельницкий в припадке ярости велел его за шею к пушке цепью приковать.
И лишь когда первый гнев улегся, вспомнил гетман запорожский, что злосчастный Кривонос как-никак кровью целую Волынь залил, взял Полонное, тысячи шляхетских душ, оставив тела без погребения, на тот свет отправил и до тех пор был непобедим, покуда с Иеремией не повстречался. За эти прошлые заслуги сжалился над ним гетман запорожский и не только от пушки велел немедленно отцепить, но допустил его опять к командованию и на Подолье на новые грабежи и душегубство послал.
А князь тем временем оповестил свое войско о долгожданном отдыхе. В последней битве оно тоже понесло значительные потери, особенно во время конных штурмов табора, ибо тут казаки оборонялись сколь упорно, столь и умело. Полегло там около пятисот человек. Полковник Мокрский, будучи тяжело ранен, вскоре испустил дух; подстрелены были, хотя и не опасно, пан Кушель, Поляковский и молодой пан Аксак; у пана же Заглобы, каковой, попривыкнув к толчее, вместе с прочими показал себя удальцом и дважды был цепом ударен, разболелся крестец, а посему, не в состоянии шевельнуться, он на повозке Скшетуского пластом лежал.
Так что обстоятельства расстроили их поездку в Бар, и уехать сразу же они не смогли, тем более что князь послал Скшетуского во главе нескольких хоругвей к самому Заславу, дабы истребил собравшиеся там скопища черни. Рыцарь, ни слова князю про Бар не сказав, в наезд отправился и целых пять дней жег и побивал, покуда округу от шаек не очистил.
В конце концов и его люди вымотались от непрерывных боев, далеких походов, засад, непрестанного житья в боевой готовности, и он решил возвратиться к князю, который, по его сведениям, пошел к Тарнополю.
В канун возвращения, остановившись в Сухоринцах на Хоморе, пан Ян расквартировал хоругви по всей деревне, и сам тоже стал постоем в крестьянской хате. Будучи измучен невзгодами и труждениями, он тотчас же заснул и проспал каменным сном всю ночь.
Под утро, то ли в полусне, то ли впросонках, стало ему что-то грезиться и мерещиться. Странные картины начали являться Скшетускому. Сперва ему показалось, что он в Лубнах, что никуда из них не уезжал, что находится в цейхгаузе, в своей комнате, а Редзян, как всегда по утрам, возится с его одеждой и готовит ее к пробуждению хозяина.
Явь, однако, потихоньку стала разгонять грезы. Рыцарь вспомнил, что находится в Сухоринцах, а не в Лубнах, и только фигура слуги не растаивала в сумраке и неотвязно чудилась пану Скшетускому сидевшей под окном на скамейке и смазывающей ремешки панциря, каковые от жары очень и очень скукожились.
Решив, что сонное видение попросту не желает отвязаться, пан Скшетуский снова закрыл глаза.
Спустя минуту он их открыл. Редзян по-прежнему сидел у окна.
– Редзян! – крикнул пан Ян. – Ты ли это или твой дух?
А парнишка, испугавшись внезапного окрика, панцирь на пол со стуком уронил, руки раскинул и сказал:
– О господи! С чего это его милость так кричит? Какой там еще дух? Живой я и здоровый.
– И вернулся?
– А разве ваша милость меня выгонял?
– Иди сюда, дай же я тебя обниму!
Верный слуга бросился к своему господину и обнял его колени, пан же Скшетуский в великой радости целовал его в голову и повторял:
– Живой! Живой!
– О ваша милость! Слов я от радости не нахожу, вашу милость в здравии видя… Господи! Ваша милость так крикнула, что я прямо панцирь уронил… Ремни-то вон как поскрутились… Видать, никакого услужения для вашей милости не было… Слава же тебе, Боже, слава… О мой хозяинька дорогой!
– Когда ты приехал?
– А нынче в ночь.
– Почему же не разбудил?
– Ой, будить еще! С утра вот пришел одежку взять…
– Откуда же ты явился?
– А из Гущи.
– Что ты там делал? Что с тобою было? Говори, рассказывай!
– Так что, видите, ваша милость, приехали казаки в Гущу пана воеводу брацлавского жечь и грабить, а я там еще раньше их оказался, потому что приехал с отцом Патронием Лашкой, который меня от Хмельницкого в Гущу-то увез; его же к Хмельницкому пан воевода с письмами посылал. Вот и поехал я с ним обратно, а теперь вот казаки Гущу сожгли и отца Патрония за его добросердие к ним убили, что наверняка бы и с паном воеводой случилось, ежели бы он там находился, хотя он тоже б л а г о ч е с т и в ы й и великий для них благодетель…
– Говори же толком и не путай, ничего понять у тебя невозможно. Значит, ты у казаков, у Хмеля был, что ли?
– Ясное дело, у казаков. Ведь они как захватили меня в Чигирине, так за своего и считали. Да вы одевайтесь, пожалста… Господи, какое же все сношенное, прямо и надеть нечего! Ах чтоб тебя!.. Мой сударь, уж, пожалста, пусть ваша милость не сердится, что я письма, какие вы из Кудака писали, в Разлогах не вручил, у меня же их злодей Богун отнял, и, ежели бы не толстый шляхтич тот, я бы живота даже лишился.
– Знаю, знаю. Нет на тебе вины. А толстый шляхтич тот сейчас в обозе. Он мне рассказал, как все произошло. Он и панну у Богуна выкрал, и теперь она в добром здравии в Баре пребывает.
– О! Тогда слава Богу! Я ведь тоже знал, что она Богуну не досталась. Выходит, и свадебка не за горами.
– Похоже, что так. Отсюда мы, согласно приказу, пойдем сейчас в Тарнополь, а оттуда в Бар.
– Слава Богу всемогущему. Уж он наверняка повесится, Богун-то, ему же и чертовка нагадала, что ту, о которой мечтает, ему не видать и что она ляху, мол, достанется, а лях этот, надо думать, ваша милость.
– А это ты откуда знаешь?
– А слышал. Видно, придется мне по порядку все рассказать, а его милость пускай тем временем одевается, ведь уже и завтрак для нас варят. Как отплыл я, значит, на той чайке из Кудака, так плыли мы ужас как долго, потому что вверх по течению, а еще – сломалась у нас чайка, и чинить пришлося. Плывем мы, значит, и плывем, сударь мой, плывем…
– Плывете, плывете!.. – потерял терпение пан Ян.
– И приплыли в Чигирин. А что там со мною было, про это уже ваша милость знает.
– Про это я уже знаю.
– Лежу я, значит, в конюшне, и в глазах у меня темно. А тут сразу, как Богун ускакал, подходит Хмельницкий с громадной армией запорожской. А так как до этого господин великий гетман наказал чигиринцев за благорасположение к запорожцам и уйма народу в городе была перебита да поранена, казаки и подумали, что я тоже из тех, а потому не только не добили меня, но еще и позаботились, лечить стали и татарам взять не позволили, хотя они им что хошь дозволяют. Пришедши я тогда в сознание и думаю: что же делать? А злодеи эти меж тем к Корсуню пошли и там панов гетманов побили. О мой любезный сударь, что я повидал, того не рассказать! Они ж ничего не скрывали, бессовестные, да еще и за своего меня держали. А я все думаю: бежать или не бежать? Да только вижу, что правильней оно остаться, пока оказии подходящей не подвернется. А как начали свозить из-под Корсуня ковры, сбруи, серебро, поставцы, сокровища… Ой-ей, мой сударь! У меня чуть сердце не лопнуло и глаза прямо на лоб полезли. Ведь эти душегубы шесть ложек серебряных за талер, а потом даже за кварту водки отдавали, пуговицу же золотую, или там застежку, или султан на шапку можно было и за косушку выменять. Тут, значит, я думаю: разве можно теряться?.. Попользуюсь и я! Ежели приведет Бог когда-нибудь в Редзяны вернуться, на Подлесье, где родители проживают, привезу им, ведь у них там тяжба с Яворскими уже пятьдесят лет тянется, а продолжать ее не на что. Так что накупил я, мой сударь, столько всякого добра, что на двух коней навьючивать пришлось, полагая это себе утешением в горестях, потому что я по сударю моему жуть как тосковал.
– Ой, Редзян, ты уж своего не упустишь! Везде свою корысть помнишь.
– Если Господь меня дарит, что же в том худого? Я ведь не краду, а что мне ваша милость дали кошелек на дорогу в Разлоги, так вот он! Мое дело вернуть, раз я до Разлогов не доехал.
Говоря это, Редзян отстегнул пояс, достал кошель и положил его перед рыцарем, на что пан Скшетуский улыбнулся и сказал:
– Раз тебе так везло, ты, надо думать, и меня побогаче, да только уж держи и этот кошель.
– Благодарствую покорно вашей милости. Кое-что есть – бог помог! И родители будут рады, и дедушка девяностолетний. А уж Яворских-то они наверняка до последнего гроша засудят и по миру пустят. Вашей милости тоже польза от этого – я ведь про пояс тот крапчатый, который мне ваша милость в Кудаке посулил, напоминать не стану, хоть он мне и нравился очень.
– Уже ведь и напомнил! Ах ты, шельмец! Сущий lupus insatiabilis [127]127
волк ненасытный ( лат.).
[Закрыть]! Не знаю я, где он, тот пояс, но раз обещал, подарю, не тот, так другой.
– Покорно благодарствую вашей милости! – сказал Редзян, обнимая колени хозяина.
– Довольно об этом! Рассказывай же, что с тобой потом было.
– Бог, значит, явил мне милость попользоваться от разбойников. Ужасно только я страдал, не зная, что приключилось сударю моему и что Богун с панною сделал. А тут вдруг говорят, что он в Черкассах, едва живой, князьями посеченный, лежит. Я – в Черкассы: а вы ж знаете, что я и пластырь приложить умею, и раны обихаживать. А уж они меня насчет этого знали. Так что меня туда Донец, полковник, послал и сам со мною поехал душегуба этого выхаживать. Тут у меня от сердца отлегло, я ведь дознался, что наша панна с тем шляхтичем сбежала. Пошел я, значит, к Богуну. Узнает, думаю, или не узнает? А он в горячке лежал, так что сперва не узнал. Потом, конечно, узнал и говорит: «Ведь ты с письмом в Разлоги ехал?» Я отвечаю: «Я». А он: «Значит, тебя я в Чигирине посек?» – «Точно так». – «Ты, значит, – говорит он, – служишь пану Скшетускому?» Тут уж я давай врать. «Никому я уже, говорю, не служу. Обиды одни, а не радости на службе этой мне были, так что предпочел я на волю к казакам уйти, а за вашей милостью уже десять дней, говорю, присматриваю и исцеляю успешно!» Тут он поверил и в великую со мной доверительность вошел. От него я и узнал, что Разлоги сожжены, что он двоих князей убил, а двое оставшихся, узнав про то, хотели сперва идти к нашему князю, но, не имея к тому возможности, в войско литовское убежали. Но хуже всего – это когда он про того толстого шляхтича вспоминал, таково он тогда, скажу я вашей милости, зубами скрежетал, словно бы кто орехи грыз.
– Долго он болел?
– Долго, долго. Раны на нем то заживали, то снова открывались: ведь он же их спервоначалу не лечил как надо. Мало я ночей возле него просидел (чтоб его порубали!), словно возле кого достойного! А надо сказать вашей милости, что я спасением души поклялся за обиду свою ему отплатить, и это я, мой сударь, исполню, хоть бы целую жизнь пришлось его выслеживать, потому как он меня, безвинного, оскорбил и поранил, точно собаку какую, а я ведь не хам небось. Уж доведется ему от моей руки погибнуть, разве что его прежде кто другой прикончит. И еще скажу я вашей милости, что сто раз была у меня возможность, ведь часто возле него, кроме меня, никого не было. Сижу, бывало, и думаю, не пырнуть ли? Да только совестно убивать на одре лежащего.
– Весьма похвально с твоей стороны, что ты его aegrotum et inermem [128]128
больного и безоружного ( лат.).
[Закрыть]не убил. Холопский это был бы поступок, не шляхетский.
– То-то и оно, ваша милость! Я, знаете, тоже так решил. Еще и вспомнил, что, когда родители меня напутствовали, дедушка тоже, значит, перекрестил меня и сказал: «Помни, дуролом, что ты шляхтич, и амбицию имей, служи верно, а помыкать собою никому не дозволяй». Сказал он еще, что, когда шляхтич по-холопски поступает, Господь наш Иисус плачет. А я назидание запомнил и всегда ему следую. Так что оказиями пришлось пренебречь. А доверие меж нами все больше! Бывало, спрашивает он меня: «Чем я тебе, мол, отплачу?» А я на это: «Чем, ваша милость, пожелаете». И, не могу обижаться, одарил он меня щедро, а я взял, потому что опять же рассудил так: зачем в разбойничьих руках оставлять-то? А на него глядя, и другие меня тоже одаряли, потому что, скажу я вашей милости, там никого так не любят, как его, и низовые, и чернь, хотя во всей Речи Посполитой не найдется шляхтича, который бы таково чернь, как он, презирал…
Тут Редзян принялся головою качать, словно бы что-то вспоминая и чему-то удивляясь, а спустя минуту продолжил:
– Чудной это человек, и надобно признаться, что повадка у него как есть шляхетская. А уж панну он любит! Ой любит! Святый Боже! Чуть выздоровел, сразу к нему Донцова сестра гадать пришла. И нагадала, да только ничего путного. Бесстыжая она дылда, с нечистым якшается… Но девка ядреная. Смеется, словно кобыла на лугу ржет, только зубищи белые скалит, а здоровенная такая, что панцирь разорвать может, а идет когда, земля прямо трясется. И, видать, попущением божьим по душе я ей пришелся, наружность ей моя приглянулась. Так она, бывало, мимо не пройдет, чтобы за шею меня или за рукав не потянуть или не пихнуть, а иногда прямо так и говорит: «Пошли!» А я боюся, как бы нечистый мне на стороне где-нибудь шею не свернул, ведь тогда все, что я собрал, пропадет сразу. Вот я ей и отвечаю: «Мало тебе других!» А она: «Приглянулся ты мне, хотя и дитя! Приглянулся мне!» – «Пошла прочь, кобыла!» А она опять за свое: «Приглянулся мне! Приглянулся мне!»
– И ты видал ворожбу?
– Видал, слыхал. Дым какой-то валит, шип, визг, тени какие-то, прямо ужас берет. Она в середке стоит, брови черные насупит и повторяет: «Лях при ней! Лях при ней! Чилу! Хуку-чиху!.. Лях при ней!» Или пшеницы на сито насыплет и глядит, а зерна, как мураши, шевелятся, а она опять: «Чилу! Хуку! Чилу! Лях при ней!» Ой, мой сударь! Не будь он таковой негодяй, жалко было бы и глядеть на его отчаяние после ворожбы каждой. Побледнеет, бывало, как полотно, навзничь упадет, руки над головою заломит и голосит, и скулит, и умоляет, и прощения у барышни просит. За то, мол, что насильником в Разлоги явился, что братьев ее перебил. «Где ты, зозуля? Где ты, ненаглядная? – говорит. – Я бы тебя на руках носил, а теперь не жизнь без тебя!.. Уж я тебя, – причитает, – пальцем не трону, рабом твоим стану, лишь бы только глядеть на тебя!» Или же пана Заглобу вспомнит – и зубами заскрежещет, и ложе кусает, покамест сон его не сморит. Только он еще и во сне стонет да вздыхает.
– Значит, она ему ни разу удачу не нагадала?
– Что потом было, не знаю, потому как он выздоровел, а я от него отцепился. Приехал ксендз Лашко, и Богун меня в благодарность с ним в Гущу отпустил. Они там, лиходеи, знали, что у меня из разного добра кое-что имеется, да и я тоже не скрывал, что еду родителям вспомоществовать.
– И не ограбили тебя?
– Может бы, и ограбили, но, по счастью, татар там не было, а казаки из страха перед Богуном не посмели. К тому же они меня вовсе за своего держали. Ведь мне сам Хмельницкий повелел слушать и доносить, что у воеводы брацлавского будет говориться, если какие господа съедутся… Чтоб он палачу достался! Приехал я, значит, в Гущу, а тут подошли передовые отряды Кривоноса и отца Лашка убили, а я половину добра своего закопал, а с половиной сюда сбежал, узнав, что ваша милость бьет ихних возле Заслава. Хвала Господу, что я вашу милость в добром здравии и расположении духа застал и что свадебка вашей милости близко… Это уж всему худому конец настанет. Говорил я злодеям, которые на князя, господина нашего, шли, что обратно не вернутся. Получили теперь! Может, и война тоже скоро кончится?
– Где там! Теперь с самим Хмельницким заваривается.
– А ваша милость после свадьбы будет воевать?
– А ты думал, я труса праздновать после свадьбы буду?
– Эй, не думал! Знаю я, что если кто и будет праздновать, так не ваша милость; я к слову спросил, потому как отвезу вот родителям, что накопил, и тоже с вашей милостью пойти хочу. Вдруг да Господь мне за обиду мою с Богуном расквитаться поможет. Ведь если вероломно не пристало, то где же я его найду, как не на поле брани. Он прятаться не станет…
– Неужто ты такой завзятый?
– Каждый пускай при своем остается. А я раз для себя решил, так и к туркам за ним поехать готов. Оно теперь иначе и быть не может. А сейчас я с вашей милостью до Тарнополя поеду, а потом – на свадьбу. Только зачем ваша милость в Бар через Тарнополь едет? Оно же ведь не по дороге.
– Затем, что хоругви надо отвести.
– Понятно, сударь мой.
– А сейчас неси поесть чего-нибудь, – сказал пан Скшетуский.
– Я уж и то думаю, живот, он всему основа.
– После завтрака сразу же выступим.
– Оно и слава Богу, хотя лошадки мои заезжены страшно.
– Я тебе заводного дать велю. На нем теперь ездить будешь.
– Покорнейше благодарю вашу милость! – сказал Редзян, улыбаясь от удовольствия, что – за кошельком и крапчатым поясом – уже третий подарок получает.
Глава XXXIII
Однако ехал пан Скшетуский в челе княжеских хоругвей не в Тарнополь, а в Збараж, потому что пришел приказ идти теперь туда, и по дороге рассказывал верному слуге свои злоключения: как в плен на Сечи был схвачен, сколько в неволе пробыл, сколько пришлось неприятностей хлебнуть и как Хмельницкий отпустил его. Хотя повозок и клади с ними не было, шли не быстро, потому что путь их лежал по земле столь разоренной, что пропитание для людей и лошадей приходилось раздобывать с превеликим трудом. Кое-где встречались им толпы обездоленных людей, как правило, женщин с детьми, моливших Господа о смерти или даже о неволе татарской, ибо там хотя бы есть давали. А была, между прочим, пора жатвы в изобильной этой, млеком и медом текущей земле, но Кривоносовы разъезды уничтожили все, что можно было уничтожить, и уцелевшие жители ели древесную кору. Только на подходах к Ямполю рыцари вступили в край, войною не столь еще разоренный, и, располагая теперь сносными привалами с достаточным провиантом, пошли быстрыми переходами на Збараж, до которого через пять дней после выступления из Сухоринцев и добрались.
В Збараже съезд был куда как знатный. Не только князь Иеремия остановился там со всем войском, вообще воинства и шляхты съехалось немало. Война считалась само собой разумеющимся событием, о ней только и говорили; город и окрестности кишели вооруженными людьми. Мирная партия в Варшаве, поддерживаемая в своих намерениях брацлавским воеводою паном Киселем, не отказалась, правда, пока что от переговоров и по-прежнему полагала, что с их помощью возможно будет утихомирить бурю, но все же поняла, что переговоры имеют смысл только при наличии мощной армии. Так что на конвокационном сейме предостаточно было громов и воинственных речей, обычно предшествующих грозам. Было объявлено о всенародном ополчении, стягивались квартовые войска, и, хотя канцлер с региментариями пока еще верили в мирный исход, тем не менее шляхетские души были преисполнены ратного пыла. Разгромы, учиненные Вишневецким, распалили воображение. Умы были охвачены жаждой возмездия холопам и желанием отомстить за Желтые Воды, за Корсунь, за кровь многих тысяч, мученической смертью погибших, за позор и унижения… Имя грозного князя заблистало солнцеподобным сверканием славы, оно было у всех на устах и во всех сердцах, а купно с именем этим разносилось от берегов Балтики аж до самого до Дикого Поля зловещее слово: война!
Война! Война! Предвещали ее и знамения в небесах, и возбужденные лица человеческие, и пересверк мечей, и ночами собачий вой возле хат, и ржание коней, чуявших кровь. Война! Дворянство по всем землям, поветам, усадьбам и мелкопоместьям извлекало из чуланов старые мечи и доспехи, молодежь распевала песни об Иеремии, а женщины молились у алтарей. И поднялись вооруженные человеки от Пруссии до Лифляндии, от Великой Польши и многолюдной Мазовии аж – гей! – до божьих верхов татранских и темных чащоб бескидских.
Война разумелась сама собою. Разбойное движение Запорожья и народное восстание украинской черни нуждались в каких-то более высоких идеалах, чем резня и разбой, чем борьба с панщиной и магнатскими латифундиями. Это хорошо понял Хмельницкий и, воспользовавшись тлеющим недовольством, обоюдными злоупотреблениями и утеснениями, каковых в тогдашние суровые времена всегда хватало, социальную борьбу обратил в религиозную, раздул народный фанатизм и с самого начала бездну меж обоими лагерями разверзнул – пропасть, которую не пергаменты и переговоры, но кровь человеческая могла только заполнить.
Однако всею душою жаждя переговоров, только себя и собственные войска хотел он спасти. А потом?.. Про то, чему быть потом, гетман запорожский не думал, в будущее не вглядывался и не обеспокоивался им.
Но не знал он, однако, что эта разверстая его усилиями пропасть столь бездонна, что никакими переговорами не заровнять ее даже на то время, какое ему, Хмельницкому, было необходимо. Незаурядный политик не угадал, что кровавых плодов своей деятельности вкусить в покое он не сможет.
А ведь нетрудно было предвидеть, что, когда противу друг друга встанут вооруженные тьмы, пергаментом для составления договорных грамот станут поля, а перьями – мечи и копья.
Поэтому тогдашние события неминуемо катились к войне. Даже люди неискушенные инстинктивно угадывали, что иначе оно быть не может, и по всей Речи Посполитой все больше взоров обращалось к Иеремии, провозгласившему с самого начала войну не на жизнь, а на смерть. В тени могучей этой фигуры все более тускнели канцлер, и воевода брацлавский, и региментарии, а среди последних даже могучий князь Доминик, верховным назначенный командующим. Их авторитет и значение падали, слабело послушание власти, которую они исполняли. Войску и шляхте велено было стягиваться ко Львову, а затем к Глинянам, и, действительно, отовсюду собирались все более многочисленные рати. Подходила кварта, за нею – землевладельцы соседних воеводств. Но тут уже и новые поветрия стали угрожать авторитету Речи Посполитой. Не только менее дисциплинированные хоругви народного ополчения, не только господские дружины, но и регулярные квартовые воины, явившись к месту сбора, отказывались повиноваться региментариям и, вопреки приказу, отправлялись в Збараж, дабы служить под началом Иеремии. Таково поступили воеводства Киевское и Брацлавское, шляхта из которых в основном уже и так служила под командованием Иеремии; к нему пошли русские, любельские, за ними – коронные войска. И можно было теперь с уверенностью сказать, что и прочие последуют их примеру.
Обойденный и умышленно забытый Иеремия волею обстоятельств становился гетманом и верховным главнокомандующим всех сил Речи Посполитой. Шляхта и войско, преданные ему душою и телом, только ждали его знака. Власть, война, мир, будущее Речи Посполитой оказались в его руках.
И он продолжал с каждым днем набирать силы, ибо всякий день валом валили к нему новые хоругви, и столь усилился, что тень его падала уже не только на канцлера и региментариев, но и на сенат, на Варшаву, на всю Речь Посполитую.
В недоброжелательных к нему, близких канцлеру кругах Варшавы и в региментарском лагере, в окружении князя Доминика и у воеводы брацлавского стали поговаривать о непомерных его амбициях и дерзости, стали вспоминать дело о Гадяче, когда дерзкий князь явился в Варшаву с четырьмя тысячами людей и, вошед в сенат, готов был изрубить всех, включая самого короля.
«Чего же ждать от такого человека и каким он, должно быть, сделался теперь, – говорили его противники, – после оного ксенофонтова похода из-за Днепра, после стольких ратных удач и стольких викторий, столь непомерно его возвеличивших? Какую же непростительную гордыню должен был вселить в него фавор от солдатни и шляхты? Кто теперь ему противостоять может? Что ждет Речь Посполитую, когда один из ее граждан становится столь могуществен, что может топтать волю сената и отнимать власть у назначенных этой самой Речью Посполитой вождей? Ужели он и в самом деле королевича Карла короновать вознамерился? Марий-то он Марий, разве кто возражает, но дай Боже, чтобы не оказался он Марком Кориоланом или Катилиною, ибо спесью и амбицией обоим не уступает!»
Так говорили в Варшаве и в региментарских кругах, особенно же у князя Доминика, соперничество Иеремии с которым немалый уже вред нанесло Речи Посполитой. А оный Марий сидел меж тем в Збараже нахмуренный, непостижимый. Недавние победы не распогодили его лица. Когда, бывало, какая-нибудь новая хоругвь, квартовая или поветовая ополченская, приходила в Збараж, он выезжал навстречу, оценивал ее взглядом и тотчас погружался в свои думы. Воодушевленные солдаты тянулись к нему, падали ниц, взывая: «Приветствуем тебя, вождь непобедимый! Геркулес славянский! На смерть пойдем, только прикажи!» – он же отвечал: «Низко кланяюсь вашим милостям! Под Иисусовым все мы началом, а мой чин слишком ничтожен, чтобы распорядителем жизни ваших милостей быть!» – и возвращался к себе, и от людей запирался, в одиночестве единоборствуя с мыслями своими. Так продолжалось целыми днями. А город меж тем кишмя кишел солдатами все новых и новых отрядов. Ополченцы с утра до ночи бражничали, слоняясь по улицам, затевая скандалы и свары с офицерами иноземных подразделений. Регулярный же солдат, чувствуя, что бразды дисциплины ослабли, тоже предавался вину, обжорству и игре в зернь. Всякий день появлялись новые гости, а значит, устраивались новые пирушки и гульба с горожанками. Войска заполонили все улицы; стояли они и по окрестным деревням; а что коней, оружия, одежд, плюмажей, кольчуг, мисюрских шапок, мундиров из всевозможных воеводств! Прямо какая-то ярмарка небывалая, куда половина Речи Посполитой понаехала! Вот летит карета господская, золоченая или пурпурная, в упряжке шесть или восемь коней с плюмажами, лакеи на запятках в венгерском или немецком платье, придворные янычары, татары, казаки. А вон опять же несколько панцирных, но без панцирей своих, сверкая шелками да бархатами, расталкивают толпу анатолийскими или персидскими скакунами. Султаны на шапках у них и застежки плащей мерцают брызгами бриллиантов и рубинов, и всяк уступает им дорогу из уважения к почетнейшему полку. А вон у того палисадника похаживает офицер лановой пехоты в новешеньком сияющем колете, с длинною тростью в руке, с горделивостью в лице, но с заурядным сердцем в груди. Там и сям посверкивают гребенчатые шлемы драгун, шляпы немецких пехотинцев, мелькают квадратные фуражки ополченцев, башлыки, рысьи шапки. Челядь в разнообразной униформе, прислуживая, вертится, точно кипятком ошпаренная. Тут улица забита возами, там – телеги только еще въезжают, душераздирающе скрипя, всюду гвалт, окрики «поберегись!», ругня слуг, ссоры, драки, лошадиное ржанье. Улочки поменьше так завалены сеном да соломою, что и протиснуться по ним невозможно.
А среди всех этих роскошных одежд, всеми цветами радуги играющих, среди шелков, бархатов, камки, алтабасов и сверканья бриллиантов как же странно выглядят полки Вишневецкого, измотанные, обносившиеся, исхудалые, в заржавелых панцирях, выгоревшей форме и заношенных мундирах! Жолнеры самых привилегированных подразделений выглядят хуже нищих, хуже челяди иных полков; однако все благоговеют перед сей ржавчиной и затрапезным видом, ибо это печати геройства. Война, недобрая матерь, детей своих, точно Сатурн, пожирает, а кого не пожрет, того, словно пес кости, изгложет. Выгоревшие эти мундиры – суть дожди ночные, суть походы среди бушующих стихий или в солнечном зное; ржавчина эта на железе – кровь нестертая: может, своя, может, вражеская, а может – та и другая. Так что вишневичане повсюду тон задают. Они по шинкам да постоям только и рассказывают, а прочие только и знают, что слушают. И бывает, что у кого-нибудь из слушателей аж комок к горлу подступит, хлопнет человек себя руками по бедрам и воскликнет: «Прах вас бери, судари любезные! Вы же дьяволы – не люди!» А вишневичане: «Не наша в том заслуга, но такового военачальника, равного которому не видал еще orbis terrarum». И все пирушки кончаются возгласами: «Vivat Иеремия! Vivat князь-воевода! Вождям вождь и гетманам гетман!..»
Шляхта, как захмелеет, на улицы выскакивает да из самопалов и мушкетов палит, а поскольку вишневичане предупреждают, что гульба только до времени, что, мол, дай срок – и князь возьмет всех в руки и такую дисциплину заведет, о какой, мол, вы еще и не слыхивали, – они еще более радуются свободной минуте. «Gaudeamus [129]129
Возрадуемся ( лат.).
[Закрыть], покуда можно! – кричат они. – Настанет время послушания – слушаться будем, ибо есть кого, ибо он не «дитына», не «латына», не «перына»!» А злополучному князю Доминику всегда более прочих достается, потому что смалывают его языки солдатские в муку. Рассказывают, что Доминик по целым дням молится, а по вечерам в стакан глядит, и как на живот себе сплюнет, так один глаз приоткроет и спрашивает: «Ась?» Рассказывают еще, что на ночь он послабляющую траву принимает, а сражений видал ровно столько, сколько изображено у него на шпалерах, голландским манером тканных. Тут его сторону не держал никто, тут его не было жаль никому, а более других подъедали его те, кто в явной с воинской дисциплиной находились коллизии.








