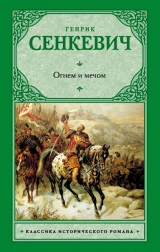
Текст книги "Огнем и мечом. Дилогия"
Автор книги: Генрик Сенкевич
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 56 страниц)
Глава VIII
Богуну, сколь ни бесстрашным и осмотрительным он был вождем, Господь не дал удачи в той экспедиции, куда его отправили следить за мнимой дивизией князя Иеремии. Он лишь утвердился в убеждении, что князь действительно двинул все силы против Кривоноса: так говорили взятые в плен люди Заглобы, которые сами свято верили, будто Вишневецкий идет за ними следом. Поэтому бедному атаману ничего не осталось иного, кроме как возвращаться поскорей к Кривоносу, но и эта задача была не из легких. Лишь на третий день собрались возле него две с небольшим сотни казаков, остальные либо полегли в бою, либо остались, раненные, на месте схватки, а кое-кто еще блуждал по оврагам и очерету, не зная, что делать, куда бежать, в какую сторону податься. Да и от собравшейся вокруг Богуна ватаги немного было проку: после погрома люди его, перепуганные, растерявшиеся, при первой тревоге норовили обратиться в бегство. А ведь молодцев он подобрал одного к одному: лучше во всей Сечи сыскать было бы трудно. Но казаки не знали, что Володыёвский ударил на них с такой малой силой и разгромил лишь потому, что внезапно напал на спящих и неготовых к отпору, – они нисколько не сомневались, что если не с самим князем повстречались, то, по крайней мере, с сильным, в несколько раз большим по численности отрядом. Богун на стенку лез: раненый, истоптанный копытами, больной, избитый, он еще и заклятого врага упустил из рук, и славу свою запятнал, его же молодцы, которые накануне разгрома хоть в Крым, хоть в пекло, хоть на самого князя готовы были слепо за ним идти, теперь разуверились в своем атамане, поникли духом и о том только думали, как бы спасти свою шкуру. А ведь он сделал все, что атаману сделать надлежало, ничего не упустил, стражей хутор обставил, а привал устроил лишь потому, что лошади, которые из-под Каменца почти без роздыху шли, никак не могли продолжать путь. Но Володыёвский, чья молодость прошла в стычках с татарами и набегах, как волк подкрался ночью к дозорным, скрутил их, прежде чем они успели выстрелить или вскрикнуть, – и обрушился на отряд так, что он, Богун, в одних только шароварах да в рубахе унес ноги. Стоило атаману об этом подумать, как ему свет немил становился, голова шла кругом и отчаянье, словно бешеный пес, рвало душу. Он, который на Черном море турецкие галеры топил, который до самого Перекопа татар по пятам гнал и у хана на глазах предавал огню улусы, он, который у князя под боком, под самыми Лубнами, вырезал в Василевке целый регимент, – вынужден был бежать в одной рубахе, с непокрытой головой и без сабли, ибо и саблю потерял в стычке с маленьким рыцарем. Потому на привалах и ночлегах, когда никто на него не глядел, атаман хватался за голову и кричал: «Где моя слава молодецкая, где моя подруга сабля?» И от собственного крика в дикое помешательство впадал и напивался до потери человеческого облика, а тогда рвался идти на князя, против всей его рати – и погибнуть, навеки расстаться с жизнью.
Он-то рвался – да молодцы не хотели. «Хоть убей, б а т ь к у, не пойдем!» – угрюмо отвечали они на отчаянные его призывы, и тщетно в припадках безумия замахивался он на них саблей, стрелял из пистолетов так, что им порохом опаляло лица, – не хотели идти, и все тут.
Можно сказать, земля уходила из-под ног атамана – и это еще был не конец его бедам. Опасаясь возможной погони, он не решился идти прямо на юг, а, считая, что, быть может, Кривонос уже снял с Каменца осаду, повернул на восток и… наткнулся на отряд Подбипятки. Чуткий, как журавль, пан Лонгинус не дал себя застать врасплох, первый на атамана ударил и разбил тем легче, что казаки не желали драться, а затем погнал навстречу Скшетускому, тот же довершил разгром, так что Богун после долгих скитаний в степях, без добычи и без «языков», потеряв почти всех своих молодцев, с каким-нибудь десятком людей бесславно явился к Кривоносу.
Но неистовый Кривонос, не знающий снисхождения к тем из своих подчиненных, которых постигла неудача, на сей раз не разгневался нисколько. Он по собственному опыту знал, каково иметь дело с Иеремией, и потому принял Богуна ласково, утешал его и успокаивал, а когда атаман свалился в жестокой горячке, приказал ухаживать за ним, и лечить, и беречь пуще глаза.
Между тем четыре княжеских рыцаря, посеяв всеместно страх и смятенье, благополучно возвратились в Ярмолинцы, где задержались на несколько дней, чтобы дать роздых людям и лошадям. Остановились все на одной квартире и там поочередно отчитались Скшетускому, что с кем приключилось и каких кто добился успехов, а затем уселись за бутылкой доброго вина, чтобы излить душу в дружеской беседе и взаимное удовлетворить любопытство.
Тут уж Заглоба никому не дал вымолвить слова. Не желая слушать других, он требовал, чтобы слушали только его; оказалось, однако, что ему и вправду более, нежели другим, есть о чем рассказать.
– Любезные судари! – витийствовал он. – Я попал в плен – что верно, то верно! Но фортуна, как известно, изменчива. Богун всю жизнь других бил, а час пришел – мы его побили. Да-да, на войне так всегда бывает! Сегодня со щитом, завтра на щите – обычное дело. Но Богуна Господь за то и покарал, что на нас, сладко спящих сном праведных, напасть осмелился и разбудил нагло. Хо-хо! Он думал страху на меня нагнать гнусными своими речами, но я его, любезные судари, так отбрил, что он вмиг присмирел, смешался и выболтал больше, чем самому хотелось. Впрочем, что тут долго рассказывать?.. Не попадись я в плен, мы бы с паном Михалом так легко их не одолели; я говорю «мы», ибо в заварухе сей magna pars fui [144]144
я принял значительное участие ( лат.). – Вергилий.
[Закрыть] – до смерти повторять не устану. Дай мне Бог здоровья! Теперь слушайте дальше: по моему разуменью, не наступи мы с паном Михалом атаману на пятки, неизвестно еще, каково бы пришлось пану Подбипятке, да и пану Скшетускому тоже; короче: не погроми мы его, он бы нас погромил – а почему так не сталось, в ком, скажите вы мне, причина?
– А ваша милость истинно как лиса, – заметил пан Лонгинус. – Тут хвостом вильнешь, там увернешься и завсегда сухим из воды выйдешь.
– Глуп тот пес, что за своим хвостом бежит: и догнать не догонит, и порядочного ничего не учует, а вдобавок нюх потеряет. Скажи лучше, сударь, сколько ты людей потерял?
– Двенадцать всего-навсего, да несколько ранены, казаки и не больно-то отбивались.
– А ваша милость, пан Михал?
– Не более тридцати – мы их врасплох застали.
– А ты, пан поручик?
– Столько же, сколько пан Лонгинус.
– А я двоих. Извольте теперь сказать: кто лучший полководец? То-то и оно! Мы сюда зачем приехали? По княжескому велению вести собирать о Кривоносе; вот я вам и доложу, любезные господа, что первый о нем проведал, причем из наивернейшего источника – от самого Богуна, так-то! Отныне мне известно, что Кривонос еще под Каменцем стоит, но об осаде больше не помышляет – потому как обуян страхом. Это de publicis [145]145
о делах общественных ( лат.).
[Закрыть], но я еще кое-что разузнал, от чего сердца ваши должны возликовать безмерно, а молчал до поры, поскольку хотел с вами вместе обсудить, как быть дальше; к тому ж доселе нездоровым себя чувствовал, в полном пребывал изнурении сил, да и нутро взбунтовалось после того, как разбойники эти меня в бараний рог скрутили. Думал, кондрашка хватит.
– Да говори же ты, сударь, Бога ради! – воскликнул Володыёвский. – Неужто о бедняжке нашей что проведал?
– Воистину так, да благословит ее всевышний, – промолвил Заглоба.
Скшетуский поднялся во весь свой рост, но тотчас же опять сел – и такая тишина настала, что слышно было жужжанье комаров на окошке, пока наконец Заглоба не заговорил снова:
– Жива она, это я теперь доподлинно знаю, и у Богуна в руках. Страшные это руки, любезные судари, однако ж Господь упас ее от зла и позору. Богун сам мне признался, а уж он бы не преминул похвалиться, будь оно иначе.
– Возможно ли? Возможно ли это? – лихорадочно вопрошал Скшетуский.
– Разрази меня гром, коли я лгу! – со всей серьезностью ответил Заглоба. – Для меня это Святая Святых. Послушайте, что Богун говорил, когда еще насмешничать надо мной пытался, покуда я его не осадил хорошенько. «Ты что ж, говорит, думал, для холопа ее в Бар привез? Думал, я мужлан, силой хочу взять девицу? Неужели, говорит, меня не стать на то, чтобы в Киеве обвенчаться в церкви, да чтоб монахи, говорит, мне пели, да чтобы триста свечей для меня зажглись – для меня, гетмана и атамана!» – и ногами давай топать, и ножом грозиться – напугать вздумал, да я ему сказал, пусть собак пугает.
Скшетуский уже овладел собою, но аскетическое его лицо просветлело, и снова на нем появились тревога, надежда, сомненье и радость.
– Где же она тогда? Где? – выспрашивал он торопливо. – Если ты, сударь, и это узнал, значит, мне тебя небеса послали.
– Этого он мне не сказал, но умной голове и полслова довольно. Не забудьте, любезные судари, что поначалу он всячески надо мной издевался, пока я его не приструнил, а тут у него и вырвалось против воли: «Вперед, говорит, я тебя отведу к Кривоносу, а потом пригласил бы на свадьбу, да сейчас война, нескоро еще свадьба будет». Заметьте, судари: еще нескоро – выходит, у нас есть время! И другое заметьте: вперед к Кривоносу, а уж потом на свадьбу – значит, у Кривоноса княжны точно нет, куда-нибудь он ее от войны подальше спрятал.
– Сущее ты золото, сударь! – воскликнул Володыёвский.
– Я сначала подумал, – продолжал польщенный Заглоба, – может, он ее отослал в Киев, ан нет: зачем тогда было говорить, что они в Киев венчаться поедут; раз поедут, значит, не там наша бедняжка. У него достанет ума туда ее не везти, потому как, если Хмельницкий на Червонную Русь подастся, литовские войска легко могут захватить Киев.
– Верно! Верно! – воскликнул пан Лонгинус. – Богом клянусь, не одному бы стоило с вашей милостью разумом поменяться.
– Только я не со всяким меняться стану из опасения взамен разума мешок ботвы заполучить, а уж особенно с литвином.
– Опять он за свое, – вздохнул пан Лонгинус.
– Позволь же мне, сударь, закончить. Ни у Кривоноса, ни в Киеве ее, стало быть, нет – где же она в таком случае?
– В том и загвоздка!
– Если ваша милость догадывается, говори скорей, а то я сижу как на угольях! – вскричал Скшетуский.
– За Ямполем она! – сказал Заглоба и торжествующе обвел всех здоровым своим оком.
– Откуда это тебе известно? – спросил Володыёвский.
– Откуда известно? А вот откуда: сижу я в хлеву, – разбойник этот, чтоб его свиньи слопали, в хлев меня велел запереть! – а рядом казаки разговаривают промеж собою. Прикладываю ухо к стене и что же слышу?.. Один говорит: «Теперь небось атаман за Ямполь поедет», а другой на это: «Молчи, коли молодая жизнь дорога…» Голову даю, что она за Ямполем где-то.
– О, это уж как бог свят! – воскликнул Володыёвский.
– В Дикое Поле ведь он ее не повез, значит, по моему разумению, где-нибудь между Ямполем и Ягорлыком спрятал. Был я однажды в тех краях, когда посредники туда съехались от нашего короля и от хана: в Ягорлыке, как вам ведомо, вечно разбираются пограничные споры об угоне стад… Там вдоль всего Днестра сплошь овражины да чащобы, места неподступные, и хуторяне никому не подвластны – пустыня окрест, они и друг с другом не встречаются. У таких диких отшельников он ее, верно, и спрятал, да и безопаснее место трудно придумать.
– Ба! Но как туда добраться сейчас, когда Кривонос заградил дорогу? – говорит пан Лонгинус. – И Ямполь, как я слышал, – сущее разбойничье логово.
На это Скшетуский:
– Я ради ее спасения хоть десять раз голову сложить готов. Переоденусь и пойду искать – отыщу, надеюсь: бог меня не оставит.
– Я с тобой, Ян! – воскликнул Володыёвский.
– И я лирником нищим оденусь. Поверьте, любезные судари, уж чего-чего, а опыта у меня всех вас поболее; торбан мне, правда, обрыдл чертовски, ну да ничего, возьму волынку.
– Так, может, и я на что сгожусь, братушки? – спросил пан Лонгинус.
– Отчего ж нет, – ответил Заглоба. – Понадобится переправиться через Днестр, ты и перенесешь нас, как святой Христофор.
– Благодарствую от души, любезные судари, – сказал Скшетуский, – и готовностью вашей воспользоваться счастлив. Друзья познаются в беде, а меня, вижу, провидение такими верными друзьями подарило. Позволь же, всемогущий Боже, и мне положить за друзей достояние и здоровье!
– Все мы аки един муж! – воскликнул Заглоба. – Господь поощряет согласье; увидите, в скором времени и мы плодами своих трудов насладимся.
– Знать, мне ничего иного не остается, – сказал, помолчав, Скшетуский, – как отвести хоругвь к князю и, не мешкая, отправиться в путь вместе с вами. Пойдем по Днестру через Ямполь к Ягорлыку и повсюду искать будем. А поскольку, надеюсь, Хмельницкий уже разбит или, пока мы с князем соединимся, разбит будет, то и служба общему делу не станет помехой. Хоругви, верно, двинутся на Украину, чтобы вконец задушить мятеж, но там и без нас обойдутся.
– Погодите-ка, любезные судари, – сказал Володыёвский, – надо полагать, после Хмельницкого придет черед Кривоноса, так что, возможно, мы вместе с войском пойдем на Ямполь.
– Нет, нет, туда надлежит поспеть раньше, – ответил Заглоба. – Но первая наша задача – отвести хоругвь, чтобы руки развязаны были. Надеюсь, и князь нами contentus [146]146
доволен ( лат.).
[Закрыть]будет.
– Особенно тобой, сударь.
– Разумеется! Кто ему лучшие везет вести? Уж поверьте мне, князь не постоит за наградой.
– Стало быть, в путь?
– Не мешало бы отдохнуть до завтра, – заметил Володыёвский. – Впрочем, пускай приказывает Скшетуский – он у нас старший; однако предупреждаю: выступим сегодня – у меня все лошади падут.
– Это дело серьезное, знаю, – сказал Скшетуский, – но, думается, если задать им хорошего корму, завтра смело выходить можно.
Назавтра и отправились. Согласно княжескому приказу им надлежало вернуться в Збараж и там ожидать дальнейших распоряжений. Потому пошли на Кузьмин, чтобы, оставив в стороне Фельштын, свернуть к Волочиску, откуда через Хлебановку вел старый тракт на Збараж. Идти было нелегко – дорога от дождей раскисла, – но зато спокойно, только пан Лонгинус, шедший о сто конь впереди, разбил несколько банд, бесчинствовавших в тылу региментарских войск. На ночлег остановились лишь в Волочиске.
Но едва утомленные долгой дорогой друзья уснули сладко, их разбудила тревога: дозорные дали знать о приближении конного отряда. Вскоре, однако, выяснилось, что это татарская хоругвь Вершулла – свои, значит. Заглоба, пан Лонгинус и маленький Володыёвский тотчас поспешили к Скшетускому, а следом за ними туда же влетел вихрем запыхавшийся, с ног до головы забрызганный грязью офицер легкой кавалерии, взглянув на которого Скшетуский воскликнул:
– Вершулл!
– Так… точно! – проговорил тот, с трудом переводя дыхание.
– От князя?
– Да!.. Ох, дух перехватило!
– Какие вести? С Хмельницким покончено?
– Покончено… с… Речью Посполитой!
– Господь всемогущий! А ты, часом, не бредишь? Ужель пораженье?
– Пораженье, позор, бесчестье!.. Без боя… Разброд и смятенье! О Боже!
– Ушам не хочется верить. Говори же, говори Христа ради!.. Что региментарии?
– Бежали.
– А где наш князь?
– Отступает… без войска… Я к вам от князя… с приказом… немедля во Львов… Они идут за нами.
– Кто? Вершулл, Вершулл! Опомнись, брат! Кто идет?
– Хмельницкий, татары.
– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! – вскричал Заглоба. – Земля из-под ног уходит.
Но Скшетуский уже понял, в чем дело.
– Вопросы потом, – сказал он, – немедля на конь!
– На конь, на конь!
Кони Вершулловых татар уже били копытами под окошком. Жители, разбуженные вторженьем отряда, выходили из домов с факелами и фонарями. Новость молнией облетела город. Тотчас колокола забили тревогу. Тихий минуту назад городишко наполнился шумом, лошадиным топотом, громкими словами команд и гвалтом евреев. Население собралось уходить вместе с войском; отцы семейств запрягали возы, погружали на них детей, жен, перины; бургомистр с несколькими мещанами пришел умолять Скшетуского не уезжать вперед и хоть до Тарнополя сопроводить горожан, но Скшетуский, имея четкий приказ поспешать без промедленья во Львов, не захотел его и слушать.
Выступили сей же час, и лишь в дороге Вершулл, придя немного в себя, рассказал, что случилось.
– Сколько Речь Посполитая стоит, – говорил он, – такого не знала краха. Что там Цецора, Желтые Воды, Корсунь!
А Скшетуский, Володыёвский, Лонгинус Подбипятка, припадая к шеям лошадей, то за головы хватались, то воздевали руки к небу.
– Нет, это выше человечьего разуменья! – восклицали они. – Где же князь был?
– А князь был всеми покинут и от дел умышленно отстранен, даже дивизией своей не распоряжался.
– Кто же взял на себя команду?
– Все и никто. Я старый служака, на войне зубы съел, но такого войска и таких предводителей еще не видел.
Заглоба, который особого расположения к Вершуллу не питал, да и знал мало, долго качал головой и губами причмокивал – и наконец промолвил:
– Скажи-ка, сударь любезный, а не помутилось ли у тебя в очах или, может, ты частичное поражение за всеобщий разгром принял, ибо то, что мы слышим, просто уму непостижимо.
– Непостижимо, согласен, более того: я бы с радостью голову отсечь позволил, если б чудом каким-нибудь оказалось, что это ошибка.
– А как же ваша милость ухитрился после разгрома прежде всех попасть в Волочиск? Не хочется допускать мысли, что первым дал тягу… Где же войска в таком случае? Куда бегут? Что с ними дальше сталось? Почему в бегстве своем тебя не опередили? На все эти вопросы силюсь найти ответ – но тщетно!
В любое другое время Вершулл никому бы не спустил оскорбленья, но в ту минуту он ни о чем ином, кроме как о катастрофе, не мог думать и потому ответил только:
– Я первым попал в Волочиск, так как прочие к Ожиговцам отступают, меня же князь с намереньем направил туда, где, по его расчету, ваши милости находились, дабы вас не смело ураганом этим, узнай вы о случившемся слишком поздно; а во-вторых, есть еще причина: ваши пятьсот конников теперь для князя дорогого стоят, поскольку дивизия его рассеяна, а большая часть людей погибла.
– Чудеса! – буркнул Заглоба.
– Подумать страшно, отчаянье берет, сердце на куски рвется, слез удержать не можно! – восклицал, ломая руки, Володыёвский. – Отчизна погублена, обесславлена, такое войско истреблено… рассеяно! Нет, пришел конец света. Страшный суд близок, не иначе!
– Не перебивайте его, – сказал Скшетуский, – позвольте закончить.
Вершулл помолчал, словно собираясь с силами; несколько времени слышно было лишь чавканье копыт по грязи, потому что лил дождь. Была еще глубокая ночь, особенно темная от сгустившихся туч, и во тьме этой, в шуме дождя на диво зловеще звучали слова Вершулла, когда он повел свой рассказ дальше:
– Кабы не думал я, что в бою погибну, верно бы, в уме повредился. Ты, сударь, о Страшном суде помянул – и я полагаю, что вскоре Судный день наступит: все рушится, зло над добродетелью торжествует и антихрист уже бродит по свету. Ваши милости не видели, что творилось, но даже рассказ об этом вам слушать невыносимо, а каково мне, воочию наблюдавшему разгром и позор безмерный! Всевышний послал нам в начале этой войны удачу. Князь наш, покарав по справедливости пана Лаща под Чолганским Камнем, остальное предал забвению и помирился с князем Домиником. Радовались мы все, что настало согласие – и Господь дал свое благословенье. Князь вторично погромил врага под Староконстантиновом и взял город, который неприятель после первого же штурма оставил. Затем двинулись мы к Пилявцам, хотя князь был иного мнения. Но уже в пути все против него ополчились: кто зависть выказывал, кто неприязнь, а кто и в открытую строил козни. На советах его не слушали, пропозициями пренебрегали, а пуще всего старались дивизию нашу разделить, чтобы она целиком под его рукой не осталась. Воспротивься он, за все беды вину б на него свалили, вот его светлость и страдал, терзался, но все сносил молча. Так, легкую кавалерию по приказу генерала-региментария в Староконстантинове оставили вместе с пушками Вурцеля и с оберштером Махницким; еще отделили от нас обозного литовского Осинского и полк Корицкого, так что остались у князя лишь гусары Зацвилиховского, два полка драгун да я с неполной хоругвью – всего не более двух тысяч. И после этого всячески его затереть старались, я сам слышал, как поговаривали угодники князя Доминика: «Теперь после виктории никто не скажет, что это заслуга одного Вишневецкого». И на всех углах кричали, что если князю и впредь безмерная будет сопутствовать слава, то и на выборах его ставленник, королевич Карл, возьмет верх, а они хотят Казимира. Всех заразили заговорщическими страстями: войско на партии раскололось, прения начались, депутации, как на сейме, – обо всем думали, только не о войне, словно неприятель уже разгромлен. А начни я вашим милостям рассказывать о тех пиршествах, славословии, о той роскоши непомерной, вы б ушам своим не захотели верить. Пирровы полчища – ничто по сравнению с этими воинами в страусовых перьях, золотом да драгоценностями обвешанными с головы до ног. А еще с нами было двести тысяч прислуги и тьма повозок, лошади шатались под тяжестью вьюков с коврами и шелковыми шатрами, возы трещали под сундуками. Можно было подумать, мы мир завоевать собрались. Шляхта из ополчения день-деньской щелкала хлыстами: «Вот чем, говорит, усмирим хамов, не обнажая сабель». А мы, старые солдаты, драться привыкли, не лясы точить, нам сразу почуялось недоброе при виде сей небывалой роскоши. А тут еще из-за пана Киселя пошли распри. Одни кричат: он изменник, другие – достойный сенатор. Спьяну то и дело за сабли хватались. Стражи внутри лагеря не было вовсе. Никто не следил за порядком, никто солдатами не командовал, все делали что хотели, ходили куда в голову взбредет, располагались где вздумается, челядь вечно перебранки затевала… Боже милосердный, не военный поход, а разгульная масленица: salutem Reipublicae [147]147
благополучие Речи Посполитой ( лат.).
[Закрыть]все без остатка растранжирили, проплясали, пропили и проели!
– Но мы еще живы! – сказал Володыёвский.
– И Бог есть на небесах! – добавил Скшетуский.
Снова настало молчание, затем Вершулл продолжал дальше.
– Погибнем totaliter [148]148
все до единого ( лат.).
[Закрыть], разве что Господь сотворит чудо, простит прегрешения наши и незаслуженную окажет милость. Порой я сам отказываюсь своим глазам верить, и все, что видел, мне представляется страшным сном…
– Продолжай, сударь, – перебил его Заглоба, – пришли вы в Пилявцы, и что дальше?
– Пришли и стали. О чем там региментарии совещались, не знаю – на Страшном суде они еще за это ответят: если бы сразу ударили на Хмельницкого, видит Бог, быть бы ему сломлену и разбиту, несмотря на беспорядок, разброд, распри и отсутствие полководца. Уже паника была среди черни, уже она подумывала, как бы Хмельницкого и вожаков своих выдать, а он сам замышлял бегство. Князь наш ездил от шатра к шатру, просил, умолял, угрожал: «Ударим, пока не подошли татары, ударим!» – и волосы на себе рвал, а они друг на дружку кивали – и ничего, ничего! Пререкались да пили… Разнесся слух, что идут татары – хан с двухсоттысячной конницей, – а они все судили-рядили. С князем никто не считался, он из своего шатра выходить перестал. Пронесся слух, будто канцлер воспретил князю Доминику начинать сраженье, будто ведутся переговоры: в войске еще большая поднялась неразбериха. А тут и татары пришли; правда, в первый день нас Бог не оставил, князь с паном Осинским им отпор дали, и пан Лащ себя показал превосходно: отогнали, потрепав изрядно, ордынцев. А потом…
Голос Вершулла пресекся.
– А потом? – спросил Заглоба.
– Настала ночь, страшная, неизвестно что обещающая… Помню, стоял я со своими людьми у реки в карауле и вдруг слышу, в казацком стане салютная пальба поднялась, крики. Мне и припомнилось, что вчера в лагере говорили, будто еще не вся татарская рать подоспела, только часть пришла с Тугай-беем. Я и подумал: коли они там ликуют, должно, и хан пожаловал собственной персоной. А тут и у нас начинается суматоха. Я взял несколько человек – и в лагерь. «Что случилось?» А мне кричат: «Региментарии ушли!» Я к князю Доминику – нет его! К подчашию – нет! К коронному хорунжему – нету! Господи Иисусе! Солдаты мечутся по майдану, головнями размахивают, крик, шум, вопли: «Где региментарии? Где региментарии?» Кто кричит: «На конь! На конь!», а кто: «Спасайтесь, братья, измена!» Руки воздевают к небу, лица безумные, глаза выпученные, толкаются, друг друга топчут, душат, на лошадей садятся, а кто и пешком бежит, не разбирая дороги. Бросают шлемы, кольчуги, ружья, палатки! Вдруг появляется со своими гусарами князь в серебряных латах: впереди шесть факелов несут, а он, в стременах привставши, кричит: «Я здесь, все ко мне, я остался!» Куда там! Его и не слышат, и не видят, прут прямо на гусар, ряды сминают, людей, лошадей сбивают с ног – мы едва уберегли самого князя, – и по затоптанным кострищам, во тьме, точно полая вода, все войско в диком смятенье вылетает из лагеря, бежит очертя голову, рассеивается, гибнет… Нет больше войска, нет вождей, нет Речи Посполитой, только позор несмываемый да казацкая удавка на шее…
Тут застонал Вершулл и лошади в бока шпоры вонзил, до исступления доведенный отчаяньем; чувство это передалось остальным – словно в умопомраченье ехали они сквозь дождь и ночь.
Долго так ехали. Первым заговорил Заглоба:
– Без боя! Ах, стервецы! Разрази их гром! А помните, как куражились в Збараже? Как грозились Хмельницкого съесть без перца и соли? Шельмы окаянные!
– Какое там! – вскричал Вершулл. – Бежали после первого же сражения, выигранного у татар и черни, когда даже ополченцы словно львы дрались.
– Видится мне в этом перст Божий, – сказал Скшетуский, – но еще где-то здесь скрыта тайна, которая со временем должна проясниться.
– Ладно бы войска обратились в бегство – такое на свете бывает, – сказал Володыёвский, – но тут полководцы первыми покинули лагерь, словно нарочно вознамерясь врагу облегчить победу и людей своих погубить.
– Истинная правда! – подхватил Вершулл. – Так и говорят, будто это с умыслом сделано было.
– С умыслом? Боже правый, не может быть такого!..
– Говорят, с умыслом. А почему?.. Кто поймет! Кто угадает!
– Чтоб им на том свете не знать покоя, чтобы род каждого зачах и только бесславная память осталась! – сказал Заглоба.
– Аминь! – сказал Скшетуский.
– Аминь! – сказал Володыёвский.
– Аминь! – повторил Подбипятка.
– Один есть человек, который еще отчизну спасти может, ежели ему булаву и уцелевшие силы Речи Посполитой доверить, один-единственный – никого другого ни войско, ни шляхта знать не захочет.
– Князь! – сказал Скшетуский.
– Точно так.
– За ним пойдем, под его рукою и смерть не страшна… Да здравствует Иеремия Вишневецкий! – воскликнул Заглоба.
– Да здравствует! – повторило полсотни неуверенных голосов, но восклицания быстро оборвались: когда земля расступалась под ногами, а небо, казалось, обрушивается на голову, не время было для здравиц.
Меж тем начало светать, и в отдалении показались стены Тарнополя.








