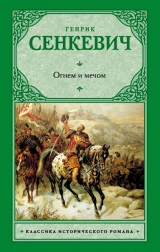
Текст книги "Огнем и мечом. Дилогия"
Автор книги: Генрик Сенкевич
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 56 страниц)
– Тогда тем скорее Скшетуский может в какую-нибудь передрягу попасть, тут наша помощь и потребуется.
– И это верно.
Заглоба так крепко задумался, что у него даже жилы на висках вздулись.
Наконец он очнулся и промолвил:
– Я все взвесил: надобно ехать.
Володыёвский вздохнул облегченно.
– А когда?
– Отдохнем денька три, окрепнем душой и телом и поедем.
На следующий же день друзья принялись готовиться в дорогу, как вдруг накануне отъезда неожиданно объявился слуга Скшетуского, молоденький казачок Цыга, с вестями и письмами к Вершуллу. Услыхав об этом, Заглоба с Володыёвским поспешили к коменданту на квартиру и там прочли нижеследующее:
«Я нахожусь в Каменце, докуда сатановский тракт свободен. Еду в Ягорлык с купцами-армянами, с которыми свел меня пан Буковский. У них есть охранные грамоты от татар и казаков на свободный проезд до самого Аккермана. Поедем за шелками через Ушицу, Могилев и Ямполь. Останавливаться будем везде, где только живые есть люди. Даст Бог, найдем то, что ищем. Товарищам моим, пану Володыёвскому и пану Заглобе, скажи, чтобы в Збараже меня дожидались, ежели им других дел не найдется, ибо туда, куда я собрался, скопом никак нельзя ехать: казаки, что зимуют в Ямполе и лошадей в снегах держат, на берегах Днестра, вплоть до Ягорлыка, всякого заподозрить готовы. Чего я сам не сделаю, того бы мы и втроем не свершили, да и за армянина я сойду скорее. От души поблагодари их, пан Кшиштоф, за готовность помочь мне, чего я до гробовой доски не забуду, но ждать долее невмоготу было – каждый день новые приносил мученья, – да и прибудут ли они, я не мог знать наверно, а сейчас наилучшая пора ехать: все купцы отправляются за сладостями и шелками. Верного казачка своего отсылаю обратно, твоим поручая заботам, мне он ни к чему, только и опасаешься, как бы по неопытности не сболтнул лишнего. Пан Буковский за порядочность этих купцов ручается, да и мне они опасения не внушают. Верю: все во власти Господа, пожелает он – явит нам свою милость и мучения сократит, аминь».
Заглоба, закончив чтение письма, поднял глаза на своих товарищей, но те молчали. Наконец Вершулл сказал:
– Я знал, что он в те края поехал.
– А нам что теперь делать? – спросил Володыёвский.
– Ничего! – ответил, разводя руками, Заглоба. – Нет нам резону ехать. Что он к купцам пристал, это хорошо: заглядывай куда хочешь, никто удивляться не станет. Нынче в каждой хате, на каждом хуторе найдется, что купить; мятежники ведь разграбили половину Речи Посполитой. А нам с тобой, пан Михал, тяжеленько было бы в Ямполь добираться. Скшетуский черняв, как валах, ему легко за армянина сойти, а тебя твои пшеничные усики тотчас бы выдали. И в мужицком платье было б не проще… Благослови его Господь! А нам с тобой там, должен признаться, нечего делать – хоть и обидно, что нельзя руки приложить к освобождению нашей бедняжки. Зато, зарубив Богуна, мы Скшетускому оказали большую услугу: будь жив атаман, я бы за голову пана Яна не поручился.
Володыёвский недовольно нахмурился. Он предвкушал уже путешествие, полное приключений, а вместо этого впереди замаячило долгое и тоскливое пребыванье в Збараже.
– Может, нам хоть в Каменец перебраться? – сказал он.
– А что там делать и на что жить будем? – отвечал Заглоба. – Не все ли равно, где штаны просиживать. Нет, надобно ждать, запасясь терпеньем: такое путешествие может затянуться надолго. Человек молод, пока ноги переставляет, – тут Заглоба уныло повесил голову, – а в безделье стареет, однако иного выхода я не вижу… Даст бог, друг наш без нас обойдется. Завтра закажем молебен, попросим, чтоб ему всевышний послал удачу. Главное, что мы с его пути Богуна убрали. Будем ждать – вели расседлывать лошадей, пан Михал.
И настали для двух приятелей долгие, похожие один на другой дни ожиданья, которые ни попойками, ни игрою в кости не удавалось скрасить, и тянулись бесконечно. Тем временем наступила суровая зима. Снег толщиною в локоть, точно саван, покрыл крепостные стены и все окрестности Збаража, зверье и птицы перебрались поближе к человечьему жилью. С утра до вечера не смолкало карканье бессчетных вороньих стай. Прошел декабрь, за ним январь и февраль – о Скшетуском не было ни слуху ни духу.
Володыёвский ездил искать приключений в Тарнополь, Заглоба помрачнел и говорил, что стареет.
Глава XVI
Комиссары, высланные Речью Посполитой на переговоры с Хмельницким, с величайшими затруднениями добрались наконец до Новоселок, где и остановились, ожидая ответа от гетмана-победителя, находившегося в ту пору в Чигирине. Они пребывали в унынии и печали, так как всю дорогу были на волосок от смерти, а трудности на каждом шагу умножались. И днем и ночью их окружали толпы вконец одичалой от войны и резни черни, кричавшей: «Смерть комиссарам!» То и дело на пути встречались безначальные ватаги разбойников и диких чабанов, слыхом не слыхавших о правах и законах, зато жаждущих добычи и крови. Комиссаров, правда, сопровождала сотня конвоя под командой Брышовского, кроме того, сам Хмельницкий, предвидя, каково им может прийтись, прислал своего полковника Донца с четырьмя сотнями казаков. Однако и такое охранение весьма было ненадежно: дикие толпы час от часу множились и зверели. Стоило кому-нибудь из конвойных или челяди на минуту отделиться от остальных, и человек тот пропадал бесследно. Послы были точно жалкая кучка путников, окруженная стаей голодных волков. Так проходили дни и недели, а на ночлеге в Новоселках всем и вовсе стало казаться, что пробил последний час. Драгунский конвой и отряд Донца с вечера в самом настоящем бою отстаивали жизнь комиссаров, а те, шепча отходную молитву, препоручали свои души Богу. Кармелит Лентовский всем поочередно отпускал прегрешенья, а ветер стучал в окна, из-за которых доносились жуткие вопли, отзвуки выстрелов, сатанинский хохот, звяканье кос, возгласы: «На погибель!» и требования выдать воеводу Киселя, который был особенно ненавистен черни.
Страшная то была ночь и долгая, как всякая ночь зимою. Воевода Кисель, подперев голову рукой, несколько часов уже сидел неподвижно. Не смерти боялся он, ибо со времени отъезда из Гущи настолько устал и обессилел, так был бессонницею истерзан, что смерть встретил бы с распростертыми объятьями, – нет, душу его снедало беспредельное отчаянье. Ведь не кто иной, как он, чистокровный русин, первый вызвался на роль миротворца в этой беспримерной войне. Он выступал везде и всюду, в сенате и на сейме, как самый ярый сторонник трактатов, он поддерживал политику канцлера и примаса и горячее других осуждал Иеремию, будучи искренне убежден, что действует во благо казачества и Речи Посполитой. Всей своей пылкой душою верил он, что переговоры, уступки всех умиротворят, исцелят, успокоят, – и именно сейчас, в эту долгожданную минуту, везя Хмельницкому булаву, а казачеству согласие на уступки, усомнился во всем: увидел явственно тщетность своих усилий, узрел под ногами зияющую пустотой бездну.
«Неужто им ничего, кроме крови, не надо? Неужто не нужны никакие свободы, кроме свободы жечь и грабить?» – думал в отчаянье воевода, сдерживая разрывавшие его благородную грудь стоны.
– Г о л о в у К и с е л е в у! Г о л о в у К и с е л е в у! Н а п о г и б е л ь! – кричала толпа.
Воевода без колебаний принес бы им в дар свою всклокоченную белоснежную голову, если б не последние крупицы веры, что и черни этой, и всему казачеству потребно нечто другое, большее – а иначе не будет ни им, ни Речи Посполитой спасенья. Да откроет им на это глаза грядущий день!
И когда он думал так, проблеск подкрепляющей дух надежды рассеивал на мгновенье мрак, порожденный отчаянием, и несчастный старец принимался себя уговаривать, что чернь – это еще не все казачество и не Хмельницкий с его полковниками и, быть может, все-таки начнутся переговоры.
Но много ли от них будет проку, пока полмиллиона мужиков не сложили оружья? Не растает ли согласие с первым дуновением весны, подобно снегам, что ныне покрывают степь?..
И в который уж раз вспоминались воеводе слова Иеремии: «Милость можно оказать лишь побежденным», – и мысль его снова погружалась во тьму, а под ногами разверзалась пропасть.
Меж тем перевалило за полночь. Крики и пальба несколько поутихли, зато вой ветра усилился, на дворе бушевала снежная буря, уставшие толпы, видно, начали расходиться по домам, и у комиссаров немного отлегло от сердца.
Войцех Мясковский, львовский подкоморий, поднялся со скамьи, послушал у окна, занесенного снегом, и молвил:
– Видится мне, с Божьей помощью еще доживем до завтра.
– Может, и Хмельницкий пришлет подмогу – с этим охранением нам не дойти, – заметил Смяровский.
Зеленский, подчаший брацлавский, усмехнулся горько:
– Кто скажет, что мы посланцы мира!
– Случалось мне, и не раз, посольствовать у татар, – сказал новогрудский хорунжий, – но такого я в жизни не видывал. В нашем лице Речь Посполитая злее унижена, нежели под Корсунем и Пилявцами. Оттого я и говорю: поехали, милостивые господа, обратно, о переговорах нечего и думать.
– Поехали, – как эхо повторил каштелян киевский Бжозовский. – Не суждено быть миру – пусть будет война.
Кисель поднял веки и упер остекленелый взгляд в каштеляна.
– Желтые Воды, Корсунь, Пилявцы! – глухо проговорил старец.
И умолк, а за ним умолкли и остальные – лишь Кульчинский, киевский скарбничий, начал громко молиться, а ловчий Кшетовский, схватясь руками за голову, повторял:
– Что за времена! Что за времена! Смилуйся над нами, Боже.
Вдруг дверь распахнулась, и в горницу вошел Брышовский, капитан драгун епископа познанского, командовавший конвоем.
– Ясновельможный воевода, – доложил он, – какой-то казак хочет видеть панов комиссаров.
– Пусть войдет, – ответил Кисель. – А чернь разошлась?
– Ушли. К завтрему посулили вернуться.
– Очень буйствовали?
– Страшно как, но Донцовы казаки положили человек пятнадцать. Завтра обещаются нас спалить живыми.
– Ладно, зови этого казака.
Минуту спустя дверь отворилась, и на пороге стал высокий человек, заросший черной бородою.
– Ты кто таков? – спросил Кисель.
– Ян Скшетуский, гусарский поручик князя русского воеводы.
Каштелян Бжозовский, Кульчинский и ловчий Кшетовский повскакали со скамей. Все они прошлый год были с князем под Староконстантиновом и Махновкой и прекрасно знали пана Яна; Кшетовский даже ему приходился свойственником.
– Правда! Правда! Да это же Скшетуский! – повторяли они в один голос.
– Что ты здесь делаешь? Как смог до нас добраться? – спрашивал, обнимая его, Кшетовский.
– В крестьянском платье, как видите, – отвечал Скшетуский.
– Ваша милость, – воскликнул, обращаясь к Киселю, каштелян Бжозовский, – это самый доблестный рыцарь из хоругви русского воеводы, прославленный среди всего войска.
– Рад душевно его приветствовать, – сказал Кисель, – поистине недюжинной отвагой обладать нужно, чтобы к нам пробиться.
И затем обратился к Скшетускому:
– Чего ты от нас хочешь?
– Дозволь с вами идти, ваша милость.
– Дракону в пасть лезешь… Впрочем, ежели такова твоя воля, мы противиться не вправе.
Скшетуский молча поклонился.
Кисель смотрел на него с удивленьем.
Строгое лицо молодого рыцаря поразило его серьезностью и скорбным выражением.
– Скажи, сударь, – промолвил он, – какие причины толкнули тебя в это пекло, куда не сунется никто по доброй воле?
– Несчастье, ясновельможный пан воевода.
– Напрасно я спросил, – сказал Кисель. – Видно, ты потерял кого-то из близких и теперь на поиски едешь?
– Именно так.
– А давно это приключилось?
– Прошлой весною.
– Как? И ваша милость сейчас только ехать собрался! Ведь без малого год прошел! Что же ты до сих пор, любезный сударь, делал?
– Воевал под знаменами русского воеводы.
– Неужто благородный сей вождь тебя не пожелал отпустить?
– Я сам не хотел.
Кисель снова взглянул на молодого рыцаря, после чего настало молчание, которое было прервано киевским каштеляном:
– Все мы, кто с князем служил, наслышаны о несчастьях этого рыцаря и не одну слезу пролили из сочувствия ему, а что он предпочел, покуда война шла, отечеству служить, а не о своем благе печься, достойно еще большего одобренья. Редкостный по нынешним временам пример.
– Если окажется, что мое слово для Хмельницкого хоть что-нибудь значит, поверь, сударь, я не премину его за тебя замолвить, – сказал Кисель.
Скшетуский опять поклонился.
– А теперь иди отдыхай, – ласково сказал воевода, – ты, верно, утомлен изрядно, как и все мы: у нас ведь ни минуты нет покоя.
– Я его к себе заберу, мы с ним в свойстве, – сказал ловчий Кшетовский.
– Пойдемте и мы, отдохнуть никому не помешает, кто знает, доведется ли уснуть следующей ночью! – сказал Бжозовский.
– Вечным сном, быть может, – докончил воевода.
И с этими словами удалился в боковую светелку, где в дверях его уже поджидал слуга; за ним разошлись и остальные. Ловчий Кшетовский повел Скшетуского к себе на квартиру, которая была рядом, через несколько домов только. Слуга с фонарем шел перед ними.
– До чего ж ночь темна, и метет все сильнее! – сказал ловчий. – Эх, пан Ян, что мы сегодня пережили! Я думал, Судный день наступает. Еще б немного, и чернь перерезала бы нам глотки. У Брышовского рука рубить устала. Мы уже с жизнью прощались.
– Я был среди черни, – ответил Скшетуский. – Завтра к вечеру ожидается новая ватага разбойников, их уже оповестили. До вечера непременно надо уехать. Вы отсюда прямо в Киев?
– Это зависит от ответа Хмельницкого – к нему князь Четвертинский поехал. А вот и моя квартира, милости прошу, входи, пан Ян, я велел вина подогреть, не худо перед сном подкрепиться.
Они вошли в горницу, где в очаге ярко горел огонь. Дымящееся вино уже стояло на столе. Скшетуский жадно схватил чарку.
– У меня ни крошки не было во рту со вчерашнего дня, – сказал он.
– Исхудал ты страшно. Извелся, видно, совсем от печали и ратных трудов. Рассказывай теперь про себя, мне ведь о твоих делах известно. Княжну, значит, среди врагов задумал искать?
– Либо ее, либо смерть, – ответил рыцарь.
– Смерть найти легче. А откуда ты знаешь, что княжна в тех краях? – продолжал расспрашивать ловчий.
– Потому что другие я уже объездил.
– Где ж ты был?
– В пойме Днестра. С армянскими купцами дошел до Ягорлыка. Были указанья, что она там укрыта; везде побывал, а теперь еду в Киев: как будто Богун туда ее везти собирался.
Едва поручик произнес имя «Богун», ловчий схватился за голову:
– Господи! – воскликнул он. – Что ж это я о главном молчу! Богуна, говорят, убили.
Скшетуский побледнел.
– Как так? От кого ты слышал?
– От того самого шляхтича, что однажды княжну уже спас, – он еще под Староконстантиновом отличился. Мы в пути повстречались, когда он в Замостье ехал. Только я спросил: «Что слышно?» – а он мне: «Богун убит». – «Кто ж его убил?» – спрашиваю, а он отвечает: «Я!» На том и расстались.
Вспыхнувшее было лицо Скшетуского побледнело мгновенно.
– Шляхтич этот, – сказал он, – приврать любит. Нельзя его словам верить. Нет! Нет! Да и Богуна одолеть ему не под силу.
– А ты сам его разве не видел? Помнится, он сказывал, будто к тебе в Замостье едет.
– В Замостье я его не дождался. Сейчас он, верно, в Збараже, но мне комиссаров хотелось побыстрей догнать, потому на обратном пути из Каменца я туда заезжать не стал и так его и не увидел. Одному Богу известно, сколько правды в том, что он мне о ней рассказывал в свое время: будто бы, когда в плену у Богуна сидел, случайно подслушал, что тот ее за Ямполем спрятал, а потом собирался везти венчаться в Киев. Может, и это, как все прочие его россказни, неправда.
– Зачем же тогда в Киев едешь?
Скшетуский замолчал, какое-то время слышны были только свист и завывание ветра.
– Послушай-ка… – сказал вдруг, хлопнув себя по лбу, ловчий, – ведь ежели Богун не убит, ты легко к нему в лапы попасться можешь.
– За тем и еду, чтобы его отыскать, – глухо ответил Скшетуский.
– Как это?
– Пусть Божий суд нас рассудит.
– Думаешь, он драться с тобою станет? Скрутит да и велит живота лишить либо продаст татарам.
– Я ж с комиссарами еду, в их свите.
– Дай Бог нам самим унести ноги, что уж там говорить о свите!
– Кому жизнь в тягость, могила в радость.
– Побойся Бога, Ян!.. Да и не смерть страшна, все там будем. Они тебя могут туркам продать на галеры.
– Ужель ты думаешь, пан ловчий, мне будет хуже, чем сейчас?
– Вижу, ты совсем отчаялся, в милосердие Божие утратил веру.
– Ошибаешься, пан ловчий! Я говорю, худо мне жить на свете, потому что так оно и есть, а с волей Господнею я давно смирился. Не прошу, не сетую, не проклинаю, головою о стенку не бьюсь – только долг свой хочу исполнить, пока жив, пока силы хватит.
– Но боль душевная тебя точно яд травит.
– Господь затем ее и послал, чтоб травила, а когда пожелает, пошлет исцеленье.
– На этот довод мне возразить нечего, – ответил ловчий. – Единственное наше спасение во всевышнем, он один – надежда наша и всей Речи Посполитой. Король поехал в Ченстохову – может, вымолит что-нибудь у Пресвятой Девы, а не то все погибнем.
Воцарилась тишина, только из-за окон доносилось протяжное драгунское «Werdo». [170]170
«Кто идет?» – старинное восклицание стражников; от немецкого «wer da?» – «кто там?».
[Закрыть]
– Да-да, – сказал, помолчав, ловчий. – Все мы уже скорее мертвы, чем живы. Разучились люди в Речи Посполитой смеяться, стенают только, как сейчас в трубе ветер. Прежде и я верил, что лучшие времена настанут, пока в числе послов сюда не приехал, но теперь вижу, сколь надежды мои были тщетны. Разруха, война, голод, убийства, и ничего боле… Ничего боле.
Скшетуский молчал, пламя горящих в очаге дров освещало его исхудалое суровое лицо.
Наконец он поднял голову и промолвил серьезно:
– Бренна жизнь наша: пройдет, минует – и следа не оставит.
– Ты говоришь, как монах, – сказал ловчий.
Скшетуский не отвечал, только ветер еще жалобнее стонал в трубе.
Глава XVII
На следующее утро комиссары, и с ними Скшетуский, покинули Новоселки, но плачевно было дальнейшее их путешествие: на каждом привале, во всяком местечке их подстерегала смерть, со всех сторон сыпались оскорбления, и были они горше смерти – в лице комиссаров оскорблялись величие и могущество Речи Посполитой. Кисель совсем расхворался, и на ночлегах его прямо в горницу из саней вносили. Подкоморий львовский оплакивал позор свой и своей отчизны. Капитан Брышовский тоже занемог от бессонницы и неустанного напряженья – его место занял Скшетуский, который и повел дальше несчастных путников, осыпаемых поношениями и угрозами бушующей толпы, в постоянных стычках отражая ее натиск.
В Белгороде комиссарам снова показалось, что пришел их последний час. Был избит больной Брышовский, убит Гняздовский – лишь появление митрополита, прибывшего для беседы с воеводой, позволило избежать неминуемой расправы. В Киев комиссаров пускать не хотели. Князь Четвертинский вернулся от Хмельницкого 11 февраля, не получив никакого ответа. Комиссары не знали, как быть, куда ехать. Обратный путь был отрезан: бессчетные разбойные ватаги только и ждали срыва переговоров, чтобы перебить посольство. Толпа все более распоясывалась. Драгунам преграждали дорогу, хватая лошадей за поводья, сани воеводы осыпали камнями, кусками льда и мерзлыми комьями снега. В Гвоздовой Скшетуский и Донец в кровопролитном бою разогнали толпу в несколько сот человек. Хорунжий новогрудский и Смяровский вновь отправились к Хмельницкому, чтобы убедить его приехать на переговоры в Киев, но воевода почти уже не надеялся, что комиссары доберутся туда живыми. Тем часом в Фастове они вынуждены были, сложа руки, смотреть, как толпа расправляется с пленными: старых и малых, мужчин и женщин топили в проруби, обливали на морозе водой, кололи вилами, живьем кромсали ножами. Такое продолжалось восемнадцать дней, пока наконец Хмельницкий не прислал ответ, что в Киев ехать он не желает, а ждет воеводу и комиссаров в Переяславе.
Злосчастные посланцы воспряли духом, полагая, что настал конец их мученьям. Переправившись через Днепр в Триполье, они остановились на ночлег в Воронкове, откуда всего шесть миль было до Переяслава. Навстречу им на полмили выехал Хмельницкий, как бы тем самым оказывая честь королевскому посольству. Но сколь же он переменился с той поры, когда старался выглядеть несправедливо обиженным, «quantum mutatus ab illo» [171]171
«сколь же он отличается от того, каким был» ( лат.). – Вергилий.
[Закрыть], как писал воевода Кисель.
Хмельницкий появился в сопровождении полусотни всадников, с полковниками, есаулами и военным оркестром, словно удельный князь – со значком, с бунчуком и алым стягом. Комиссарский поезд тотчас остановился, он же, подскакав к передним саням, в которых сидел воевода, долго глядел в лицо почтенному старцу, а потом, слегка приподняв шапку, промолвил:
– Поклон вам, п а н о в е комиссары, и тебе, воевода. Раньше бы надо начинать со мной переговоры, покуда я поплоше был и силы своей не ведал, но коли король вас д о м е н е п р и с л а в, от души рад принять вас на своих землях.
– Привет тебе, гетман! – ответил Кисель. – Его величество король послал нас монаршье благоволение тебе засвидетельствовать и установить справедливость.
– За благоволение монаршье спасибо, а справедливость я уже самолично вот этим, – тут он хлопнул рукой по сабле, – установил, не пощадив животов ваших, и впредь так поступать стану, ежели по-моему делать не будете.
– Нелюбезно ты нас, гетман запорожский, принимаешь, нас, посланников королевских.
– Н е б у д у г о в о р и т и н а м о р о з i, найдется еще для этого время, – резко ответил Хмельницкий. – Пусти меня, Кисель, в свои сани, я желаю честь оказать посольству – поеду вместе с вами.
С этими словами он спешился и подошел к саням. Кисель подвинулся вправо, освобождая место по левую от себя руку.
Увидев это, Хмельницкий нахмурился и крикнул:
– По правую руку меня сажай!
– Я сенатор Речи Посполитой!
– А что мне сенатор! Потоцкий вон первый сенатор и коронный гетман, а у меня в лыках сейчас вместе с иными: захочу, завтра же на кол посажен будет.
Краска выступила на бледных щеках Киселя.
– Я здесь особу короля представляю!
Хмельницкий еще пуще нахмурился, но сдержал себя и сел слева, бормоча:
– Н а й к о р о л ь б у д е у В а р ш а в i, а я н а Р у с и. Мало еще, вижу, вам от меня досталось.
Кисель ничего не ответил, лишь возвел очи к небу. Он предчувствовал, что его ожидает, и справедливо подумал в тот миг, что если путь к Хмельницкому можно назвать Голгофой, то переговоры с ним – крестная мука.
Поезд двинулся в город, где палили из двух десятков пушек и звонили во все колокола. Хмельницкий, словно опасаясь, как бы комиссары не сочли это знаком особой для себя чести, сказал воеводе:
– Я не только вас, а и других послов, коих ко мне шлют, так принимаю.
Хмельницкий говорил правду: действительно, к нему, точно к удельному князю, уже посылали посольства. Возвращаясь из Замостья под впечатлением выборов, удрученный известиями о поражениях, нанесенных литовским войском, гетман куда как скромнее о себе мыслил, но, когда Киев вышел навстречу ему со знаменами и огнями, когда академия приветствовала его словами: «Tamquam Moisem, servatorem, salvatorem, liberatorem populi de sevitute lechica et bono omine Bohdan» [172]172
Подобный Моисею, спаситель, избавитель, освободитель народа из рабства ляшского, в добрый знак названный Богданом ( лат.).
[Закрыть] – богоданный, когда, наконец, его назвали «illustrissimus princeps» [173]173
наиславнейший государь ( лат.).
[Закрыть]? – тогда по словам современников, «возгордился сим зверь дикий». Силу свою почувствовал и твердую почву под ногами, чего ранее ему недоставало.
Чужеземные посольства были безмолвным признанием как его могущества, так и независимости; неизменная дружба татар, оплачиваемая большей частью добычи и несчастными ясырями, которых этот народный вождь разрешил брать из числа своего народа, позволяла рассчитывать на поддержку против любых врагов; потому-то Хмельницкий, еще под Замостьем признававший королевскую власть и волю, ныне, обуянный гордынею, уверенный в своей силе, видя царящий в Речи Посполитой разброд и слабость ее предводителей, готов был поднять руку и на самого короля, теперь уже мечтая в глубине темной своей души не о казацких вольностях, не о возврате Запорожью былых привилегий, не о справедливости к себе, а об удельном государстве, о княжьей шапке и скипетре.
Он чувствовал себя хозяином Украины. Запорожское казачество стояло за него: никогда, ни под чьей властью не купалось оно в таком море крови, не имело такой богатой добычи; дикий по натуре своей народ тянулся к нему – ведь, когда мазовецкий или великопольский крестьянин безропотно гнул спину под ярмом насилья, во всей Европе доставшимся в удел «потомкам Хама», украинец вместе со степным воздухом впитывал любовь к свободе столь же беспредельной, дикой и буйной, как самые степи. Охота была ему ходить за господским плугом, когда его взгляд терялся в пустыне, Господом, а не господином данной, когда из-за порогов Сечь призывала его: «Брось пана и иди на волю!», когда жестокий татарин учил его воевать, приучал взор его к пожарам и крови, а руку – к оружью?! Не лучше ли было разбойничать под началом Хмеля и п а н i в р i з а т и, нежели ломать перед подстаростой шапку?..
А еще народ шел к Хмелю потому, что кто не шел, тот попадал в полон. В Стамбуле за десять стрел давали невольника, за лук, закаленный в огне, – троих, столь великое множество ясырей было. Поэтому у черни не оставалось выбора – и лишь странная с тех времен сохранилась песня, которую долго еще распевали по хатам из поколения в поколение, странная песня об этом вожде, прозванном Моисеем: «О й, щ о б т о г о Х м i л я п е р ш а к у л я н е м и н у л а!»
Исчезали с лица земли местечки, города и веси, страна обезлюдела, превратилась в руины, в сплошную рану, которую не могли заживить столетья, но оный вождь и гетман этого не видел либо не хотел видеть – он никогда ничего не замечал дальше своей особы, – и крепнул, и кормился огнем и кровью, и, снедаемый чудовищным самолюбьем, губил собственный народ, собственную страну; и вот теперь ввозил комиссаров в Переяслав под колокольный звон и гром орудий, как удельный владыка, господарь, князь.
Понурив головы, ехали в логово льва комиссары, и последние искры надежды гасли в их сердцах, а тем временем Скшетуский, следовавший за вторым рядом саней, неотрывно разглядывал полковников, прибывших с Хмельницким, думая увидеть среди них Богуна. После бесплодных поисков на берегах Днестра, закончившихся за Ягорлыком, в душе пана Яна, как единственное и последнее средство, созрело намерение отыскать Богуна и вызвать его на смертный поединок. Бедный наш рыцарь понимал, конечно, что в этом пекле Богун может зарубить его без всякого боя или отдать татарам, но он лучшего был об атамане мнения: зная его мужество и безудержную отвагу, Скшетуский почти не сомневался, что, поставленный перед выбором, Богун не откажется от поединка. И потому вынашивал в своей исстрадавшейся душе целый план, как свяжет атамана клятвой, чтобы в случае смерти его тот отпустил Елену. О себе Скшетуский уже не заботился: предполагая, что казак в ответ ему скажет: «А коли я погибну, пусть она ни моей, ни твоей не будет», – он готов был и на это согласиться и в свой черед дать такую же клятву, лишь бы вырвать ее из вражьих рук. Пусть она до конца дней своих обретет покой в монастырских стенах… Он тоже сперва на бранном поле, а затем, если не приведется погибнуть, в монастырской келье поищет успокоенья, как искали его в те времена все скорбящие души. Путь такой казался Скшетускому прямым и ясным, а после того, как под Замостьем ему однажды подсказали мысль о поединке с атаманом, после того, как розыски княжны в приднестровских болотах закончились неудачей, – то и единственно возможным. С этой целью, не останавливаясь на отдых, он поспешил с берегов Днестра вдогонку за посольством, надеясь либо в окружении Хмельницкого, либо в Киеве найти соперника, тем более что, по словам Заглобы, Богун намеревался ехать в Киев, венчаться там при трехстах свечах.
Однако тщетно теперь Скшетуский высматривал его между полковников. Зато он увидел немалое число иных, еще с прошлых, мирных, времен знакомцев: Дедялу, которого встречал в Чигирине, Яшевского, приезжавшего из Сечи послом к князю, Яроша, бывшего сотника Иеремии, Грушу, Наоколопальца и многих других, и решил у них разузнать, что удастся.
– Узнаешь старых знакомых? – спросил он, подъезжая к Яшевскому.
– Я тебя в Лубнах видел, ты князя Яремы л и ц а р, – ответил полковник. – Вместе, помнится, пили-гуляли. Что князь твой?
– Здравствует, спасибо.
– Это покуда весна не настала. Они еще не встречались с Хмельницким, а встретятся – одному живым не уйти.
– Как будет угодно Господу Богу.
– Ну, нашего б а т ь к а Господь не оставит. Не бывать больше твоему князю на татарском берегу у себя в Заднепровье. У Хмеля б а г а т о м о л о д ц i в, а у Яремы что? Добрый он ж о л н i р, но и наш б а т ь к о не хуже. А ты что, больше у князя не служишь?
– Я с комиссарами еду.
– Что ж, рад старого знакомца видеть.
– Коли рад, окажи мне услугу, век буду тебе благодарен.
– Какую услугу?
– Скажи мне, где Богун, знаменитый тот атаман, что прежде в переяславском полку служил, а ныне среди вас высшее званье иметь должен?
– Замолчи! – с угрозой вскричал Яшевский. – Твое счастье, что мы давние знакомцы и пили вместе, не то б я тебя этим вот буздыганом на снег уложил немедля.
Скшетуский посмотрел на него удивленно, но, будучи сам на решения скор, стиснул в руке булаву.
– Ты в своем уме?
– Я-то в своем и пугать тебя не намерен, но такой был отдан Хмелем приказ: кто б из ваших, пусть комиссар даже, о чем ни спросил, – убивать на месте. Я не исполню приказа, другой исполнит, потому и предупреждаю – из доброго к тебе расположенья.
– Так у меня же интерес приватный.
– Все едино. Хмель нам, полковникам, наказал и другим велел передать: «Убивать всякого – хоть о дровах, хоть о навозе спросят». Так и скажи своим.
– Спасибо за добрый совет, – ответил Скшетуский.
– Это я только тебя предостерег, а любого другого ляха уложил бы без слова.
Они замолчали. Поезд уже достиг городских ворот. По обеим сторонам дороги и на улицах толпилась чернь и вооруженные казаки, которые в присутствии Хмельницкого не смели обрушить на сани проклятья и комья снега, а лишь провожали комиссаров угрюмыми взорами, сжимая кулаки или рукояти сабель.
Скшетуский, выстроив драгун по четверо, с гордо вскинутой головою спокойно ехал по широкой улице, не обращая никакого внимания на грозные взгляды толпившегося вокруг люда, и лишь думал, сколько ему потребуется самоотречения, выдержки и христианского всетерпенья, дабы свершить задуманное и не потонуть с первых же шагов в этом океане ненависти и злобы.








