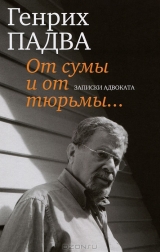
Текст книги "От сумы и от тюрьмы… Записки адвоката"
Автор книги: Генрих Падва
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
Это была высокая, худощавая женщина, явно смутившаяся при виде меня. Помимо нее, в суде работали еще две женщины: одна – секретарь судебного заседания, другая – секретарь суда. Они откуда-то появились посмотреть на меня, как на заморское чудо. Хохоту по поводу моей обувки было много, и тут же все стали решать, что же на меня надеть.
В магазинах тогда ничего не было, а мне срочно требовалась какая-то подходящая для местной грязи обувь. И тогда кто-то из них вспомнил, что в одном деле было вещественное доказательство – резиновые сапоги. Их немедленно извлекли с чердака, где они валялись в ожидании своего часа, и вручили мне. Одна беда – сапоги были размеров на пять больше, чем мне требовалось. Тогда мне кто-то из них посоветовал:
– А ты влезай в эти сапоги прямо в ботинках. Звучало как шутка, но я и вправду стал так делать.
Надо мной смеялись, говоря:
– Нашего адвоката, когда он идет, видно так: сначала в окне появляются носки сапог, а потом уже он сам.
Вот так я стал адвокатствовать в Погорелом Городище…
На новом месте меня встретили приветливо, с осторожным любопытством. Оно и понятно: Погорелое Городище было захолустьем, некоторые его обитатели не бывали никогда не только в Москве, но даже и в областном центре. Появление столичного жителя не могло не взбудоражить умы – меня рассматривали как какую-то диковинку. Однако уже вскоре после моего приезда в Погорелое Городище у меня установились прекрасные товарищеские отношения со всеми моими коллегами: с судьей, прокурором, следователем, другими работниками суда (я помню их по именам – Надя и Нина, славные, кстати, были тетки).
Надя, если я не ошибаюсь, была еще и судебным исполнителем.
Надо сказать, что по многим делам я защищал обвиняемых по назначению суда, а суд уже затем взыскивал с них определенные суммы гонорара, точнее – выписывался исполнительный лист на взыскание денег за мою работу, но, конечно, реально я ничего не получал. Так продолжалось до тех пор, пока мой дружок Генрих Ревзин не научил меня, что нужно как-то заинтересовать судебного исполнителя – и тогда хоть какую-то часть взысканных денег можно будет получить.
Следуя совету более опытного товарища, я предложил Наде отстегивать ей десять процентов с каждой реально взысканной суммы. И денежки потекли маленьким ручейком, спасая меня от нищеты.
Мои будущие процессуальные противники также отнеслись к моему появлению скорее доброжелательно. В прокуратуре тогда работал старый прокурор Соловьев, милейший и безукоризненно честный человек. Следователем был Стрельцов, на фронте потерявший одну ногу и ходивший на протезе, – он был более, если так можно выразиться, суровый, но столь же честный. Никто из нас тогда и не представлял себе возможности решать какие-то вопросы при помощи взятки! Может быть, эти люди не были высоколобыми интеллектуалами, но работали на совесть, делали свое дело так, как они его понимали.
Прокуратура, милиция и суд – все состояли в одних профсоюзной, партийной и комсомольской организациях: судья, прокурор и следователь были коммунистами, я – комсомольцем. У нас были нормальные человеческие и деловые отношения. Конечно, в суде мы горячо спорили, сражались так, как и должны были сражаться по долгу службы, но никаких обид, никаких претензий друг к другу у нас не возникало. Все праздники мы отмечали вместе, знали жен-мужей друг друга.
В Погорелом было очень много неудобств, точнее, отсутствовали многие удобства, привычные тогдашнему столичному жителю и тем более нынешнему современному человеку. За время жизни там я сменил две квартиры, а на самом деле – два закутка в деревенских избах.
В первой избе я жил за загородкой в одной комнате с хозяевами-стариками. Внешняя стена моего закутка была одновременно и стеной скотного двора, так что я слышал, как дышит корова, хрюкают и чавкают свиньи, возятся куры на насесте. Уборная с выгребной ямой была у нас тоже на этом скотном дворе, дверь в него вела прямо из комнаты, которую я снимал у хозяев.
Хотя аромат, тянувшийся со скотного двора, был не слишком приятен, зато прямо под моим окном пели соловьи. Я услыхал их тогда впервые в жизни, а раньше себе это пение представлял иначе. То есть я совершенно серьезно думал, что они именно поют – ну, как поют великие певцы, наверное: если не басом и баритоном, то какой-нибудь колоратурой. А они в основном щелкали – и я был даже немножко разочарован! Но уже вскоре я ощутил всю прелесть этого доносившегося из кустов пения.
Электричество в поселке было местное – от движка. Этот движок давал неяркий мигающий свет в лампочках, а часто, когда запивал дядя Вася, работавший на этой «электростанции», света вообще не было. Так что дядю Васю старались как можно быстрее привести в чувство.
Посреди площади Погорелого Городища на столбе висел громкоговоритель. Помню, как к нам в командировку приехала одна адвокатесса (когда были групповые дела, я не мог работать один с несколькими подзащитными, и к нам выезжал какой-нибудь адвокат из другого района), и мы с ней шли по улице поздно вечером, а из репродуктора вдруг полились звуки фортепьянной пьесы из альбома «Времена года» Чайковского. Это было совершенно восхитительно. Представляете: мы шлепаем по грязи, моросит дождь, промозгло и слякотно, а сверху, сквозь шипенье и хрипы динамика, доносится музыка – «У камелька».
Живьем фортепьянную музыку, конечно же, в Погорелом мне слушать не приходилось. В клубе и на вокзале танцевали под гармошку. Вокзальные танцы были весьма экзотичными. Станция представляла собой деревянную платформу с деревянным же домиком, где располагались железнодорожная администрация и зал с буфетной стойкой для пассажиров. В углу этого зала стоял бачок с водой, к кранику которого была цепочкой приторочена металлическая кружка. С потолка свисали электрическая лампочка, засиженная сплошняком мухами, и «липучки», на которых покоились трупики мух и жужжали недавно прилипшие насекомые.
Танцы устраивались в этом зале, а летом – прямо на платформе, которая была освещена несколько лучше, чем зал. Помимо танцев, привлекал молодежь на станцию особый ритуал: мы часто ходили на железнодорожную станцию встречать и провожать поезд.
Скорый поезд Москва-Рига проходил, не останавливаясь, через станцию Погорелое поздно вечером. Меня всегда волновало его появление. Он возникал из-за поворота слева. Вначале появлялся свет его прожекторов, потом слышалось постукивание колес о стыки рельсов, и затем уже вырывался из леса локомотив с длинной вереницей сверкающих огнями вагонов – эдакий левиафан. Этот поезд проносился мимо нас, и мы завороженно смотрели в его окна, в которых пролетала перед нами, как нам казалось, блистательная и счастливая жизнь. Мы же оставались на грязной деревянной платформе, в грязных сапогах, вдалеке от света и блеска цивилизации. Возвращаться со станции нам предстояло примерно полтора километра по непролазной грязи.
Грязь в Погорелом, конечно, была не круглый год – зимой нас засыпало снегом. И я хорошо помню, как в марте, на Масленицу, судейские решили прокатиться на санях. При местном суде была лошадь, мало напоминавшая арабских скакунов, но исправно тянувшая летом телегу, а зимой – сани. Меня тоже вовлекли в затею с катанием и даже разрешили попробовать свои кучерские способности. Управлять лошадью до этих пор мне никогда не приходилось, но казалось очень простым делом. Кончилось же это все, само собой, тем, что я вывалил всех в снег. С визгом и хохотом вся компания выбиралась из сугроба.
Уехал я из родительского дома в Калининскую область с малюсеньким, чуть большим, чем портфель, чемоданчиком. Помнится, что лежали в нем три-четыре пары трусов, несколько пар носков, пара брюк, сколько-то рубашек, ну, и туалетные принадлежности: бритвенный прибор, мыло, зубные порошок и щетка. Вряд ли была какая-нибудь обувка помимо той, что на ногах.
Одет я был в перелицованный из отцовского пиджачок и пальтишко. Была еще и кепочка. Зимних вещей с собой не было, как почти совсем не было и денег. Получать зарплату я начал с первого же месяца стажировки в Ржеве. Составляла она 350 рублей – примерно столько платили стипендию в институте. Прожить на эти деньги было невозможно, едва хватало на оплату жилья. Спасали командировки: суточные иной раз доходили до 200 рублей в месяц, и это было серьезным подспорьем.
Когда я начал самостоятельно работать в Погорелом Городище, мои доходы несколько возросли. И я смог себе позволить приобрести кое-что из самого необходимого – а за полгода стажировки я поизносился изрядно! Вот я и купил себе новые трусы, носки и даже пару полуботинок. Теперь такие не сыщешь ни на барахолке, ни в музее. Это были белые парусиновые полуботинки, которые чистили не ваксой, а зубным порошком. Зубной порошок осыпался с парусины, оставляя белые следы на полу.
Замечательная обнова – мечта пижона!
Несмотря на столь значительные приобретения, в момент моего романтического знакомства с будущей женой я поразил ее внушительного размера заплатой на брюках, которую она увидела, когда я невзначай повернулся к ней, pardon,задом. Увы, на брюки я еще не заработал, а ведь к этому времени уже работал в Торжке, где получал побольше, чем в Погорелом (скажу, впрочем, что на исходе полутора лет моего пребывания там я в последний перед переездом месяц не заработал вообще ни рубля).
И все же это был прекрасный период – время познания жизни, общения с людьми, с природой, время становления профессионала, обретения самостоятельности, осмысления своего места в жизни и ощущения радости бытия и работы. Благословенно время молодости и познания мира!
У всех в Погорелом Городище были огороды, все держали коров, свиней, кур, кроликов – их разводили по причине плодовитости и неприхотливости: жуют себе свою травку и дают отличное мясо. Я состоял у своих хозяек (сначала у одной, потом у другой) на полном коште: я платил за кров, а они меня поили и кормили. Мне делали винегреты, варили или жарили картошку – все со своего огорода, кормили сметаной и поили молоком от своей коровы… Кроме того, были домашние яйца, время от времени резали петуха, раз в год – поросенка. В общем, в избытке была простая, немудрящая пища.
Но при этом: масла не было, сахара не было, о колбасе и сыре даже не мечтали. Поэтому время от времени мои новые коллеги и знакомые снаряжали меня за продуктами в Москву, что для меня всегда было приятным поручением. Коллективно собирались деньги на проезд – и в путь! Я привозил все, что было нужно и что невозможно было достать иначе как в столице. Порой же возил в Москву то, что там было или втридорога, или вовсе не достать – то гуся, то поросеночка молочного…
Ездил я на почтово-багажных поездах, потому что другие в Погорелом не останавливались. Когда билетов не было, я проникал в вагон за взятку проводнику и размещался на третьей полке рядом с узлами и чемоданами. Ехать до Москвы было около пяти часов.
В Москве я появлялся в своих знаменитых сапогах и телогрейке и шел в гости к кому-нибудь из своих друзей, которых мой наряд очень развлекал.
В Погорелом, на той же улице, что и я, наискосок от моего дома, жила женщина с двумя ребятишками лет по десяти на вид. Эту женщину все называли «немецкая овчарка». Услышав это прозвище, я был страшно удивлен, но вскоре выяснил, что во время оккупации она сожительствовала с немецким солдатом, за что и получила это прозвище – так называли женщин, которые сходились с оккупантами. Меня этот факт ее биографии потряс, а местные, хоть и дали ей такое неприятное прозвище, по всей видимости, совершенно ее не осуждали. Мол, в жизни каждый устраивается, как может. Она успела родить от немца двоих детей, и к ним в деревне вполне дружелюбно относились.
Повторяю: я был потрясен. Хотя я помню, какое удивление в свое время у меня вызвало отношение к пленным немцам в Москве – когда их вели по улицам нашей столицы, уже после Сталинграда. На них сбегались смотреть толпы народа, и я своими глазами видел, как некоторые женщины бросали хлеб этим несчастным людям, которые брели перед ними в своих ужасных лохмотьях. А ведь еще недавно эти жалкие и ничтожные пленные были безжалостными завоевателями на нашей земле! Но русские незлобивые бабы уже готовы были их пожалеть.
Но те же самые бабы могли быть при случае жестокими и несправедливыми…
Однажды появились у нас в Погорелом Городище две молодые девчонки – приехали после окончания Калининского педагогического института. Одна из них была преподавателем английского языка. А я тогда как раз хотел освежить свои неплохие когда-то знания английского. Самому заниматься мне никак не удавалось, а тут неожиданно и кстати – учительница английского! Мы встретились, познакомились, и я попросил ее со мной позаниматься.
Сначала она категорически отказалась: «Это как-то неудобно!» – думаю, что она просто заподозрила: за этим кроется нечто другое. Но я действительно всего лишь хотел заниматься английским, и в результате хоть с некоторым трудом, ее уговорил. Так она стала заходить ко мне домой и давать мне уроки.
Я уже рассказывал, что в избе, где была одна большая комната, я жил за тончайшей дощатой перегородкой. Насколько я помню, перегородка была даже не до самого потолка, а дверь в нее фактически не закрывалась. В этом уголке размещалась кровать с брошенным на нее сенником, то есть набитым то ли сеном, то ли соломой тюфяком, а от стены откидывался приставной столик. Это была вся обстановка моей «комнаты». Из стены еще торчали гвоздики, на которые можно было повесить какие-то вещи, под кровать я пристроил чемоданчик…
Вот в эти хоромы и приходила моя учительница, правда, всего три или четыре раза, а потом наотрез отказалась: все, больше она не может. Что?! Почему?! Оказалось – поползли слухи: мол, ходит к молодому одинокому мужчине. Для нашей деревни это было абсолютно неприлично – училка ходит к адвокату…
Не помогло даже то, что наши занятия происходили на виду и на слуху у хозяйки, которая, по существу, находилась с нами в одной комнате. То ли ее свидетельством никто не интересовался, то ли она сама сомневалась в подлинной сути наших отношений, а потому за нас не вступалась – но всей деревне, конечно же, было куда интереснее подозревать романтику (или пошлятину) в наших отношениях, чем видеть простую и скучную действительность. Так что девушка-учительница решительно прекратила свою преподавательскую деятельность.
Я не раз в дальнейшем сталкивался с нежеланием людей видеть простую и скучную правду – вымысел был для них интереснее и желаннее. Вот уж поистине, как всегда, прав Александр Сергеевич Пушкин: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»! Только порой именно вымысел был низменнее правды и не возвышал, а очернял и принижал. С этим же желанием выдумать, исказить действительность, приписать людям несуществующие недостатки, а иной раз и пороки, я встречался не раз и по уголовным делам, в которых участвовал. Чрезвычайно трудно бывало убедить суды в надуманности, несоответствии истине многих таких свидетельств. Ведь судьи – такие же люди, как и авторы этих измышлений, и они тоже – увы! – охотнее верят в дурные мотивы, чем в естественные и простые, а тем более – благородные.
А возвращаясь снова к воспоминаниям о Погорелом, скажу лишь, что вместо уроков английского я в итоге снова стал проводить досуг в местной чайной, где пил много пива, так как в тогдашних чайных было все, что угодно, кроме чая: пиво, квас, воды, какие-то жуткие вина и водка.
Не только пиво, конечно, занимало мой досуг. У меня к тому времени собралась уже неплохая библиотека – к сожалению, большая часть ее впоследствии в результате множества переездов была растеряна. Источником ее пополнения был маленький книжный магазинчик, куда приходила и периодическая литература, и книжные новинки. Тогда работала система справедливо-равномерного распределения всех благ просвещения, и в Погорелое Городище, которое было райцентром, по этой разнарядке исправно приходило хотя бы по одному экземпляру от каждого тиража издававшихся в Советском Союзе книг.
Спрос на них, скажем честно, там был невелик. Так что я очень быстро и без особой конкуренции стал получать все интересующие меня новинки, всю периодику, в том числе юридическую. Времени для чтения у меня было достаточно, а это занятие я любил с детства, но именно в Погорелом Городище я стал больше читать не художественную литературу, а специальную: и серьезнейшие монографии, и юридическую периодику – журналы «Социалистическая законность», «Советская юстиция», «Государство и право», Бюллетени Верховных судов СССР и РСФСР. У меня доставало времени не только просматривать их, но и изучать почти каждую публикацию, размышлять над прочитанным и узнавать новое и неизвестное ранее. Также вдумчиво я изучал каждое свое дело. И все это вместе в значительной степени помогало мне становиться, смею думать, настоящим юристом.
Но свободного времени все равно оставалось в избытке.
До того, как я оказался в Калининской области, я, по существу, не бывал на природе, не знал прелести собирания грибов и ягод, удовольствия рыбной ловли и охоты. Мое общение с природой ограничивалось летним отдыхом под Москвой в Быково или на море в Геленджике, Анапе или Ялте. В Погорелом же городище я впервые испытал радость пребывания в лесу, лежания в траве на полянке, рассматривания вблизи полевых цветов, всяких козявок, божьих коровок, стрекоз и бабочек. Я ходил по ягоды, научился собирать грибы и отличать поганки от белых и сыроежек. В Погорелом впервые в жизни мне удалось побывать и даже принять участие: в охоте, да еще в какой – на волков! Несколько раз ходил с местными жителями на рыбалку.
В нашей семье рыболовом был только Алексей Иванович Писарев, муж тети Иды и отец моего двоюродного брата Лени. Помнится, я в раннем детстве раза два ходил с ним на рыбалку, но мне это занятие показалось скучным. Здесь же, в Погорелом, были совсем другие ощущения, когда я сам впервые поймал рыбу. Помню, как неумело и чуть-чуть боязливо снимал ее с крючка, а она продолжала трепыхаться в моих руках. Признаюсь, что жалости никакой у меня к ней не было, напротив – появились азарт и гордость за новое умение.
В дальнейшем мне приходилось еще бывать на рыбной ловле. Меня брали в заповедные места под Калинином, и это было замечательным отдыхом и развлечением. Я даже научился забрасывать спиннинг, однако настоящим рыбаком так и не стал.
Теперешний мой водитель Сережа – страстный рыболов, и время от времени в наших совместных поездках мы говорим о рыбной ловле: он – как большой специалист, а я – как жалкий дилетант. Но все же мне приятно порой в разговоре с ним вспомнить, как у меня долгое время при бросании спиннинга получалась «борода», или рассказать о том, какую рыбацкую уху мы варили в те времена.
Я только в Погорелом впервые увидел, как пасутся стада – луга начинались совсем рядом с моим домом, туда выгоняли коров и единственного быка, который был моим врагом: он мне очень не нравился, и, по-видимому, я ему тоже – во всяком случае, он очень недоброжелательно на меня смотрел и даже пару раз пытался угрожать. Правда, до «драки» у нас с ним не доходило ни разу, обошлось.
В минуты досуга я с удовольствием наблюдал за нравами не только мелкой и крупной домашней живности, но и ухаживающих за ней пастухов и скотниц. Близость их к животным вызывала нечто вроде зависти к их умению достигать такого полного взаимопонимания с животным миром, к их такому естественному и необходимому труду.
Обидно только, что в Погорелом мне не удавалось поплавать вдосталь: протекающая здесь маленькая речушка, больше похожая на ручеек, была непригодна не только для плавания, но и для купания. Только в полноводье можно было слегка побрызгаться в воде, пару раз окунуться и проплыть несколько метров. Увы, это была не Волга и даже не Москва-река!
Глава 8
Первые серьезные дела
В Погорелом Городище я начал по-настоящему самостоятельную работу. Приходилось заниматься всем: разделом крестьянского двора, наследственными спорами, договорами займа… Несмотря на нарисованную мною буколическую картинку патриархальной жизни, были тут и кражи, и хулиганство. Хулиганили много, что и неудивительно – пили! Случались и убийства, причем довольно дикие.
Наиболее трагичным и трудным для защиты делом в Погорелом Городище было убийство одним из жителей села своей жены. Слушалось оно вскоре после того, как снова была введена высшая мера наказания [11]11
Смертная казнь в СССР не применялась в период с 1947 по 1950 г., но затем ее восстановили Указом Президиума ВС СССР «О применении смертной казни к изменникам родины, шпионам, подрывникам-диверсантам» и применили в знаменитом «Ленинградском деле». В апреле 1954 г. эту меру наказания распространили и на «неполитических» убийц.
[Закрыть]– смертная казнь.
Я изначально понимал, что это дело будут стараться подвести под расстрел: все формальные признаки для применения этой меры были налицо.
Во-первых, мой подзащитный был неоднократно ранее судим, причем с большими сроками наказания по очень тяжелым статьям Уголовного кодекса. Во-вторых, он нигде всерьез не работал. В-третьих, очень сильно злоупотреблял алкоголем.
Да и само преступление – убийство жены – выглядело очень страшным: он бежал за истошно кричавшей женщиной по улице деревни со штыком от винтовки, догнал и стал колоть ее на виду у всей деревни, пока не заколол насмерть. Потом вернулся к своему дому и поджег его. А там жили еще мать его жены и двое маленьких детей-близнецов. При этом старуху с внуками он выгнал на улицу, а сам схватил ружье и стал стрелять дробью в односельчан, которые сбежались на пожар в страхе, что огонь перекинется на их дома. В результате были ранены несколько человек.
Затем этот несчастный взял собаку и ушел в лес. Побродив какое-то время в одиночестве, он убил собаку, разломал ружье, вышел на дорогу, остановил проезжавшую машину и потребовал отвезти его в милицию: «Я – убийца».
Как видите, найти фигуру, более подходящую для смертной казни, было трудно! Дело слушалось в большом клубе в Погорелом Городище при огромном стечении народа. Требование государственного обвинителя-прокурора о расстреле покрыл гром аплодисментов.
Но вот председательствующий объявил, что слово для защиты предоставляется адвокату. Поднялся невероятный шум: люди кричали о продажных защитниках, требовали не давать мне слово… В общем, зал чрезвычайно враждебно воспринял саму возможность того, что этого злодея будут защищать. Я же видел перед собой живого человека и представлял себе, что по воле судей он вскоре может превратиться в бездыханный труп…
Председательствующий с трудом навел относительный порядок, воцарилась грозная тишина, которая готова была взорваться в любой момент. И в этих условиях я начал речь.
Надо сказать, что, несмотря на такие бесспорные формальные обстоятельства, дающие возможность применить к этому человеку смертную казнь, были и другие детали, которые лично меня убеждали в невозможности расстрела. И в своей речи я просто еще раз пересказал все обстоятельства жизни этого человека.
Ему было около 14 лет, когда началась война. Деревня, где он жил, недалеко от Погорелого Городища, довольно скоро была оккупирована немцами. Незадолго до оккупации во время бомбежки погибла мать подростка. Он остался вдвоем с отцом, который пошел на службу к немцам – причем был очень активным в этой работе, стал даже кем-то вроде бургомистра. Мальчик, который был воспитан в лучших советских традициях, был пионером, с отвращением относился к деятельности своего отца. Он переживал, стыдился, мучился и начал мелко вредить немцам. Однажды открутил несколько гаек у немецкого танка, на чем и был пойман.
Если бы он не был сыном немецкого прихвостня, его попросту повесили бы или расстреляли. Но его отдали отцу – разобраться и наказать, чтоб другим неповадно было. Отец, недолго думая, публично, на площади, мальчишку высек. На следующий день пацан убежал из дома.
Каким-то чудом он перебрался через линию фронта и оказался у наших, в прифронтовой полосе. В героических книжках о войне это было бы описано замечательно: подросток находит свою новую семью среди суровых воинов, становится сыном полка… Действительность же была совсем другой: мальчик вел жизнь голодного волчонка, прибиться ему было некуда, и кончилось все тем, что он попался на краже буханки хлеба из какой-то лавочки. Его осудили к лишению свободы. Так он в свои пятнадцать лет оказался в лагере. Это и само по себе испытание, а уж особенно в таком возрасте, да во время войны… Вскоре он попытался оттуда бежать. А в то время это рассматривалось как страшное, чуть ли не контрреволюционное преступление – ведь вся система лагерей тогда работала на оборону, а раз ты попытался уклониться от этой работы, то это уже саботаж. Его поймали и осудили снова, добавив срок.
В общей сложности он отсидел лет десять. Вышел на свободу уже после войны, в 50-е годы, самому же ему при этом было чуть больше двадцати. Он снова оказался возле Погорелого Городища: без средств к существованию, без дома, с жутким биографическим хвостом в виде многолетнего стажа в местах лишения свободы, без нормальной специальности – правда, научился в лагере кое-какому сапожному мастерству…
И вот он встретил женщину, старше себя лет на шесть. Это была первая женщина в его жизни, ведь он попал в лагерь совсем мальчишкой! Влюбился он в нее безумно. Сначала без взаимности, несколько месяцев она не отвечала на его чувства, но потом постепенно у них сложились отношения, довольно серьезные, они стали жить вместе. Она потребовала, чтобы он прекратил пить, устроился на работу… Вскоре женщина родила двойню – правда, это были не его дети: к моменту их встречи она была уже беременна. Он знал, от кого – от женатого директора местной школы, с которым она, конечно же, обещала прекратить связь.
Около двух лет пара жила довольно спокойно, если не сказать счастливо. Он бросил пить, стал работать сапожником. Относился к жене очень хорошо – он ее любил. Однако неожиданно он узнал, что она все это время продолжала встречи с любовником. Женщина каялась, обещала, что больше это никогда не повторится. Он простил, но снова начал выпивать и подозревать ее. А потом убедился, что подозрения небеспочвенны. Разразился скандал. В ответ на его упреки жена высказала все, что накопилось за эти годы у нее: она его не любила и не любит, с трудом преодолевает отвращение, живя с мужем, а любит все равно только одного мужчину – отца своих детей. И как он вообще может себя сравнивать с этим человеком – умным, образованным директором школы! А он кто?! И тут самые обидные оскорбительные слова сорвались с губ разъяренной женщины. Вот тогда он и схватил штык…
Я говорил в своей речи о том, что преступник пришел к своему преступлению через выпавшие ему на долю страдания и муку. Что его преступление было не продуманным актом садизма, а внезапной вспышкой сильнейшим душевным волнением, как говорят юристы, вызванным, мягко говоря, не совсем правильным поведением самой потерпевшей.
Я искренне верил в правоту своей позиции. Конечно, я не ставил вопрос о его оправдании, но при таких условиях смертная казнь была бы, на мой взгляд, вопиющей несправедливостью… он не такой злодей, как могло показаться по формальным признакам!
Надо отметить, что я всегда тщательно готовил свои речи и особенное внимание уделял концовкам – стремился, чтобы они были яркими, страстными и вызывали бы отклик в душе: слушателей. Помните, в какой обстановке я начал говорить? А теперь представьте: когда я закончил, снова раздались аплодисменты. Может быть, они не были такими громкими, как после речи прокурора, но все же…
К сожалению, это не подействовало на суд. И это было единственное дело в моей жизни, которое закончилось расстрелом преступника. Судья мне прямо сказал:
– Если не расстреливать таких, то тогда надо просто отменять смертную казнь – у него полкодекса обвинений, от убийства до поджога.
Помню страшное посещение моего подзащитного в тюрьме, уже после вынесения приговора. Меня пустили внутрь, в отдельную камеру – приговоренных на смерть уже не выводили для встреч с адвокатом. Я помню, как мы обсуждали возможности обжалования приговора, а он вдруг вскакивал, кричал, что ничего не поможет. Он бегал по своей камере, как зверь в клетке… Я всю ночь после этого не мог заснуть. Написал кассационную жалобу со всей страстью, на какую только был способен. Но ничего не помогло – приговор привели в исполнение.
После этого дела я впервые глубоко задумался о смертной казни, и вскоре всем своим существом ощутил неприемлемость и совершенную недопустимость такого наказания в современном обществе. Долгое время меня мучило воспоминание об этом человеке и не давало покоя сознание того, что его расстреляют по приказу не враги и даже не недоброжелатели, а равнодушные, незнакомые люди, сограждане. Расстреляют по приказу людей, которым, в свою очередь, другими людьми дано не принадлежащее им от природы право решать вопросы жизни и смерти. Ведь по религиозному учению даже самоубийство – грех. Человек не вправе распорядиться даже своей собственной жизнью!
С того времени я стал последовательным сторонником отмены смертной казни. Смертная казнь вредна обществу, она повышает уровень жестокости, не помогая при этом борьбе с преступлениями. Я уж не говорю о безнравственности узаконенного убийства, о многочисленных ошибках – осуждении на казнь невиновных, о статистике, подтверждающей, что число преступлений, за которые вводится смертная казнь, не уменьшается.
Все это широко известно, но, увы, люди, открыто ратующие за отмену смертной казни, и по сию пору получают свою порцию оскорблений, угроз, обвинений. Особенно возмутительны, на мой взгляд, требования не только сохранить смертную казнь, но и ввести различные изуверские ее способы. Я знаю, например, прозвучавший когда-то вполне серьезный призыв связывать осужденных преступников, прикреплять к их ногам камни и сбрасывать с самолета в Ледовитый океан – пачками, одного за другим! И делать это следует в назидание и воспитание людей, особенно молодого поколения…
Я же убежден, что присвоение себе обществом права убивать (не говоря уж об изуверских способах такого убийства), права распоряжаться чужой жизнью хуже: всего отражается на состоянии самого общества.
Еще в начале XIX века при президенте Джефферсоне в Соединенных Штатах поняли, что рабовладение портит белого человека больше, чем раба-негра, и оказывает самое вредное влияние на детей белых. Об этом же писал и наш гений Александр Сергеевич Пушкин: «Ребенок окружен одними холопами, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести» [12]12
Записка А. С. Пушкина «О народном воспитании», 1826 г.
[Закрыть].
Но в 1861 году крепостное право было отменено в России. Так неужели цивилизованное общество должно оставить себе присущее рабовладельцу право распоряжаться жизнью человеческой?!








