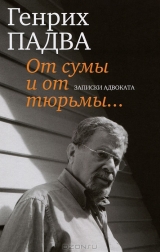
Текст книги "От сумы и от тюрьмы… Записки адвоката"
Автор книги: Генрих Падва
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Глава 3
Патрики
С моей двоюродной сестрой Аллой в детстве мы очень дружили, но, конечно же, и дрались – с переменным успехом. Точнее, так: сначала побеждала она, поскольку была чуть постарше и посильнее, а потом я подрос и окреп, но джентльменства не приобрел и начал побеждать. Тут она, по ее утверждению, поняла, что драться со мной смысла больше нет, и драки прекратились.
Детьми мы воспитывались одинаково, и родители у нас были почти общие, что не мешало нам быть все же очень разными. Кроме того, она же была девочка! Поэтому считалось, что если мы, например, подрались, то виноват всегда я. Если мы шумели, то виноват был тоже я. И когда плевались через макароны, то тоже автоматически виноват был мальчишка!
Тетя Бэлла была более сдержанной и рациональной, моя мама – более страстной, но обе они считали, что детей надо воспитывать, не слишком балуя и не слишком восхищаясь их талантами. И это тоже в первую очередь касалось меня! Алла прекрасно училась, была отличницей и окончила школу с медалью. Я же отличником был, как мне помнится, только в первом классе. А затем отличные отметки появлялись у меня только по большим праздникам. Естественно, Алку мне всегда ставили в пример, в наших ссорах она была права, я – не прав. Но я стоически переносил эту несправедливость, так что даже дядя Митя, Алкин отец, однажды сказал: «У Герки, видимо, в самом деле замечательный характер, если он при всем при этом сумел сохранить к сестре добрые чувства». Более того: когда пару раз все-таки за наши проказы доставалось и ей, я, как истинный рыцарь, вставал на ее защиту и не позволял, по мере возможности, ее обижать, всегда стараясь доказывать ее правоту.
Алка ныне – Алла Дмитриевна Егорова, профессор, заведующая кафедрой сценической речи Государственного института кинематографии. После школы она окончила театральное училище, но актерская карьера как-то не сложилась. Зато работа в Институте кинематографии, где Алла начала преподавать сценическую речь, помогла ей не просто найти себя, но и стать одним из ведущих специалистов в этой области. Она член «Речевого центра» и Методического совета по сценической речи Союза театральных деятелей.
В раннем, еще довоенном детстве мы с Аллой очень много играли вместе. Одной из излюбленных наших игр были дочки-матери – в нее мы всегда играли под столом: был у нас такой массивный квадратный стол, ножки которого внизу соединялись поперечинами… На эти, тоже довольно массивные, перекладины можно было усесться, разложить какие-то наши игровые принадлежности. Это было великолепное пространство для игр! Иногда к нам присоединялась и Инночка Левштейн. Благодаря этим моим двум подружкам наши общие игры того времени были, конечно, девчачьи. Мне не с кем было в тот период драться на деревянных шпагах, стрелять из игрушечных пистолетов, хотя тяга к таким игрушкам, конечно, у меня была.
Каким-то образом я сам делал деревянные сабли и деревянные же пистолеты. В чуть более позднем возрасте мне был подарен конструктор из железных деталей, с винтиками и гаечками, и я очень увлеченно создавал из них какие-то фантастические машины, подъемные краны и тому подобное. Однако большого количества игрушек я у себя не помню – меня с раннего возраста больше привлекали книги.
Чтение стало моим любимым занятием с того времени, как я научился читать, а произошло это сравнительно рано. Насколько помню, в семь лет я уже довольно свободно, хотя, может быть, и не очень быстро, но с удовольствием читал. Еще до войны, т. е. к 10 годам, я прочел многое из русской классики, например, почти всего Тургенева. Ну, а перед этим, конечно же, Маршака, Чуковского и, разумеется, читал и знал наизусть многое из Михалкова. Должен признаться, что, несмотря на неприятие его более поздних сочинений, стихи Михалкова для детей мне нравились и нравятся по сей день. Конечно же, с увлечением читал романы Купера, «Хижину дяди Тома» Г. Бичер-Стоу и много-много другого из зарубежной классики.
Я довольно рано прочел и очень любил русские народные сказки. У нас дома было академическое издание – два красивых, очень хорошо оформленных томика с подлинными русскими сказками, собранными у народных сказителей.
Думаю, именно эти книги привили мне любовь к чистому русскому языку, и потому я не очень охотно осваивал новомодные термины, словечки и заимствования из иностранных языков. Помню, однажды, после того как я произнес в Питере речь по одному громкому делу, ко мне подошла корреспондент санкт-петербургской газеты и сказала, как ей понравилось, что все было сказано «истинно русским языком». Этот комплимент остался в моей памяти как один из самых дорогих.
Однако еще раньше, чем к книгам, я проявил интерес к изобразительному искусству. Сколько себя помню, я обожал рисовать, а смотреть картинки было моим излюбленным занятием. Впрочем, это, пожалуй, свойственно почти всем детям. Ведь еще не научившись читать, книжки они именно рассматривают.
Помню, например, как ярко любовь к «картинкам» проявилась у моей дочери. Когда ей было от двух до пяти лет и мы с ней гуляли по улицам города, девочку не интересовали ни автомашины, ни трамваи, ни лошади, ни собаки, ни тем более люди. Зато у каждой витрины, украшенной какой-нибудь картинкой, она застывала надолго, и оторвать ее от созерцания именно изображений, а не самой натуры стоило больших трудов.
С первых классов школы я разрисовывал тетради и учебники. Став чуть постарше, я пытался перерисовывать картины и рисунки великих мастеров, особенно меня интересовала обнаженная натура. Помню, как мама, обнаружив у меня несколько «ню» собственного «изготовления», очень обеспокоилась и долго об этом шепталась с папой. А ведь это была всего лишь невинная попытка срисовать работы Ренуара, в чью живопись я был тогда влюблен! Беспокойство мамы, впрочем, вскоре прошло, потому что мои бумаги заполнились множеством карикатур, какими-то рожицами, руками, ногами и другими частями тела, а также предметами – жалкими попытками создания натюрмортов.
Но следующее мое увлечение повергло маму в полный ужас: начались рисунки танков, пушек, самолетов, ружей, сабель, солдат в погонах и тому подобного. То, что в раннем детстве я хотел быть пожарным, а затем милиционером, родителей не тревожило, а вызывало лишь снисходительную улыбку. Но в рисунках они увидели явные милитаристские наклонности, и это было принято почему-то всерьез – вероятно, потому, что уж очень не вязалось мое новое увлечение с мамиными, да и папиными пристрастиями и мироощущением. Это было воспринято даже с большей тревогой, чем обнаженная натура, но я вскоре, к радости родителей, «исправился» и вернулся к рисованию мирной жизни.
Уже взрослым я разрисовывал свои адвокатские досье (или, как мы их называли, – производства), отдавая немалую дань опять-таки обнаженной натуре. В давние годы работа адвокатов нешуточно контролировалась и Президиумом Коллегии адвокатов, и Минюстом, и различными специально создаваемыми комиссиями, куда часто входили представители прокуратуры, партийных и других органов власти.
Помню, как мои адвокатские производства попали в поле зрения члена одной из таких комиссий – прокурорской даме. Ее праведному возмущению не было границ. Она с негодованием демонстрировала изрисованные мною листки бумаги с записями материалов дела, полагая это свидетельством моей крайней безнравственности и легкомыслия. Моя обличительница с упоением распекала меня на заседании комиссии, вскрывая мою мелкобуржуазную и развратную сущность. Может быть, именно тогда, из чувства противоречия, у меня возникла идея собрать когда-нибудь коллекцию ню. Коллекцию я не собрал, но небольшое количество прекрасных рисунков обнаженной натуры у меня есть, и они украшают не только мою квартиру, но и само мое существование. Особенно я люблю рисунки великолепного художника, книжного иллюстратора Николая Попова, подаренные мне автором.
* * *
Гуляли мы в детстве чаще всего на Патриарших прудах. Тогда среди живших в центре москвичей была мода записывать детей-дошкольников в так называемые «группы». У нас была воспитательница-немка, бонна, которая гуляла с нами и разговаривала по-немецки. Вместе со мной в группу ходили, конечно же, Алка, Ирочка Жесткова из нашего дома и два мальчика, которые были сыновьями то ли маминых, то ли теткиных приятелей, – Юра Сарно и Шурик Мирошниченко.
Очень хорошо на Патриарших бывало зимой, когда можно было кататься на санках или на коньках, ходить на лыжах. Впрочем, лыжи я любил не слишком, а вот на коньках научился кататься рано и неизменно каждую зиму пропадал на катке – первоначально именно на Патриарших прудах. Коньки я иногда надевал прямо дома и так в коньках и шел – все же было рукой подать! По лестнице спускался на носках Коненков, звонко стуча по каменным ступенькам, а по переулку до прудов уже катился по заснеженной мостовой. Была у мальчишек еще особая забава: мы цеплялись за проезжающие грузовики специальными крюками и неслись за ними на коньках.
Летом же на Патриках была лодочная станция – там я научился грести, когда чуть подрос, и мы часто катались на лодках.
На углу Патриарших, при входе в сад, летом обычно стояла тележка, с которой продавалось мороженое. Порция такого мороженого в виде шайбочки из двух вафель с кругляшком мороженого между ними формировалась прямо при покупателе, и смотреть на этот процесс было замечательно интересно и радостно. Мне трудно описать тот механизм, при помощи которого создавалась порция мороженого, – его лучше всего нарисовать.
В мороженницу сначала помещали одну вафельку, потом ложкой на нее накладывалось мороженое, а сверху оно накрывалось другой вафелькой. Это нехитрое приспособление было снабжено «ножкой», которая позволяла изготовленную формочку выдавить. При этом были две формочки – одна побольше, другая поменьше. На большую мне денег чаще всего не хватало, и я довольствовался малой.
Полученную порцию держали пальцами за вафельки и слизывали мороженое между ними, пока оно все не исчезало во рту, после чего туда же отправлялись и вкуснейшие вафельки. Несказанное удовольствие доставляло и само приобретение этого мороженого, и наблюдение за ритуалом его изготовления, не говоря уж о его поглощении.
Сегодня такое мороженое можно увидеть разве что в кино. Например, в любимом всеми фильме «Место встречи изменить нельзя» оперативник Вася Векшин, изображая из себя блатного, идет на встречу с бандитом Есиным из «Черной кошки», лакомясь таким именно кругляшком мороженого, – только происходит это по сюжету на Цветном бульваре, а не на Патриарших…
Часто неподалеку от мороженницы стояла и другая тележка – с резервуаром газированной воды и двумя большими стеклянными конусами с сиропами. Внизу этих конусов были краники. Продавщица открывала их и на глазок нацеживала в стакан сироп, который потом разбавляла газированной водой. Можно было купить газированную воду и просто чистую, без сиропа.
Стаканов было обычно не более двух, и когда один из них освобождался, его ополаскивали холодной водой на специальном приспособлении – таком, какие позже были в автоматах с газировкой. После такой «дезинфекции» стакан вручался новому жаждущему попить. Покупка воды была для нас не меньшим удовольствием, чем покупка мороженого.
Странно, но не могу сейчас достоверно вспомнить, ходили ли трамваи по Малой Бронной от Садового мимо Патриарших прудов – там, где у Булгакова Аннушка разлила масло. Иногда мне даже снились такие трамваи: то ли я действительно их видел, то ли это было навеяно последующими литературными ассоциациями. О наличии этого трамвайного маршрута много лет спорят булгаковеды. Но даже старожилы тех мест вроде меня внести ясность в этот вопрос не могут.
Трамваи – это неотъемлемая принадлежность старой Москвы. Легендарный трамвайный маршрут «А», ласково прозванный москвичами «Аннушкой», проходил по Бульварному кольцу и связывал многие главные улицы и площади столицы. Мы не просто пользовались трамваями – мы их любили.
Хорошо помню наши поездки всей семьей в Останкино, где жили родственники дяди Мити, Севрюгины. Это казалось чуть ли не путешествием в другой город – ехать приходилось с пересадкой, на двух трамваях. Район тот был застроен старенькими маленькими домиками, сейчас они все уже, конечно, снесены.
Когда я был один, то ездил в трамваях исключительно на подножках. Но во время поездок с родителями приходилось вести себя прилично – впрочем, даже в этом случае никто не мог меня заставить сидеть. Как правило, я стоял на площадке или, на худой конец, внутри вагона, но именно стоял!
* * *
Когда мне было лет семь (кажется, я тогда учился в первом классе), мама с папой поменяли нашу маленькую комнату на другую, более просторную, в соседней квартире на той же лестничной площадке. Получилось, что мы из квартиры № 15 переехали в квартиру № 13. И тогда, и потом многие наши знакомые недоумевали: как же так, добровольно поменяться в «несчастливую» квартиру! Но мои родители, как и я впоследствии, никогда не были суеверны.
Поменялась с нами жилплощадью немолодая вдова, которой после смерти мужа большая комната была как бы уже и ни к чему… Представляете, насколько непритязательны тогда были люди – комната в коммунальной квартире размером 27 квадратных метров казалась в те времена ненужной роскошью!
Помимо материальной выгоды от переезда (родители, по-видимому, что-то доплатили за обмен на более просторную жилплощадь), вдова получила возможность расстаться с теми из соседей по квартире, с кем у нее не сложились отношения. Так что для нас всех обмен был хорошим решением.
Мне новое жилье представлялось просто огромным после нашей-то крошечной 12-метровой комнатки, где мы просто сидели друг у друга на головах! Но новая квартира родной до самой глубины дут и так и не стала… В ней не было коридора, настолько обжитого во время наших с Алкой детских игр, не было перелезания друг к другу через окно, не было больше совместных ночевок в одной комнате, когда к взрослым (в другую) приходили гости…
Эта новая квартира была для нашей семьи как бы ответвлением от старой, где наша жизнь продолжалась, как и раньше. Мама с утра до вечера пропадала там у тети Бэллы, а я вечно был с Алкой. И совсем немаловажный фактор – в квартире № 13 не было телефона, без которого я уже никакие мог обойтись: надо же было перезваниваться с друзьями, с девчонками! Конечно же, мне продолжали звонить по прежнему номеру, в квартиру № 15. А так как ее обитателям довольно быстро надоело ходить через лестничную площадку, чтобы позвать меня к телефону, то мы провели из той прихожей к нам, в 13-ю квартиру, электрический звонок. Когда к телефону звали Геру, соседи мне звонили в этот звонок, и я несся туда. Понятно, что у меня при этом оставался свой ключ от старой квартиры.
Зато была в нашей новой квартире особая достопримечательность, если так можно говорить о человеке, – в одной из комнат там со своей теткой жил дядя Сережа (или просто Сережа), чрезвычайно важная персона. Впрочем, его важность я оценил не сразу после нашего переезда, а уже после войны, в старших классах. В Москве, на улице Горького, в те времена существовал Коктейль-холл, в который мы с друзьями иногда захаживали. И этот самый дядя Сережа, с которым мы были в прекрасных отношениях, работал в нем «вышибалой». Поэтому я со своими друзьями всегда имел в Коктейль-холл беспрепятственный доступ – в обход бесконечных очередей, в которых люди летом подолгу парились, а зимой жестоко мерзли. Представляете, каким замечательным, важным и почитаемым человеком был для нас дядя Сережа?!
Его тетка, тетя Наташа, была добрейшим существом, очень хорошо ко мне относилась, и я порой, когда мне нужно было спокойно позаниматься, находил приют в их комнате…
За кухней, которая в этой квартире была проходная, располагалась комната (раньше это, очевидно, было помещение для прислуги), где жила еще одна чрезвычайно милая пара. Он был сапожником Большого театра, хорошим мастером, шившим обувь для спектаклей. Она – официанткой, но не простой, а очень даже «высокопоставленной»: обслуживала банкеты в Кремле, чуть ли не на Ялтинскую конференцию [3]3
Ялтинская или Крымская конференция – встреча глав правительств трех союзных во Второй мировой войне держав: СССР, США, Великобритании. Состоялась в Ялте 4–11 февраля 1945 г., в период, когда война против гитлеровской Германии вступила в завершающую стадию.
[Закрыть]ездила… Я и у них порой сиживал, делая уроки, когда у родителей были гости.
* * *
Но не надо думать, что все мое детство прошло в соседстве только с милейшими и добрейшими людьми. В квартире № 13 жила некая Вера, которая в полном смысле слова отравляла мамино существование. Когда я немного подрос и уже начал читать «взрослую литературу», я немедленно узнал ее в образе Гадюки. Помните начало одноименной повести Алексея Толстого? «Когда появлялась Ольга Вячеславовна, в ситцевом халатике, непричесанная и мрачная, – на кухне все замолкали, только хозяйственно прочищенные, полные керосина и скрытой ярости, шипели примусы. От Ольги Вячеславовны исходила какая-то опасность». Правда, конечно, в нашем случае до такой драмы, как у Толстого, дело не дошло [4]4
Повесть А. Н. Толстого «Гадюка» заканчивается убийством.
[Закрыть]– и слава богу!
С этой Верой у моей бедной мамы были постоянные скандалы. Как говорится, на пустом месте – типичные кухонные склоки. Причем только и исключительно с этой Верой, ни с кем из соседей такого безобразия больше не происходило. Мама порой плакала, папа ее успокаивал, иной раз пытался вступаться, чем только подливал масла в огонь, – это было ужасно! Конечно, уж я-то точно не могу судить, кто там был прав, а кто виноват, но судя по тому, что больше никогда и ни с кем таких конфликтов у моей мамы не было, не она была зачинщиком и этих ссор. А вот с Верой у нее (и, опосредовано, у всей нашей семьи) было непрерывное, агрессивное противостояние. И это несколько омрачало наше существование. Я думаю, что и вдова, поменявшаяся с нами комнатами, во многом именно из-за Веры приняла решение переехать.
Но было в новой квартире и кое-что приятное. Например, у нас прямо на кухне, лишь слегка занавешенная, стояла ванна и над ней – колонка, в которой грелась вода. Так что изредка там можно было целиком помыться под душем. Злоупотреблять, правда, этим было нельзя – трудно было свободно плескаться, когда на кухне фактически все время кто-то был! Но однажды, помню, к нам пришел дядя Митя, который мылся на нашей кухне под душем, причем очень этому радовался и декламировал Маяковского:
Ну уж и ласковость в этом душе!
Тебя никакой не возьмет упадок:
погладит волосы, потреплет уши
и течет по желобу промеж лопаток.
Глава 4
Война и мы
Когда началась война, мой отец, как я уже упоминал, ушел в ополчение. Дядя Митя был арестован за пораженческие взгляды, но довольно быстро его признали душевнобольным и отправили на принудительное лечение в спецбольницу – заведение закрытого типа, при органах госбезопасности, где было, конечно, несладко.
Второй мой дядя – Алексей Писарев, муж тети Иды – художник – был мобилизован, стал сапером. Он прошел всю войну и вернулся с фронта в звании, кажется, капитана, весь в орденах… Для меня, мальчишки, он был настоящим героем, глядел я на него с восторгом, а уж когда он однажды сказал: «Да ладно, называй меня на «ты» и без «дяди»», – моей гордости не было предела!
Редко встречаются настолько преданные искусству люди – всю свою жизнь он писал, писал и писал. Еще на фронте Алексей Иванович вступил в партию и был коммунистом, но совершенно при этом не занимался политикой, не изображал ни вождей, ни революционных сюжетов, а в основном пейзажи. Писал много старую Москву, Кремль. Не стал слишком известным, не получал громких наград, но был хорошим, искренним художником. Работал честно и много, с раннего утра уезжая в свою мастерскую. Любил очень свою жену и сына, Леньку, который тоже стал художником…
В эвакуации, таким образом, все три сестры (моя мама, тетя Бэлла и тетя Ида) оказались без мужей, с тремя маленькими еще детьми и стареньким дедушкой – своим отцом. Всем этим кагалом мы отправились в Куйбышев, где жила Надежда Алексеевна Егорова, сестра дяди Мити.
Я помню, как мы садились в поезд – это было что-то чудовищное. Толпы народу ломились тогда в эти поезда, и нашего дедушку передавали в окно, как какой-нибудь чемодан, что меня особенно потрясло.
У Егоровых была довольно приличная двухкомнатная квартира. Жили в ней Надежда Алексеевна, родная сестра Мити, и ее муж – военврач Николай Александрович. Но меня в первый же день заинтересовал третий член семьи – прекрасный эрдельтерьер по кличке Мусташка. В мои десять лет это было одним из самых ярких событий. Я всем сердцем полюбил этого пса.
Любовь к нему переросла в огромную любовь к собакам вообще. Мы гуляли, играли, зимой я его запрягал, и пес возил меня на лыжах или на санках…
С тех пор собаки в нашей семье были всегда. Вскоре после того, как я создал семью, в память Мусташки мы взяли эрдельтерьера по кличке Майкл, потом был боксер тигровой раскраски по кличке Бен. Был бесконечно мною любимый рыжий кокер-спаниель Антон. Он жил у нас, когда родилась моя внучка Алька, и мы боялись, как бы его шерсть, в изобилии покрывавшая не только самого Антона, но и всю квартиру, не повредила ребенку. Но он быстро понял, что ему нельзя входить в детскую комнату, поэтому только подходил к двери и ложился у порога. Это была замечательная, умная, преданная собака.
Сейчас с нами живет красавица лабрадор Рита. У меня, у дочери и у внучки живут кошки. Я помню, что перед самой войной у нас дома был котенок Пушок, о котором я вспоминал в эвакуации. Мне трудно себе представить жизнь без домашних животных. Я убежден, что людям, которые не понимают радости общения и дружбы с ними, что-то недодано судьбой.
Даже по меркам предвоенного времени жили Егоровы просторно, но все равно принять такое количество народу – это был подвиг. В эвакуации мы все, москвичи, жили в одной комнате: тетя Бэлла с Алкой, тетя Ида с сыном Ленькой, я с мамой и дедушка. Приезжала и жила недолго с нами старшая мамина сестра – тетя Катя.
Время от времени наезжали какие-то гости – то кто-то из друзей мамы или из знакомых и родственников. Это разнообразило наше существование, хотя довольно сильно осложняло быт.
Дедушка целыми днями лежал, молчал, думал какую-то думу. Как-то я спросил его:
– О чем ты думаешь?
– Я строю воздушные замки, – ответил он.
Потом ему пришлось долго мне объяснять, что «воздушные замки» – это мечты о красивой, беззаботной жизни.
Из-за дедушки со мной произошла ужасная история.
Я уже говорил, что все тогда жили очень скромно, а в войну – впроголодь. Мама с тетей Идой подрабатывали пошивом платьев, и вот то ли в уплату за эту работу, то ли просто в подарок нам принесли коробку шоколадных конфет. Конфеты были огромной редкостью и почти драгоценностью, а потому выдавались нам по строгому счету. И вот однажды я увидел, как дед взял из коробки одну конфетку. Я не придал этому никакого значения. А потом, когда тетки с мамой для каких-то целей принялись эти конфеты пересчитывать и обнаружили недостачу, подозрение немедленно пало на меня – ну а кто еще мог взять?!
Это было обидно: я был сорванцом, но не воришкой. Был жуткий скандал – не потому, что я взял, а потому, что не признавался. В то, что это был не я, никто не верил, и эта обида осталась во мне на всю жизнь. Конечно, не на дедушку, который непонятно почему не признался – ведь ему бы ничего за это не было! Не на теток, которые меня искренне считали виноватым. И тем более не на маму. Обида осталась на сам факт недоверия и невозможность доказать свою правоту.
Мои отношения с дедом или с мамой не изменились – нет. Но во мне окрепло какое-то особое чувство – наверное, своего рода обостренное чувство справедливости: я преисполнился убеждением, что нельзя, ну никак нельзя наказывать человека только по подозрению, не убедившись в его вине!
При этом «выдать» деда я тоже не мог – это было немыслимо: раз он не признавался, то и я сказать не имел права! Только через много-много лет, когда и дедушки уже не было на свете, я сказал маме, что ведь действительно не был виноват. Но она как-то странно равнодушно к этому важному для меня признанию отнеслась – наверное, не поняла, что для меня значил этот эпизод.
Как это ни странно звучит, по моим ощущениям мы, дети, были тогда, в целом, если не бездумно счастливы, то уж точно не несчастны. Я стал старше, у меня появились первые друзья, мы играли в какие-то игры, бегали в кино. Иными словами, у нас шла почти привычная жизнь, несмотря на войну. Даже к полуголодному рациону того времени можно было привыкнуть – благо, мы все же не голодали в прямом смысле этого слова.
Конечно, это было очень тяжелое время. Непрерывные слезы и переживания наших матерей, их тревога за мужей… Дядя Митя – в кошмаре психиатрической лечебницы, папа и дядя Леша – на фронте под огнем… Писем нет подолгу, а когда они приходят, то оказываются двух-трехмесячной давности, то есть успокаивают ненадолго, ведь за те месяцы, что письмо шло, могло случиться все что угодно.
Мы жили дружно, как одна семья, но все было на диких нервах. Помимо жуткого напряжения от неясности судеб мужей, накладывали свой отпечаток невероятная теснота, бытовые трудности…
Мы, дети, тоже как-то сопереживали происходящему, но, конечно, были защищены от ужасов войны своим возрастом. Да, мы скучали по нашим отцам, мы волновались за них вместе с нашими матерями, мы следили за передвижениями наших войск, ликуя при победах и переживая настоящие горе и ужас, когда в сводках сообщали о захваченных врагом городах, сбитых самолетах, называли цифры потерь. Но Бог или природа распорядились очень мудро, оградив детские умы от полного, глубокого осознания ужасов окружающей действительности. Мы занимались какими-то детскими делами, были поглощены своими переживаниями, событиями, ссорами, которые до сих пор хранит память.
Своего двоюродного брата Леньку я очень любил. Он был младше меня на семь лет. Еще до эвакуации, когда он трехлетним малышом властно требовал «буку ма» (то есть любимую булку с маслом), я уже чувствовал твердый мужской характер братца. В эвакуации он, несмотря на это, был во многом маменькиным сыночком. Когда его мама куда-нибудь уходила, он орал благим матом, и утихомирить его было нелегко.
С другой стороны, он проявил себя мужчиной, однажды рассмешив всех до невозможности. За неимением ванны и душа умывались в кухне:, над тазиком. Надежда Алексеевна, крупная женщина, обладала пышным бюстом. Однажды Ленька, которого по малолетству женщины еще не стеснялись, крутился на кухне и увидел Надежду Алексеевну, обнаженную по пояс. Чрезвычайно возбужденный, он прибежал к нам в комнату с криком: «Мама, почему у тети Нади спеледи два голба?» (букву «р» он еще не выговаривал). Тетя Ида, как могла, объяснила ему, а я не удержался от вопроса:
– А тебе что, не понравилось?
На что Ленька весело ответил:
– Понлавилось.
С этих пор у него было прозвище «два голба». Помню еще, как из окошечка туалета нашей квартиры мы выбирались на крышу соседнего дома. Там мы собирали осколки… не уверен, но, наверное, это были осколки снарядов.
Я хорошо помню школу № 6, где мы учились в эвакуации. Помню Струковский сад над Волгой (мы его называли Струкачами, да и сейчас, кажется, самарцы его так зовут). Многое помню, чего уж и нет теперь…
Помимо всего прочего, это ведь еще была и родина нашей родни, Егоровых. Отец моего любимого дяди Мити был некогда в Самаре купцом первой гильдии, почетным гражданином, богатейшим человеком. Он был там такой же фигурой, как в Москве Елисеев, и даже магазин его так и называли – Егоровский, как в Москве – Елисеевский. Мы не раз слышали об этом от взрослых, Егоровы рассказывали о своей дореволюционной жизни в купеческом доме. И нам с Алкой, конечно, было очень любопытно взглянуть изнутри на знаменитый магазин.
Снаружи мы его прекрасно знали, нам его сразу же по приезде показали – все старожилы помнили его как магазин Егорова. Более того, там и до той поры размещался магазин, но только не для всех, а для дипломатических работников. Мы туда зашли, но нас немедленно выдворили. Было это очень обидно – мы ведь просто хотели посмотреть!
* * *
А еще в эвакуации у меня появился враг – пацан с нашего двора, моего примерно возраста, который высказывался в том духе, что евреи все в Ташкенте и Куйбышеве, а воюют одни русские. Еще он время от времени употреблял слово «жид». В результате каждая наша встреча во дворе начиналась и завершалась дракой.
Не помню даже, пытался ли я его разубедить в его отвратительном антисемитизме. Но мне это было обидно невероятно, ведь отец мой в то время был в ополчении на фронте, а двоюродный брат, Володя Раппопорт, чистокровный еврей, погиб на фронте, причем погиб героически, подняв в атаку роту…
Так я впервые столкнулся с враждебностью не к конкретному человеку, а к целой нации, и тогда я впервые услышал слово «жид». Ни дома, ни в школе, ни во дворе, где, впрочем, я редко гулял, я до того ни разу не слышал этого. Тем более произносимого как ругательство, как оскорбление. Но к этому времени я уже знал, что немецкие фашисты проповедовали злобную ненависть к евреям и что их средства массовой информации агрессивно навязывали свою ненавистническую идеологию антисемитизма повсюду, куда достигали щупальца геббельсовской пропаганды.
К великому сожалению, ростки расизма дали обильные плоды. Что особенно обидно: эти ядовитые ростки пышным цветом расцвели в СССР, где антисемитизм стал на какое-то время государственной политикой. И хотя коммунисты всегда проповедовали интернационализм и лично Сталин в конце 40-х годов сыграл немалую роль в создании независимого еврейского государства Израиль, это сочеталось с гнусной антисемитской кампанией, развязанной внутри страны. Такова политика: одновременно как бы защищать интересы какой-то нации, протягивать ей руку помощи, а другой рукой подталкивать ее же к пропасти, ограничивая ее естественные права…
Тот мальчишка из моего военного детства стал для меня провозвестником антисемитизма. А потом, годы спустя, я имел возможность убедиться, что побежденная, раздавленная гадина фашизма пустила ядовитые ростки в победителя, который и взрастил их, и удобрил, и взлелеял с удовольствием и успехом, продемонстрировав еще раз тем самым свое кровное родство с побежденным фашизмом.
Я никогда не участвовал ни в каких еврейских организациях, на общественном поприще никогда не боролся с антисемитизмом, не выступал против него в печати и не очень любил разглагольствовать на эту тему, а просто, когда слышал «жид», бил по морде, и нередко, к сожалению, в результате сам бывал побит.
Меня это не останавливало, и в следующий раз я вновь бил по морде, не разбирая, кто был передо мной, – это было единственным средством, которым я позволял себе бороться за равноправие наций.








